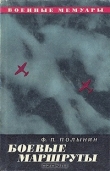Текст книги "Листопад в декабре. Рассказы и миниатюры"
Автор книги: Илья Лавров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 32 страниц)
– Дайте ему хорошенько! Дайте! – кричали вокруг.
– Чтобы не лез! Чтобы не лез! – тузила его по спине корзинкой старуха.
– Собака, у меня руки до сих пор трясутся! – говорил Ванюшка, счищая пыль с костюма Тарелкина.
– Орали тебе! – бормотал Юрка, испуганно сунув руку в карман: ему почудилось, что в суматохе у него выудили деньги.
– Ну, братцы, вот это номер! – радостно рассказывал Тарелкин. – Думал, крышка! Башка почти под колесом! По шпалам барабанит!
Оживленно разговаривая, они вернулись в «забегаловку». Идти в сад было нельзя – куртку на спине Тарелкина разорвало пополам. А потом как-то очутились у зеленых ворот Тулупникова. Глаза Тарелкина сверкнули, он огляделся по сторонам – было пусто. Вдали порой змеились молнии. Тарелкин возбужденно зашептал:
– Сейчас мы, братцы, малость пошутим. Палисадник на дорогу утащим!
Ванюшка захихикал, Юрка гоготнул, но Тарелкин замахнулся:
– А ну, цыц вы! Заткнитесь!
Все трое подхватили изгородь, рванули столбики вверх. Кряхтели, приглушенно фыркали:
– Вот черт, не поддается!
– Эх ты, муха! Дергай сильнее!
– Не смейся, дьявол, услышат!
Изгородь затрещала. Во дворе басом залаял пес, в комнате вспыхнул свет.
– Полундра! – вдруг благим матом заголосил Ванюшка и бросился бежать, но упал; Юрка налетел на него и рухнул на землю; Тарелкин засвистел по-разбойничьи. Во дворах залаяли собаки. Тарелкин, задыхаясь от хохота, удирал по дороге. На спине его взлетали лохмотья, сердце бешено колотилось. Эх, мощно! Вот это жизнь! А то киснешь, киснешь! От зеленой скуки на стенки начнешь бросаться!
…Он спал на раскладушке в сарайчике для дров. Тучи ушли. В распахнутую дверь печально и кротко смотрела низкая желтая луна. Общипанная ветка тополя перечеркнула ее, повесила перед ней темные листья, похожие на коровьи глаза и ноздри. Казалось, что сейчас, в глухой тишине, луна вздохнет шумно и длинно и раздадутся звуки жвачки. Пахло белой веселой березовой поленницей. Слышно было, как на ней иногда сонно переговаривались чем-то потревоженные куры.
И среди этой ночи, похожей на ночи детства, вдруг выступила перед Тарелкиным вся ерунда, из которой состояла его жизнь. Даже фамилия у него какая-то ерундовая, нелепая…
Когда он заснул, лицо его так и осталось сморщенным, точно он всю ночь сосал лимон…
Утром Тарелкин проснулся раздраженный. По выражению Ванюшки, «его на огуречики кинуло, на помидорки бросило». Голова болела, и на душе было тяжело, как всегда после пьянки. Словно натворил что-то омерзительное. И такой противной показалась ему собственная жизнь, что взял бы да и убежал куда-нибудь на край света. Живешь так вот и ничего-то не видишь, не знаешь, а потом загнешься – и все. Был или не был Тарелкин, никто и не сможет сказать.
Тарелкин заворочался. Он даже тихонько застонал от злости. «Москву и ту не видел», – неожиданно подумал Тарелкин. И так ему почему-то стало обидно, что он решительно сжал кулаки: «К чертовой матери! Поеду в Москву. На самолете полечу, вот и все! Отродясь не летал! Все равно деньги просвищу».
Тарелкину не хватало терпения долго размышлять, и поэтому, если ему загоралось, он обыкновенно восклицал: «А, была не была!» – и рубил сплеча. Так и на этот раз – часа через два у него в кармане уже лежал билет. Он даже сам иногда удивленно вытаскивал его и смущенно качал головой: «Ну и ну! Дела!»
– Куда тебя леший несет! – заголосила мать, всплеснув руками. – Не видали тебя в Москве, шалопута!
* * *
Белый самолет, взревев двумя моторами, вздрогнул и побежал по дорожке. Наконец толчки исчезли, самолет поднялся в воздух. Тарелкин даже побледнел от волнения и любопытства. Он по-мальчишески придавил нос к окну.
Внизу вытянулись ровные ремешки дорог, ломти кварталов, виднелись колодцы двориков, детские кубики домов. По ленточкам улиц бежали мышками автобусы, роились муравьями люди. Среди игрушечных домиков поднимались большие коробки многоэтажных зданий.
На сопках лохматой овчиной расстилалась тайга. Среди нее ярко желтели голые извилины – пути весенних и ливневых потоков. Удивляли своей четкостью зеленые, черные, бурые заплаты полей и круглые чаши озер. Виднелись замысловатейшие зигзаги и выкрутасы какой-то речонки. И, закрывая все это, внизу клубом дыма возникло облако.
– Ох ты, – пробормотал Тарелкин.
Облака все густели и густели, они потянулись пухлыми грядами. Иногда на них падали радужные полотенца – должно быть, солнце играло в водяной пыли. Самолет миновал пушистое белое поле, и опять открылся величавый синий простор с далекими караванами сияющих облаков.
– Ах, здорово! – шепнул Тарелкин. Он стер со лба испарину, закурил, огляделся.
В самолете сидело человек пятнадцать.
Шесть мест оставались свободными. Тарелкин вертелся, разглядывая бархатные кресла в парусиновых чехлах, сводчатый белый потолок с плоскими колпаками для лампочек. Пол застилала ковровая дорожка. Впереди таинственная дверь вела к летчику. Тарелкин жадно посматривал на нее.
Сбоку через проход сидел тощий, с лицом бледным, как вареная курица, заготовитель кедровых орехов в Чикойской тайге.
От высоты было больно ушам, и заготовитель заткнул их ватой. Иногда мягко падали вниз и опять набирали высоту. Ревели могучие моторы, вибрируя, жужжали все части окошек. Когда падали в «воздушные ямы», заготовителю мерещилась катастрофа. Он бледнел еще больше, и руки его судорожно впивались в кресло.
Заготовитель гулко сглотнул, поморщился, торопливо схватил гигиенический пакет и закрыл глаза. Тарелкин покосился на него озорными глазами и снова расплющил нос об окно.
По земле ползли черные тени от белых облаков. Облака густели и наконец под самолетом слились в сплошное белоснежное кипенье.
У Тарелкина все сильней и сильней болели уши, их закупорило, точно пробкой бутылку. Бледный заготовитель чуть постанывал.
Мимо окон бешено проносились пепельные тучки, самолет слегка болтало. Эх, какая бесконечная даль! И какой простор бесконечный! И как захватывает сердце! Мчаться бы еще быстрее, с ревом пожирая пространства! А тут уж от корабля до блюдечка-озера упала огромная радуга – здесь прошел дождь.
– Сила! Вот это жизнь, я понимаю! – вырвалось у Тарелкина, когда он повернулся к сомлевшему заготовителю.
– Бросьте вы, какая тут жизнь? – огрызнулся тот. – Одной ногой в могиле стоим! Не-ет, милое дело ездить на поезде.
Заготовитель совсем позеленел, глаза выкатились, и он ринулся в туалетную комнату. Тарелкин засмеялся, посмотрел на других пассажиров. Некоторые читали газеты, другие курили, беседуя, а кое-кто дремал, полулежа в удобных креслах.
Вокруг мчались темные дождевые тучи, а впереди – в прорыве – манило дивное синее сияние. В облака ворвались, точно в месиво густого тумана. Самолет взмыл еще выше и понесся над облачным полем. Оно дымилось.
Тарелкин все замечал.
Пронеслись над Улан-Удэ. Самолет порывами начал падать вниз.
Выйдя из самолета, заготовитель чуть не всхлипнул: до того было хорошо ступить на землю, до того здесь все было понятно, дорого и, главное, совсем безопасно.
– Вот это жизнь так жизнь! – слабым голосом почти пропел он Тарелкину. – Пойдемте, хватим коньячку.
Но Тарелкину сегодня даже думать было противно об этих буфетах. Что-то вольное и сияющее, как это небо, коснулось его. А может быть, действительно небо коснулось его души? И то охватывала радость, ощущение силы, то порывом ветра опахивала душу смутная, тревожная тоска.
Под крылом самолета стояли летчик и бортмеханик – в синих кителях и в фуражках с золотыми эмблемами.
Тарелкин смотрел на них с почтением. Это были молодые, статные ребята. Они держали себя уверенно, горделиво и казались Тарелкину особыми людьми. Ему очень понравилось, что они называли свой самолет кораблем. В этом слове была отвага и еще что-то такое, что с детства заставляло сильнее колотиться сердце.
В Улан-Удэ прибавились новые пассажиры. Тарелкин обратил внимание на хрупкую девушку с тонким и каким-то прозрачным лицом. И льняные волосы, и розовые уши, и пальцы, просвеченные солнцем, казались прозрачными. Бледно-золотистый струящийся плащ с клетчатым внутри капюшоном тоже оставлял впечатление прозрачности. Когда в самолете она сняла его, то оказалась, как школьница, в коричневом платьице с белым воротничком. Она села рядом с Тарелкиным.
Корабль ушел с земли.
На миг становилось весело и просто оттого, что совсем близко под кораблем мирно расстилалось что-то вроде пушистой белой степи. И вдруг среди нее появлялся темный прорыв, полынья, и Тарелкин видел под собой ужасающую глубь, на дне которой курчавились леса, извивались речки. Голова кружилась от этой бездны.
Он стал замечать среди облачного поля черные пропасти, пещеры, трещины.
Вот равнина исчезла, и облака теперь уже походили на занесенную снегом горную местность с эльбрусами и монбланами. Только у этих грандиозных хребтов не было твердости, – они были пушисты, легки, светоносны. Иногда хребты проплывали в уровень с окнами, поражая Тарелкина своим величием. Сердце его заныло, как это бывало порой при звуках музыки. Как будто он очень любил кого-то и вот расстался навеки, но нет-нет да и накатывают воспоминания, и сердце щемит, и хочется быть лучше, хочется быть другим.
Сейчас под ним жили облака и бездны, а над ним – небо и солнце. Видно, душа человека создана для свободы и, как только встречается с нею, так непременно отзывается.
Тарелкину показалось, что с ним и еще что-то случилось. Откуда взялось это особое легкое волнение? Рядом чуть слышно зашелестело платье, и он понял, что все время бессознательно чувствует соседку.
Тарелкин старался не смотреть на девушку, но ему все время хотелось смотреть на нее. Общительный и доверчивый, он повернулся и добродушно предложил:
– Хотите к окну? Интересно!
– Спасибо, – улыбнулась девушка. – Я уже летала, а вы первый раз. Вам интересней.
– Хм, откуда же вы узнали, что я первый раз?
– А вы нос придавливаете к окну, – засмеялась соседка. – Я даже знаю, что вас зовут Коля!
– Мощно! – удивился Тарелкин.
– И что у вас есть знакомая Лена! – веселилась девушка.
Тарелкин покраснел и убрал татуированные руки с подлокотников.
– Вы шофер?
Тарелкин повел плечами и засунул в карман пиджака купленную брошюру «В помощь шоферу».
– Глаз у вас мощный!
Тарелкин, не скрывая, смотрел на нее с интересом. Девушка была веселая, озорная, смелая. В Красноярске, прогуливаясь около самолета, он спросил:
– А как вас зовут?
– Васса.
И имя его удивило. И понравилось это имя.
Васса вела себя так просто и непринужденно, что они уже через пять минут смеялись и болтали. Тарелкин выяснил, что она работает в геологоуправлении, а в Москву везет какие-то документы и образцы открытых руд.
Тарелкин долго видел в невыразимой дали светлые могучие извивы огромного Енисея. Хотелось без конца смотреть на них. А когда они исчезли, охватила грусть. И если бы Тарелкин привык размышлять, он понял бы, что душе, кроме свободы, нужна еще и красота.
Все в нем незаметно изменилось. Он уже не так сидел, как час назад, не так дышал, не так курил, даже не так кашлял. Он все время чувствовал рядом человека, которому хотелось нравиться.
Смеркалось. Попали в дождь. По окну стремительно проносились водяные клубочки, разматывая водяные ниточки.
– Забавно! Все по-другому здесь! – воскликнул Тарелкин.
Вассе так нравилось это мальчишеское, искреннее восхищение, что она без смеха не могла глядеть на Тарелкина.
Совсем стемнело. Земля кое-где была посыпана горсточками огней, словно жар-птицы оставили в гнездах перья.
– Огни, огни! – выкрикивал Тарелкин.
И Васса тоже увлеченно и весело заглядывала в окно. Она вытащила из сумки ириски и угостила Тарелкина. Ему захотелось, чтобы этот полет не имел конца, не имел посадок.
На крыле вспыхнул зеленоватый огонек. И Тарелкин вспомнил, как ночами смотрел с земли на эти скользящие в немыслимой высоте зеленые и красные огни, смотрел и думал: «Кто там мчится, куда мчится?» И никак не мог представить людей в самолете.
Вот сейчас кто-нибудь так же смотрит с земли. И так же не может представить, что в этой таинственной, черной пропасти неба, в летящем корабле уютно, светло и в креслах дремлют люди. Сидит и он, Тарелкин, и видит, как на уровне корабля вспыхнула фиолетовая молния. Корабль стал набирать высоту. Ощущались его могучие, упругие рывки вверх. Молния прорывала мрак уже внизу.
И поразился Тарелкин силе человеческого ума, который построил этот корабль, а теперь во мраке ведет его к цели. Сидеть за рулем «Победы» и возить жену начальника на базар, часами валяться на сиденье, ожидая, когда Тулупников выйдет из кабинета! Разве можно его, Тарелкина, хоть как-то сравнить с этими орлами-летчиками, которые вели ревущий корабль за облаками?! Тарелкину стало ясно, что нет большего счастья, как вести подобный корабль, и если он не сядет за руль такой машины – значит, не знать ему счастья. Неужели жизнь не удалась? Неужели прозевал золотое время?
Тарелкин мрачно нахохлился, ломал спичку. Уж очень непривычными были новые мысли.
Вдруг их прервала огненная вьюга, что поднялась на черной земле. Рядом с Тарелкиным звездное небо было скромным, тихим и темным. Тарелкин удивленно смотрел на яркие огни, похожие на груды раскаленных углей от пожарища. Потом Тарелкин разглядел ровные огненные нити, линии, четырехугольники, очерчивающие проспекты, площади, кварталы.
– Вот и Свердловск, – над самым ухом Тарелкина прозвучал голос Вассы. Ее дыхание обдавало ему щеку.
– Да-а, Чико, Чико прибыл к нам из Порто-Рико, – задумчиво и непонятно пробормотал он…
* * *
Устроились в гостинице за сельскохозяйственной выставкой.
Тарелкину не терпелось скорее пройтись по Москве. Заготовитель, с которым он попал в номер, не умываясь, одетый сразу же рухнул в постель и захрапел так, точно его душили. Тарелкин побрился, переоделся в новый синий костюм и заглянул в номер к Вассе.
Сначала он решил проехать на Красную площадь, а потом уже весь день просто шататься по улицам. Васса торопилась в свое министерство.
– Тут заблудишься, пожалуй, – улыбнулся Тарелкин.
– Оставьте прихоть – ешьте курятину, – засмеялась Васса. – Держитесь меня – не пропадете.
Васса была в Москве несколько раз и поэтому чувствовала себя рядом с наивным Тарелкиным настоящей москвичкой.
Тарелкин много читал и слышал о метро, но, оказывается, не представлял и сотой доли того, что увидел. Эскалатор, уносящий в подземные дворцы потоки людей, цветные мраморные колонны, скульптуры, мозаика на стенах, бронзовые светильники, хрустальные люстры, кипение народа, нарядные поезда-ураганы – от всего разбегались глаза.
– Мощно? – опять передразнила Васса, следя, как он вертел головой, останавливался, глазел, путался у всех в ногах и не знал, куда идти…
…По Красной площади он шагал с наигранной уверенностью, решительно сдвинув пушистые брови.
И могучий древний Кремль, и торжественная площадь, и мраморно-зеркальный Мавзолей, отражающий задумчивые ели, и многоглавый храм Василия Блаженного, видавший многое на своем веку, – все это было так знакомо по картинкам, что оставалось удивительное впечатление: он здесь уже был.
Он стоял у храма и думал о царях, о Лобном месте, о Пугачеве, о Разине, об Октябрьских штурмах, пролетевших веках. И эта древность, и это величие властно звали его на необозримые просторы. Он еще не знал, что это за просторы. Он только слышал их несмолкающий зов. Да к этому еще присоединилось что-то теплое и немного грустное. Это вспомнилась Васса.
Переполненный небывалыми и, как ему казалось, торжественными и грустными, точно колокольный звон, мыслями, он бродил по шумным улицам.
На другой день Васса занялась служебными делами, а Тарелкин, по ее совету, пошел в Третьяковскую галерею. Он ходил из зала в зал, останавливался перед картинами, которые с детства были знакомы по репродукциям. На стенах висели десятки знаменитых картин. Особенно его тронули Репин и Левитан. Долго он стоял перед картиной «Иван Грозный и сын его Иван». Потом даже сел перед ней, не в силах оторваться от лица старика. Сумасшедшие глаза царя были полны ужаса и любви. Рука судорожно припала к виску сына, меж пальцев пробивается горячая кровь. Тарелкин полез в карман за папиросой, но вовремя очнулся и чинно сложил руки на коленях. Во всем теле была слабость, а руки слегка дрожали.
– Ну и ну! Дела! – обронил он вслух. Стоящие вокруг покосились на него.
В тихих залах безмолвно ходили одиночки, парочки, группы. Толпясь, они слушали каких-то седых женщин, которые рассказывали о художниках. Держась за руки, ходили влюбленные. С блокнотами в руках мелькали по залам непонятные люди. Молодые, старые, погруженные в свои таинственные мысли. И вся эта жизнь Тарелкину нравилась. Он чувствовал себя омытым, посвежевшим. В душе разгорался дерзкий, жгучий огонек: «А я что, у бога теленка съел?» И верил, что и он кое-что еще сделает, стоит только нажать, не упустить время.
А. на вечер Васса взяла билеты в Большой театр.
– Вам просто необходимо побывать там! – уверяла она.
Пышный, красно-золотой, многоярусный зал, наполненный зрителями, знаменитые певцы, опера «Кармен» – все это заставило Тарелкина мысленно воскликнуть свое «мощно». В темноте он крепко сжал руку Вассы. Девушка сердито повернулась, но, когда увидела восхищенное лицо Тарелкина, его глаза, улыбнулась.
Потом долго добирались до гостиницы. Не доходя до нее, так и повалились на скамейку: ноги подкашивались от усталости. Здесь было темно, небо стряхивало звезды, смутно белели цветы за решеткой Ботанического сада. Впервые прорезался узенький месяц.
– Здорово, что мы встретились с тобой, – задумчиво проговорил Тарелкин, переходя на «ты». Васса промолчала, глядя на месяц. – Замерзла?
– Чуть-чуть.
Он неуклюже стянул пиджак и подал его вниз воротником, так, что рукава мели по влажному песку, а из карманов посыпались медяки. Васса, тихонько и загадочно смеясь, набросила пиджак на плечи.
Тарелкину хотелось сказать многое похожее на стихи, но он стыдился красивых слов, да и не умел говорить их. Поэтому он только и смог с горечью пробормотать:
– Эх, оставь прихоть – ешь курятину!
Васса все смеялась тихонько и непонятно, точно знала какую-то тайну. Наконец сладко зевнула:
– Ноги уже не держат. Пора спать. Завтра на сельхозвыставку. И в дорогу!
Тарелкину словно иглой ткнули в сердце.
Стоя в открытых дверях темного номера, Васса подала руку. Тарелкин сжал ее тонкие, длинные пальцы. Васса дергала руку и все лукаво, еле слышно смеялась, а он не отпускал и тоже еле слышно смеялся, глядя в ее веселые глаза. А она делала вид, что ничего не понимает, и шептала:
– Сумасшедший, отпусти! Проснутся же все!
Он отпустил, и она уже из номера помахала рукой, шепнула:
– До завтра. Покойной ночи!
Тарелкин, счастливый и пьяный от всего, на цыпочках вошел в свой номер. Заготовитель уже спал. На полу у его кровати стояли три пустые бутылки из-под пива. На горлышко одной был надет стакан.
Тарелкин лег, с наслаждением вытянул ноги, закурил и, беззвучно смеясь, покачался на упругой сетке. И эта шаловливая улыбка Вассы, и ее борьба с ним, и холодная рука, и шепот сказали ему так много!
От руки пахло духами Вассы, и он положил ее на горячее лицо. Долго не мог уснуть, все мечтал о том, как славно теперь устроит свою жизнь. Придется учиться, много работать. Но это чепуха. Нужно только приналечь. И совсем он не съел у бога теленка. И не боги горшки обжигают тоже.
В темноте под потолком горела непонятная, таинственная звездочка. Тарелкин приглядывался, приглядывался и наконец вскочил, зажег свет и тут понял: на матовом шаре для лампочки играл отсвет далекого огня с улицы.
– Три тонны – по разнарядке… накладная, – забормотал во сне заготовитель.
Тарелкин уже хотел гасить свет, но вдруг увидел свое тело, покрытое синими рисунками и надписями. Ему стало не по себе. Даже на пляж с Вассой пойти невозможно – ей будет противно. Тарелкин остервенело щелкнул выключателем. «Болван! Скотина!» – ругал он себя и долго ворочался. Ему все мерещилось, что тело его измазано какой-то грязью…
Ночью ударили сильные заморозки. Осень почти обронила свое желтое оперение.
Едва рассвело, а Тарелкин уже мыкался по гостинице. В огромное окно он видел озябшие березки в хмуром рассвете. Легонький туман, как марля, висел между ними.
Тарелкин побрился, сходил в душ. Гостиница уже загомонила. Шнырял в своем колодце лифт, звенели телефоны.
В гостинице жило много иностранных туристов. Вот прошел африканец, черный, кудрявый. Его окутывала красивыми складками оранжевая ткань. На босых ногах деревянные подошвы с ремешками. За ним важно прошествовал очень красивый и очень сердитый католический священник в черной сутане. Смеясь и напевая, на диване сидели смуглые индийцы. Их прекрасные черные глаза сверкали. В красный, почти весь из стекла, автобус садилась группа чехов.
Наконец появилась Васса.
– Засоня, засоня! – Тарелкин тряс ее руку.
Но Васса была сдержанной и даже холодной.
– Значит, сегодня до дому? – Голос у Тарелкина принужденно-бодрый.
– Билет уже в кармане. – Васса настойчиво высвободила руку и слегка зевнула.
Тарелкин задумался. Нужно было что-то делать. Нужно было торопиться сказать. В общем, нужно было все выяснить… Слишком мало были вместе, как скажешь обо всем? Ведь не поверит.
– На выставку? – спросил он.
У гостиницы сели в такси. Пока ехали – молчали. Тарелкин горбился и перебирал в руках носовой платок.
Выставка, которая всех поражала, для Тарелкина в эти минуты была далекой. Он смутно видел аллеи, красивые здания, клубы, рощи. Торопливо прошел мимо знаменитых фонтанов «Каменный цветок» и «Дружба» и даже не заметил, что из водяных струй получался огромный кипящий сноп, который гнулся под ветром, окатывая фигуры танцующих бронзовых девушек.
Васса повернула к узорному павильону Узбекистана, но Тарелкин взял ее за руку.
– Потом.
– Я же уезжаю сегодня, – возразила Васса.
Они прошли в глухой уголок. Здесь был цветник. Сели на скамейку под рябинами. Ветви от ягод были словно в крови. Листья падали на голову, в клетчатый башлык, на плечи Вассы. Облака скупо процеживали солнечный свет.
– Еще хоть день не уезжай! – попросил Тарелкин, держа рябину за ветку. Изо рта его вырывались клубы пара.
– Зачем? – равнодушно возразила Васса.
Тарелкин взглянул на нее и оробел. Где эта шаловливая, светящаяся школьница? Рядом сидела строгая, чуть усталая женщина, намного старше, чем была вчера.
Тарелкин ощупывал листья, которые были уже мертвые и легко отделялись от ветки. Он искал какие-то особые слова и никак не мог их найти, а те, которые приходили, боялся сказать. И опять у него нелепо вырвалось:
– Зачем ты уезжаешь?
Васса усмехнулась.
– Странно. Ведь я работаю. А потом семья: сынишка, муж. Они ждут.
У Тарелкина вырвалась из рук ветка рябины, закачалась, в глазах зарябили цветы… И нельзя было упрекнуть. Ничего же не было сказано. И вообще ничего не было. Случайная встреча, это только он, Тарелкин, как мальчишка, что-то вообразил. Что-то померещилось ему небывалое в его жизни.
– Да… всякое бывает… – Тарелкин тяжело поднялся. – Пойдемте.
Он смотрел в ее лицо.
– Ты на гору, а черт тебя за ногу… Думал – теперь порядок. И вот опять забуксовал… – говорил сам с собой Тарелкин.
Васса смотрела на него, прищурив глаза.
Тарелкин попытался обнять ее, но она отстранилась и пошла. Оглянулась, лукаво помахала, как тогда в номере. Последний раз мелькнул ее бледно-золотистый плащ. Струясь, он тонко прошелестел, как листья под ногами, и скрылся за рябиновой рощей.
Тарелкин криво усмехнулся, снял кепку, вытер ею лицо, как вытирал после тяжелой работы.
– Был конь, да износился, – проговорил он. И медленно побрел, сам не зная куда.
Выйдя с выставки, остановился у огромной стальной статуи. Рабочий взмахнул молотом, крестьянка – серпом. Они соединили их над головами и стремительно, в могучем порыве шли вперед. За их спинами легко и буйно взлетали и развевались стальные одежды.
Тарелкин остановился.
Из-за голов, из-за серпа и молота на него летели облака, обгоняя идущие фигуры, и вдруг от движения облаков показалось, что стальная громада валится назад. Даже голова закружилась.
Тарелкин подумал, что и его жизнь так же вот валится, рассыпается. Но все было только обманом зрения: рабочий с крестьянкой неустанно шагали и шагали навстречу ветру.
* * *
Тарелкин вернулся домой скучный и сумрачный. Зашли к нему приятели, начали было хохотать, дурачиться, но Тарелкин хмурился и молчал. Ребята предложили нырнуть в «забегаловку», обмыть его приезд, но Тарелкин только отмахнулся.
– Да у тебя что – брюхо болит? – изумился Ванюшка.
Тарелкин долго, насмешливо и пристально разглядывал приятелей, а потом спросил:
– Ну, на кой вы леший живете, ребята? Неужели ни разу и не подумали об этом? Вот хоть бы ты, Иван, ну зачем ты появился на земле? Небо, что ли, коптить?
Ванюшка удивленно свистнул, а Юрка покрутил пальцем около лба: дескать, тронулся, мозги набекрень…
Дня через два Тарелкин принес Тулупникову заявление: просил освободить от работы.
– Ах, ах, ах! Видно, замучился, бедняга, целые дни читать романчики да спать в теплой, чистой машине, – по своему обыкновению начал язвить Тулупников.
– Надоело. И даже опротивело, – Тарелкин побледнел. – И жену вашу на базар надоело возить. И вас с дружками возить на рыбалку надоело.
Ему ярко вспомнилось: он мчится в немыслимой высоте, перед ним величавый синий простор с далекими караванами сияющих облаков.
– Не отпустите – убегу, – твердо заявил Тарелкин.
– Вечно ты выкидываешь какие-нибудь фокусы, – заворчал Тулупников. – Плохо тебе было у меня? А? Плохо? Целыми днями только баклуши бил. Ждал меня – вот и вся работа. Под моим крылышком у тебя не жизнь была, а разлюли-малина. Другие шофера ломают горб дай бог!
– Я подал заявление – и точка. Отчаливаю в неизвестном направлении. Документов не нужно. – Тарелкин плечом открыл дверь, ушел.
– Анархист! – взбесился Тулупников и схватил красный карандаш. На заявлении заклубилось размашистое: «Уволить».
…В вагоны с шумом и гамом садилось человек сто парней и девушек. Это студенты ехали на уборку урожая в молодежный целинный совхоз.
В купе к ребятам ввалился коренастый крепыш в клетчатой ковбойке с засученными рукавами, в синей спецовке с лямками через плечи. Красные яблоки оттопырили два нашивных брючных кармана. В третий, на груди, – втиснута книжка. За ухо заложена лиловая астра, за другое – папироса, а под кепку подоткнут карандаш.
– Привет вам, юность нашей страны! – проговорил он и швырнул большой рюкзак на третью полку. – Оставь прихоть – ешь курятину! – подмигнул он хорошенькой студентке, выдернул из-за уха астру и, галантно изогнувшись, преподнес ей цветок. – Дети мои, прошу вас отведать! Из собственного сада! – В разные стороны полетели яблоки. Парень так быстро выхватывал их из карманов, что казалось, будто сыпал из рукавов. Студенты ловили. Яблоки звонко хрустели на зубах.
– Ты, друг, из какого института?
– Откуда свалился в наше купе?
– Я – дикий, я – сам по себе… – Крепыш уселся и с наслаждением закурил. – Якорь поднят, плыву в совхоз.
– А какая у тебя профессия?
– Видите? – и парень показал жесткие ловкие руки.
– Ну и что?
– Как это – что? Они же золотые. Разве не видно? Им подавай любую работу!
Парень засучил рукав, и все прочитали дымчато-голубые слова: «Ты, работа, меня не бойся: я тебя не трону». Студенты захохотали на весь вагон.
– Оставь прихоть – ешь курятину! – кричал парень.
Все смотрели на него с любопытством. Поезд дернулся.
– Вот так-то, братцы, – уже серьезно сказал незнакомец и припал к окну. Высоко в небе громоздились мягкие, светоносные казбеки и эльбрусы. Между ними скользил черный крестик самолета. А в купе свежо пахло яблоками.
1956