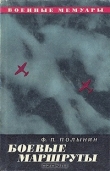Текст книги "Листопад в декабре. Рассказы и миниатюры"
Автор книги: Илья Лавров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 32 страниц)
Идут мимо Залесова толпы людей, и у каждого связано с Ферганой свое, неповторимое. И у него, Залесова, есть своя Фергана. Никто не видит ее такой, и никто не поймет, что она говорит его душе.
Середина марта. Деревья еще голые. Теплынь. Ослепительно сверкает солнце. Огромные тополя увешаны плюшевыми серыми сережками. Чуть дохнет ветерок, и они сыплются на асфальт, щелкая, точно крупные капли дождя.
Шлепнется плюшевый червячок, и над ним поднимется маленький клубочек желтоватого дыма – вылетит пыльца. Много таких дымочков возникает на дороге, на тротуарах, под тополями.
Утром побрызгал весенний дождик, и асфальт, мостовая покрылись черными кляксами – это красили размокшие червячки. Вся Фергана словно обрызгана чернилами. Червячки размокли в лужах, сделали их черными.
«Милая, милая», – говорит мысленно с Ферганой Залесов.
Всю весну что-нибудь да сыплется на нее. Деревьев такое множество, что зеленая пыль и горошинки семян засыпают все ямки, канавки, воду в арыках и даже плечи и волосы людей. Под каждым деревом зеленый круг.
Залесов беспокойно вглядывается в людей. Бывало, на каждом шагу его окликали, он разговаривал, смеялся. А теперь идут все незнакомые люди.
И только по-прежнему всюду чистят арыки, сажают деревца, окапывают и белят яблони и урючины. И только по-прежнему из садов вываливаются ватные клубы дыма, пахнет горелыми листьями.
Щемящая грусть переполняет душу, – в своей Фергане он оказался чужим…
…Тетя Лиза ушла к Стасе еще днем – помочь.
Наконец вечереет. Залесов подходит к воротам дома Стаси и чувствует – не в силах открыть калитку. Руки дрожат, и кажется ему, что он упадет. Как его встретят? Как ему вести себя? Что говорить? Что делать? И страшно, и стыдно, и уже Залесов жалеет, что приехал. Лежать бы сейчас в тихой самаркандской комнатке, листая печальный томик Блока.
Залесов проходит два раза по кварталу, выкуривает папиросу и наконец открывает калитку. И, хотя она широкая, пролезает с трудом, цепляясь ногами и свертком.
Во дворе старые посвежевшие абрикосы и груши. Они еще без листьев, но на них ясно видны набухшие почки, как будто деревья усыпаны ягодами. Над стройным вишневым деревцем трепещет звезда. Она то разгорается, увеличивается, то притухает, уменьшается.
Под вишней журчит струя из крана.
И почему-то кажется Залесову, что этого он вовеки не забудет.
Когда он нерешительно поднимается на каменное крыльцо, заплетенное сверху сетью виноградных лоз, дверь распахивается. Из шума свадебного вечера выбегают статная женщина в голубом и молоденькая, хрупкая девушка в белом платье.
Залесов растерянно смотрит на них, и рука его, как всегда, когда он волнуется, порывисто трет лицо, ощупывает скулы, дергает бровь, теребит ухо. Он беспомощно улыбается. Стася поражает его. Из угловатой девушки она превратилась в красивую женщину. Ее пышные темные волосы падают на плечи. Гордо и резко изогнутые брови говорят о силе.
Дочь свою Залесов узнает сразу – она похожа на него. Все в ней мягкое, нежное – и очертания узкого лица, и волосы, и взгляд, и голос, и движения. «Это моя дочь, – думает Залесов изумленно. – У меня дочь… Да полно, не сон ли это?»
Залесов растерян и не знает, что сказать.
– Здравствуй, Игорь, – Стася крепко пожимает ему руку.
Залесову ясно, что его приход не смутил ее, не взбудоражил. Она просто приветствует его как знакомого. В душе Залесова шевельнулась горечь.
– Вот, познакомься с дочерью, – говорит Стася и поправляет волосы Лиды.
Та вспыхивает. А Залесов думает: «Знакомит с собственной дочерью. Какой жалкий я в ее глазах». Он испуганно смотрит в лицо дочери.
Лида взволнована и старается разглядеть в нем все-все. Ее взгляд как бы говорит: «Так вот какой у меня отец!» И она смущенно протягивает руку.
Залесов не знает, как быть, и сначала целует руку Лиды, потом несмело обнимает ее. Ощутив гибкое тело, ощутив губами свежее лицо, он чувствует, как в душу мгновенно врывается нежность отца. Залесов гладит мягкие волосы дочери, заглядывает ей в глаза, а потом резко отворачивается.
– Успокойся, – тихо просит Стася и ободряюще треплет его по плечу. – Идем.
– Подожди. Вы идите. Я покурю.
Залесов отдает Лидочке подарки. Она хочет что-то сказать, но не находит слов и только улыбается.
– Вы идите, идите, – просит он. – Я покурю.
Мать и дочь украдкой переглядываются, как две сестры, и уходят.
Он торопится к крану, жадно пьет, умывается, вытирает лицо платком, закуривает и бродит по саду в сумерках, как будто что-то ищет.
Залесов думает о том, что эти две женщины могли бы стать его счастьем. Удивительно и непонятно, что у него такая дочь, что эта красивая женщина была его любящей женой и что она мать его дочери. И все же Залесов чувствует себя неразрывно связанным с ними. Он не знает, как ему появиться перед гостями, перед мужем Стаси.
Когда Лидочка выбегает и ласково берет его за руку, заглядывает в лицо, Залесову понятно, что она ни в чем не упрекает, не судит и старается все сгладить. Милая, чуткая, умная девочка! Он этого не забудет…
– Пойдем, папа, – зовет приветливо Лидочка.
И это слово «папа» изумляет. Впервые назвали его так, и он впервые понимает, что да, он отец, что за его плечами должна быть жизнь, полная дел и заслуг. Но разве все это есть? И он сжимается, чувствуя, что непоправимо испорчено что-то в его жизни. У него начинают мелко вздрагивать и губы, и руки, и даже ноздри.
– Пойдем, пойдем, – нежно звучит голос.
А за этими словами Залесов слышит: «Не бойся, никто не посмеет обидеть тебя».
– Ну, пойдем, показывай жениха, – отвечает Залесов, – ты в медицинском учишься?
– Да. На третьем курсе.
И голоса у них одинаковые, и лица похожи.
– А жених?
– Он уже доктор. Хирург.
– Как его звать?
– Алексей.
«И это разговор родного отца с дочерью», – думает Залесов.
Чувствуя смятение в душе, он входит в комнату, полную гостей. Они сидят за длинным столом, сплошь заставленным блюдами и бутылками. В другой комнате тоже стол и тоже гости.
Яркий свет, отброшенный большими оранжевыми абажурами с шелковыми кистями, освещает множество цветов на подоконниках, в углах, вдоль стен. Фикусы в кадках развесили над столами большие твердые листья. Зелень превращает комнату в оранжерею.
Муж Стаси, Илларион Витальевич Асташев, встречает Залесова у дверей.
Асташев худощавый, легкий. Он двигается быстро, даже грациозно, как танцор. Лицо его прожарено солнцем и опалено горячими азиатскими ветрами до черноты. На таком лице поразительны синие глаза и почти белые, выгоревшие волосы, спадающие на лоб. Даже на свадьбе он не изменил своей походной, спортивной куртке. Серая, шуршащая, кое-где припаленная у костра, она вся в карманах, в серебряных росчерках «молний».
– Познакомься, – говорит Лидочка Залесову, – это… – она запинается, – это Илларион Витальевич.
«Не может же девочка сказать: „Папа, познакомься с папой“», мелькает в голове Залесова. Он чувствует себя подавленным – столько во внешности Асташева своеобразия, оригинальности.
Двадцать лет Асташев проводит по раскаленной рыжеватой земле Ферганской долины каналы, арыки. Двадцать лет неутомимо ездит из кишлака в кишлак. Вода – кровь земли, говорят узбеки, и он дает хлопковым полям и виноградникам эту светлую кровь.
Когда Асташев размашисто и шумно входит в какую-нибудь колхозную чайхану и приветствует всех по-узбекски: «Хорманглар!» – «Не уставать вам!», все хлопкоробы, шелководы, виноградари с почтением кланяются, прикладывая руку к сердцу, и каждый спешит протянуть пиалу с зеленым чаем.
Асташев пожимает руку Залесова:
– Присоединяйтесь к нашему колхозу.
И Асташев ведет Залесова вдоль стола:
– Познакомьтесь, друзья: Игорь Ильич!
Кругом молодежь. Наверное, однокурсники Лидочки. На почетных местах тетя Лиза в новом синем платье с белым воротничком и пожилой полковник с седым ежиком волос и с постоянно слетающим пенсне.
Залесов пожимает горячие руки.
– А вот это, позвольте вам представить, жених, Алеша Капустин. Профессия зловещая – хирург. Лечить не любит, а сразу режет. Чик – и готово, без руки и без ноги. Это у них быстро!
Под общий смех перед Залесовым встает высокий, широкоплечий и солидный человек в светлом костюме. Но слегка курносое лицо совсем молодое, почти юношеское. Залесову нравятся его добрая улыбка и мальчишеские глаза. Алеша говорит сердечно:
– Хорошо, что мы познакомились с вами.
По этому тону Залесов чувствует, что Алеша все знает и тоже, как Лидочка, не судит.
– Прошу к костру! – размашисто показывает Асташев на стол.
Залесов понимает, что он привык к ночевкам в степи, что у костра он ест и спит.
– Штрафную! – Асташев наливает бокал вина.
Залесов тихо и мягко поздравляет жениха и невесту, чокается, выпивает. Он насторожен, чувствует себя неудобно, не знает, как держаться. А вдруг всем уже известно, что он отец Лиды? Но простота, сдержанность и скромность приятны и уместны всегда и везде. Поэтому Залесов и старается быть таким. И вдруг вспыхивает мысль: «Зачем пригласили? Я же в их глазах никто. Я не существую. Должно быть, я для них такой жалкий, что они могут передо мной великодушничать! Нарочно пригласили?» Он растерянно озирается.
– Ну, отец, гордись дочкой! – кричит полковник через стол и ловит пенсне, которое, сверкнув, падает и болтается на цепочке.
– Горжусь! – Асташев подмигивает Лиде. Он держит в одной руке трубку, а в другой бокал вина.
Все тянутся, чокаются с Асташевым и со Стасей.
Скрывая замешательство, Залесов тоже чокается. Он видит, как у тети Лизы сердито шевелится нос, ловит встревоженный Лидочкин взгляд. Стеснительной, жалкой улыбкой старается успокоить ее: «Ничего, ничего. Прости меня». Она тоже отвечает улыбкой: «Не волнуйся».
Залесов почти не пьет. Ему хочется думать о людях, о жизни, о себе. В душу вливается покорная печаль.
И хотя все заняты, поют, разговаривают, Залесову кажется, что на него порой пристально смотрят и Стася, и тетя Лиза, и Асташев.
Залесову представляется его присутствие здесь неестественным и даже нелепым. «Зачем я приехал? – в тоскливом смятении снова спрашивает он себя. – Кому это нужно?»
Чем больше молодежь шумит, тем больше нравится это хозяевам и тете Лизе. Большая, величавая, переходит она вперевалку от стола к столу, и громко звучит ее басистый смех. От нее не отстает полковник. Его старомодная галантность смешит студентов.
– Молодежь! Вам хиханьки да хаханьки, – говорит он. – А знаете ли вы, что это – золотые руки?! – Полковник целует большую руку тети Лизы. – Эти руки спасли мне жизнь! И не мне одному.
– Будет тебе, шальной! – Тетя Лиза смеется и треплет полковника по щеке. – Оглоблей тебя, оглоблей. За болтовню-то, говорун!
Полковник одним глотком осушает бокал.
– Ну и утроба у тебя, батенька! – поражается тетя Лиза. – Какие там еще руки придумал! Золотые, медные! Руки как руки. Гляди – толстые, почти мужицкие. Лекарством всяким пахнут. И всю жизнь я ворчу на свою работу. Надоело. Это вон Илларион без ума от своих канав.
– Грешен. Люблю журчащий ручеек, – откликается Асташев и со смаком сдергивает зубами с шампура кусочек мяса. Около Асташева лежит пурпурная горка стручков перца. Жутковато смотреть, как он откусывает чуть не полстручка. – Воду можно любить, как любят ее моряки, – продолжает Асташев, – но у меня другое. Струйка воды на раскаленной земле, а около струйки – зеленое деревце. Вот и вся картина моей жизни.
Залесов слушает, а сам не может оторваться от лиц Алеши и Лидочки – такие они свежие, озаренные.
Алеша и Лидочка задумчиво смотрят на свадебные бокалы и, покачиваясь, тихонько поют. Поют лишь для себя. Через открытое окно из весенней темноты, кишащей звездами, падают на них плюшевые сережки и липкие скорлупки от почек. Одна сережка залетела в бокал с красным вином, другая запуталась в волосах Лидочки, третья упала Алеше на плечо, высыпав зеленую пыльцу.
Стася поет цыганскую песню. Залесов оборачивается, – разве был у нее такой звучный голос?
В середине песни она начинает плакать. Песня веселая, но слезы все текут и текут. Стася смеется, обнимает Лидочку, а слезы все катятся.
Красивыми кажутся Залесову эти слезы матери, снаряжающей дочку в длинную дорогу. Он прячет глаза, поняв всю торжественность того, что совершается, и еще поняв, что сам он не имеет никакого отношения к этой минуте, к этой девушке.
– Эге, голубушка, это уж никуда не годится! – сердится тетя Лиза. – Кто же теперь отдает замуж дочку со слезами? Не к лютой свекрови отдаешь.
Стасе уже тридцать восемь, но выглядит она моложе. Красота ее фигуры, глаз, рук будто впервые открывается Залесову. «Как же это я раньше-то не видел?» – удивляется он.
Ему хочется взять ее за руку, увести в темный тихий сад и походить, вспомнить все, попросить прощения. Но это невозможно. Залесов, незаметный, сидит в уголке под фикусом, и ему кажется, что он всегда любил Стасю, но только не знал этого.
Подходит тетя Лиза и садится рядом.
– Ну, как Лидуська?
– И не спрашивай!
– Эх, ты… Оглоблей бы… – бормочет она и, толкнув его в плечо мягкой ладонью, тяжело уплывает.
Подсаживается Стася, уже успокоившаяся, и тоже спрашивает о дочери.
– Какой я отец! – вырывается у Залесова.
– Нет… Отчего же… – неопределенно тянет Стася и накручивает на палец тоненький платочек, словно бинтует ранку.
– Ведь все это могло быть моим, – показывает Залесов на комнату, на гостей, на Лидочку, на нее, Стасю, – ты понимаешь? Вот сейчас мне кажется, что я люблю тебя. Наверное, так и есть: сейчас родилась во мне любовь. Такая же, как у тебя когда-то была ко мне. Поменялись местами.
– Не дай бог! – Стася поводит зябко плечом, что-то вспоминая.
– Но не это главное. Страшно то, что все в жизни уходит. Безвозвратно уходит. Ведь как ты любила меня!
Стася отворачивается. Лицо ее становится сухим, холодным.
– Так меня больше никто не любил. И вот, где это все? Исчезло. И разве есть такие силы, чтобы воскресить все это? Кричи, умоляй, бейся о стену – ничто не поможет. Страшно. Есть ошибки, которые невозможно исправить. И молодость ушла. Какие силы вернут ее? И жизнь уходит. Чем остановить ее? Прозевал, все прозевал. Не хочу стареть. А старость подходит. Я же люблю молодость и вот не заметил, как она ушла. Бесследно ушла. Семью не сохранил. Новой нет. Дочь не воспитал. Дел никаких не оставил, – бормочет он точно во сне.
Стася наливает вино:
– Сухое. Ты, кажется, любил.
– Не забыла? – Залесов благодарно улыбается и торопливо пьет.
– Вот и друзья, сверстники исчезли, разъехались, изменились. Фергана для меня опустела.
Залесов смотрит в лицо Стаси, изумляется. «Нет, уеду завтра же, – решает он. – Гость на свадьбе своей дочери».
Стася спокойно скользнула взглядом по лицу Залесова и отошла. Боясь, чтобы не прервались мысли, Залесов ищет определение тому, что уже почувствовал. И внезапно из потока слов вырывается одно: «Болельщик!» Да, да, люди вели большую борьбу, а он только «болел» за них!
Первый раз за всю жизнь ему удается взглянуть на себя со стороны. А это нелегко. Мало ли людей так и умирают, не узнав себя.
«Нет, не приносил я вреда, – проносятся мысли, – но и пользы не приносил, а так – стоял в сторонке, наблюдал и восхищался. Даже собственную дочь не вырастил. Да ведь так-то оно и легче, болельщиком-то быть. Только вот конец у болельщиков всегда печальный. Жизнь мимо носа проходит. Бесследно проходит. Что я сделал? Что людям дал? „Ни сказок про нас не расскажут, ни песен про нас не споют…“»
Голая ветвь постукивает о подоконник.
«А ведь я всю жизнь любил эту ветку, но за всю жизнь не посадил ни одного дерева. Нет на земле моих деревьев. Но кто посмеет упрекнуть меня в равнодушии к этой ветке, к людям, к их делам? Никто. Я любил их горячо, восхищенно любил. А какой же толк в этом? Мало любить дерево – нужно его посадить».
Уже два часа ночи. Пора домой.
– Ну, будь здоров, – спокойно прощается Стася.
Залесову больнее всего именно от этого спокойного тона. Что бы он дал, если бы Стася была в смятении, в тоске!
– А может, еще посидишь?
– Чего уж… пойду. Лидочка не обидится, ты – тем более…
Залесов оглядывается, хочет проститься со всеми, но вокруг танцуют, поют, и никому нет дела до него. Пришел гость, и ушел гость, только и всего…
Темная ночь пересыпана трепещущими звездами. Весна как будто с каждой минутой набирает силы. Она пахнет все крепче и крепче, звезды разгораются все ярче и ярче, сережки и корочки от почек сыплются все гуще…
Залесов почти бежит, словно опаздывает куда-то. «Нельзя же так, чтобы погибла жизнь, – горячо убеждает он себя. – Подожди, не волнуйся, не все еще кончено. Еще можно посадить не одно дерево».
И представляются ему тетя Лиза, приникшая ухом к груди человека; Асташев на берегу своего арыка, под зеленым деревцем. А сам он, Залесов, стоит на вершине таежной сопки, ветер треплет бороду, уносит голубой дымок из черной, видавшей виды трубки.
Залесов, не заметив, перестает бежать, он идет, заложив руки за спину, точно дачник в саду. Мечтательно улыбается и думает о том, как откроет людям в тайге золотую долину. Эта мечта успокаивает.
1955
Листопад в декабре
Круглое лицо Сергея Томилина с беспечно вздернутым носом краснеет, делается сердитым.
– Нет, ты только посмотри, – показывает он на свои черные, давно не глаженные брюки и на ноги в брезентовых коричневых туфлях. – И это мастер первой руки! Это мастер, который славится в городе!
Томилин подбегает к провисшей складной кровати, хватает с нее сорочку и трясет перед лицом робко улыбающегося Кости Сметанина:
– Вот чем занимается дома этот мастер! Дыры зашивает! – Он сует в дыру ладонь. Ветхая сорочка расползается еще больше. – О, проклятье! – И Томилин швыряет сорочку под шаткий столик. – Осатанеть можно от этой холостяцкой жизни!
Томилин бегает из угла в угол, дымит папиросой, сует руки в карманы, вдруг рука проваливается в дыру.
– Вот, видишь?! – выворачивает он карман. – Любуйся! Носки продрались – сам штопай, дыра в кармане – сам зашивай, прачке платить нечем – сам стирай. Достукался! И главное, винить некого. Месячную зарплату бух в полмесяца! За квартиру уже черт знает сколько не плачу. Хорош гусь, что и говорить!
Томилин прыгает на подоконник, садится спиной к решетке.
Во всех ферганских домах на окнах решетки. Они делаются для того, чтобы в душные, жаркие ночи спать, не закрывая створок.
– Вместо пепельницы – консервная банка! – кричит Томилин. – А не пей, обормот, не пускай деньги в трубу, тогда и хватит зарплаты! Да вот беда – не люблю этих аккуратненьких, бережливых людей. Ну их к черту! Почему-то всегда хочется съездить им по уху!
Костя Сметанин смотрит на горячего, шального друга ласково.
Сметанин долговязый и неуклюжий. На нем новый серый костюм, купленный по дешевке сегодня утром на базаре. Из-за того, что костюм мал и красноватые кисти рук далеко вылезают из рукавов, а брюки открывают туфли и даже щиколотки, Сметанин кажется еще более долговязым. Коричневые же туфли ему велики, и поэтому их побелевшие, в заусеницах носки загибаются вверх, словно у клоуна.
Сметании стеснительно, кротко улыбается, близоруко щурит желтые, прозрачные глаза.
– Ладно тебе это… шуметь, – он подает сверток, – держи!
– Чего это, кум? – Томилин разворачивает газету.
– Тебе это. Костюм покупал и вот… выкроил.
– Э-ге! Шик-блеск! – восклицает Томилин, рассматривая голубую сорочку с серебряными полосками, от которой приятно пахнет новой материей. – А себе?
– А чего себе, и себе тоже…
Томилин распахивает его пиджак, треплет старую сорочку и грозит пальцем.
– А чего, чего… это… У меня и старые еще крепкие.
– Ладно, кум, получу зарплату – расплачусь.
– Будет тебе болтать-то! Еще какая-то расплата!
– Ах ты, Сметана, Сметана! – бормочет Томилин, взъерошивает его мягкие волосы и обнимает за плечи.
Томилин всегда зовет друга или кумом, или Сметаной.
– Эх, была не была! – Томилин соскакивает с подоконника. – Шагаем в змеятник!
«Змеятниками» Томилин зовет винные погребки, где оставляет зарплату.
– Понимаешь… это… денег кот наплакал, – бормочет Сметанин и выворачивает карманы. – Всего лишь четыре рублевки. Да и неохота. Пьяный, сумасшедший – одно и то же.
Томилин выворачивает свои дырявые карманы.
– О, доля бедняка! – произносит он, когда обнаруживает пять потертых рублей. – А может быть, пощупать карман у Талалай? Да нет, не даст, сквалыга. Я должен ей, как бывают должны в романах ростовщикам.
Томилин живет на квартире у Талалай. Она тоже работает в парикмахерской: подметает, моет приборы, подает салфетки, сидит в кассе.
– А если… это… плюнуть? Вино, змеятники… не люблю я, – робко произносит Сметанин.
Глаза у Томилина вдохновенно загораются. Сметанин знает: в такую минуту для него нет ничего невозможного.
– Снимай пиджак! – шепчет нетерпеливо Томилин.
– Зачем это? – недоумевает Сметанин.
– Снимай, тебе говорят! Гения всегда потом понимают.
Томилин сдергивает с друга пиджак.
Парикмахерская находится в пяти кварталах отсюда. Талалай осталась там мыть полы.
Под огромными густыми деревьями Ферганы темнота, а над вершинами светлый сумрак. Точно под косматыми ветвями осела черная гуща ночи.
Сметанин всегда ходит, глядя в небо, что-то упорно разглядывает в высоте. Походка у него ныряющая, необыкновенно легкая. Голова то выскакивает над толпой, то исчезает, и волосы то взлетают, то опускаются. Чем сильнее Сметанин задумывается, тем быстрее начинает идти. Наконец он замечает, что почти бежит. Но сейчас даже он едва успевает за Томилиным.
Запахло удушливой гарью: Талалай сжигает волосы, настриженные за день. Из трубы парикмахерской тяжело выползает желтоватый дымок и течет с крыши на землю извилистым густым ручьем.
– Замри здесь, – толкает Томилин Сметанина за ствол толстой чинары на берегу арыка.
Томилин начинает быстро приседать, его дыхание становится шумным, а лицо красным. Взлохмачивает белокурые волосы, дергает вниз «молнию» на куртке.
– Это… чего ты затеял? – изумляется Сметанин.
– Молчи и благоговей!
Томилин врывается в парикмахерскую, держа в руках пиджак.
– Евдокия Ивановна, – выкрикивает он, задыхаясь, – ради бога скорее… Ох… скорее… Фу-у…
– Господи, что такое стряслось? – пугается Талалай, стоя около умывальника. Ее пригоршни полны радужных, мыльных пузырей. Талалай торопливо обмывает руки и берет полотенце.
Она полная, шея в складках гармошкой, как голенище сапога у цыгана. Талалай была когда-то замужем за инженером и жила в Ташкенте, а после смерти мужа переехала к матери в Фергану. До сих пор она вздыхает о большом городе:
– Ведь там культура, а здесь деревня-матушка!
Говорить Талалай старается как можно «культурнее». Томилин в своей комнате часто слышит из кухни: «Наш кот не реагирует на мышей…», «У гусей нету даже тенденции идти домой…»
– Пиджак! Понимаете? Пиджак! – задыхается Томилин. – Во, совсем новый, мечта холостяка. Это вам не баран чихнул. И недорого. Сто я наскреб, – Томилин показывает уголки рублевок, зажатых в кулаке, – еще столько же не хватает. Выручайте! Бежал пять кварталов.
– Фу ты, сумасшедший, перепугал до смерти! Никакой организованности, – говорит облегченно Талалай. – Дай-ка посмотрю!
– Пальчики оближете! Вот так и повезет иногда человеку. Судьба! – машет Томилин пиджаком.
– И правда, приличный. Давно бы приоделся, а то эта тенденция шляться в змеятники… Деньги только пускаешь на ветер, – ворчит Талалай, роясь в большой сумке. – На, держи!
– Кланяюсь до земли. Скоро верну. Бегу! Ждут!
Томилин уносится, ошеломив Талалай бурным натиском. Он подбегает к Сметанину и машет перед его носом сотней. Сметанин покорно плетется за другом.
Поливальщики, засучив штаны до колен, запрудили камнями и землей арыки и, швыряя на дорогу ведрами и лопатами сияющую воду, полили улицу. Небо над ней еле видно. Стволы чинар, как могучие ряды колонн, поддерживают сплошной свод из ветвей. В лиственных тоннелях по-утреннему свежо и чуть сумрачно.
Маленькая деревянная парикмахерская окрашена в синее и белое. Под огромными чинарами она игрушечная, нарядная. Она вделана в решетку и стоит в парке, а дверь ее выходит на улицу. На крыше шапка из шуршащей покоробленной листвы. По стеклу большого окна белой краской написано «Парикмахерская». В окно видны два больших зеркала, в креслах двое мужчин с пеной на щеках; два мастера в белых халатах – Сергей Томилин и Костя Сметанин.
Томилин мрачный, сонный. Голова болит. Денег нет. Ну, что это за жизнь, спрашивается? Сам себе противен. Нельзя больше так жить!
Сметанин, не снимая халата, выходит из парикмахерской, садится под окном на скамейку. Она такая низкая, что острые колени едва не касаются груди. Сметанин весело и беспокойно смотрит на столовую, что виднеется за деревьями через дорогу. Зеленая краска на ней от жары потрескалась, и столовая стала чешуйчатой.
Солнечный свет прорывается между ветвями мощными прожекторными лучами. Они скрещиваются. Вся даль улицы рябится – сыплется множество листьев.
Удивительный город – Фергана! Это и не город, а громадные живописные заросли. Плещется множество арыков. Пахнет дынями. Воздух сверкает: он полон ослепительных лучей.
Сметанин, радостно вздохнув, чиркает спичкой и задумчиво глядит на огонек. И кажется, что он смотрит куда-то очень далеко, видит что-то хорошее, улыбается ему.
Огонек трепещет уже около пальцев. Из огонька торчит обгорелая, скрюченная спичка. Сметанин мотает обожженными пальцами и чиркает новой, освещает свою загадочную даль. О ней не знает даже Томилин. Есть вещи, о которых вообще невозможно говорить.
Сметанин опять мотает обожженными пальцами и ласково смотрит на чешуйчатую столовую.
Томилин видит в окно, как собираются мальчишки и лезут к Сметане в гремучий от грецких орехов карман. Костя преображается, хохочет, возится с ребятами. Он удивительно любит детей.
Приходит клиент, и Сметанин, возбужденный, влезает в маленькую дверь парикмахерской, подмигивает Томилину, хлопает по плечу, как бы говоря: «Ничего, брат, скоро и я…» Томилин кивает на столовую, грозит ему пальцем.
Прибегает из конторы рассыльная. Сметанина отправляют за десять километров, в Маргелан, стричь допризывников.
– Неделю… это… носа моего не увидишь, – говорит он и неловко сует Томилину два червонца. – На столовую… А змеятники… плюнь и перекрестись! – Он уходит своей ныряющей походкой.
Томилина и Сметанина всегда обслуживает официантка Зиночка. Это пышная крупная блондинка с румянцем во всю щеку. Карманы ее белого фартука оттопырены: из одного торчат скомканные деньги, из другого – звякающие ложки.
Зина иногда криво подписывает в меню: «Суп с гусёй», «Канпод». Когда «суп с гусёй» подает она, он бывает особенно вкусным.
Сегодня Зина как никогда привлекательна, и Томилин говорит:
– Вы, Зиночка, можете свести с ума.
Она улыбается и наивно спрашивает:
– Это почему же так?
– Вы такая красавица, взглянешь – ахнешь! Царевна!
Зина мягко и тихо смеется, ярко краснеет и смущенно отворачивается, потом взглядывает на него и опять отворачивается.
– Ой, да ну вас! Все вы такие! – И, забыв положить чайную ложечку, уходит, покачивая бедрами.
Глядя ей вслед, Томилин рассеянно размешивает сахар в стакане ножом…
Томилин бредет по дорожкам в желтой трухе от растоптанных листьев и думает: «А недурно, черт возьми, когда в твоей комнате поселится такая вот аппетитная Зиночка. Сразу станет уютно. Исчезнет одиночество. Не будет холостяцкой безалаберности».
Почему-то представляется, как Зина, улыбаясь, подает глаженую сорочку, теплую от утюга, пахнущую слегка паленым.
Он вспоминает о Сметанине. Костя дружит с Зиной уже с весны. «Таких, как Сметана, женщины всегда оставляют с носом…»
На другой день Томилин приглашает Зину вечером в кино.
Скамейки и экран огорожены высоким забором. Мальчишки вскарабкались на тополя, смотрят кинокартину с улицы. Поджаренные за день солнцем, стучащие листья кружатся над «залом», падают на зрителей, бросают на экран тени. Листья лежат на полных коленях Зины. Луна сияет над головой.
И все это для Томилина удивительно.
Он берет большую белую руку Зины и гладит. Он плохо понимает, что происходит на экране, а Зина спрашивает:
– Что это, артисты по-настоящему целуются? А вот вино пьют… так это настоящее вино? И они по-настоящему пьянеют?
Эта наивность восхищает Томилина. «Большой ребенок», – думает он. Интонации у нее тоже какие-то полудетские, непосредственные.
Выйдя из кино, они бредут по улицам. Вьюжится знаменитый ферганский листопад. Множество деревьев и садов высыпают и высыпают вороха листьев. На земле негнущаяся ломкая листва по колено. На крышах она как ржавые сугробы. На ларьках будто расстелены рыжие шкуры.
Через открытые окна листву наметает в комнаты, в постели, в шкафы. Листья падают в магазинах на чаши весов, в столовых – в тарелки с супом.
Листьев столько, что они запрудили арыки, и те разлились, кое-где затопили тротуары, мостовые. Ночные сторожа сгребают листву в кучи и жгут.
Под раскидистыми чинарами темень. Главная улица в буйных кострах. Клубится белый тяжелый дым, и пахнет горелым листом. Костры озаряют снизу стволы чинар и длинные свесившиеся ветви. Большие кожаные листья, не долетая до костров, вспыхивают в воздухе.
Зина слегка сонная, ленивая, мягкая. Она всему верит, молчит, лишь отвечает на вопросы. Когда они входят в особенно глухую, заросшую улицу, Томилин крепко обнимает Зину, целует.
– Ой, что это вы? Не надо! Как вам не совестно! – говорит она, вздохнув.
Томилин продолжает целовать ее. А она стоит с наивно-удивленными глазами. От ее горячих пухлых губ, от лица пахнет почему-то парным молоком. Руки покорно опущены, и даже губы не шевелятся. Томилину чудится в этом особая чистота.
Ночью, ворочаясь на раскладушке, он подыскивает оправдания. И, несмотря на то, что он находит их, перед ним все стоит Костя с кроткими глазами, со стеснительной улыбкой.
Томилин курит, пьет воду, снова курит. Не спится…
Прошла неделя. Талалай почувствовала – между друзьями что-то произошло. Когда она подметает волосы в парикмахерской, ее любопытные глаза так и шныряют, следят за ними.
Томилин молча бреет своего клиента, Сметанин – своего. Звякают ножницы, стрекочут машинки, слышно, как скребет бритва, срезая волосы.
Томилин боится поднять глаза. Ему кажется, что Сметанину стыдно за него.
Сметанин работает устало, точно ему тяжело двигать бритвой. Нехотя мнет в кулаке резиновую грушу и брызгает в лицо клиента шипящим одеколоновым дождичком.
Самые тягостные минуты, когда парикмахерская пустеет. Томилин начинает править бритву на оселке, хотя бритве и не требуется правка. Сметанин спешит выйти на улицу и садится на скамейку. Он беспокойно смотрит на пробегающих детей. Зажигает, как всегда, спичку, пристально смотрит на огонек. Он морщится, точно у него болит горло и ему трудно глотать.