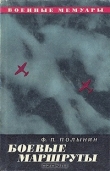Текст книги "Листопад в декабре. Рассказы и миниатюры"
Автор книги: Илья Лавров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 32 страниц)
«А как жить? И что такое жизнь? И на черта я появился на белом свете, если все равно впереди – гроб?» – задает он себе вопросы, и не находит ответа, и мучается от собственной слепоты…
Чуланову захотелось увидеть Катерину на работе.
Чайная, с веселым крыльцом под зеленым навесом на белых столбиках, с синими перильцами, с скрипучими ступеньками, стоит на самом солнцепеке. Она, казалось, потрескалась от жары. Возле нее несколько машин, значит, пиво есть.
В чайной, до потолка налитой жарким солнечным светом, Чуланова неприятно поражает увиденное и услышанное.
Возле буфета большая бочка с пивом покрыта мокрой клеенкой. Кто-то бросил мелочь: легкий гривенник поплыл, а пятак прилип. На клеенке тяжелые кружки: не вымытые – в оползающих пенных лишаях, вымытые – прозрачные. Толпятся знакомые шоферы. Стучит насос: качает рьяный доброволец Гошка Ремнев. Катя сует кружки под пенную струю. В такт насосу Ремнев напевает, веселится:
Она люлечку качает
И меня благодарит!
Шоферы негромко погогатывают. Катя, красная, сердитая, не смотрит на них, окунает в ведро кружки. По ее мальчишеским, с обгрызенными ногтями пальцам стекает вода.
– Катя, Катюшенька, лапочка, слышишь? – И Ремнев снова дурачится: – «Она люлечку качает…»
У Чуланова в глазах зарябило. Он расталкивает шоферов, подходит к Ремневу. У того частушка застревает в горле. Он хлопает серыми, густо пропыленными ресницами.
– А ну, выйдем, – говорит Чуланов.
Все затихли.
– А мне и здесь хорошо, – бормочет Ремнев, вытирая о грудь мокрые от пены руки.
– А там будет еще лучше, – Чуланов толкает Ремнева к дверям, завешенным от мух марлей.
Ремнев запутывается в ней, обрывает одну половинку.
– Дай ему, – слышит Чуланов голос Кати и хлещет Ремнева по шее; тот кубарем летит с крыльца. Вскакивает весь в пыли, пышущий трусливой злобой.
– Ты мне ответишь за это, падла! Попомни, – грозит он.
– Человеком надо быть, а не гадом! – рявкает Чуланов.
Гошка Ремнев шарахается в сторону. Его колючие волосы на арбузно-круглой голове, казалось, ощетинились еще сильнее, стали еще колючее…
Только возле Чибита, когда среди зеленых хребтов вдруг возникает белоснежная вершина, Чуланов успокаивается. Ему нравится это место, и он всегда поджидает его. Неожиданным выглядит этот снежный пик – зима среди лета.
Ближние зеленые горы раздвигаются шире, и становится виден целый заснеженный хребет. Несколько его вершин оранжевые от заката. Солнце еще не скрылось, а над снежными пиками уже висит прозрачная луна.
Чуланов ловит себя на том, что на душе у него становится хорошо, вроде бы празднично, точно он нашел ответы на мучавшие его вопросы.
Меркнут оранжевые вершины. Луна становится все ярче и как бы тверже. Она играет с Чулановым в прятки: то появляется над вершинами, то прячется за них, то трепещет в струях Чуи, вытягиваясь лентой, то возникает, круглая, твердая, на небе…
Возвращаясь из Монголии, Чуланов в Курае увидел в магазине красивое пальто вишневого цвета. Модное. Такие носят девчата в Бийске и в Барнауле. Он представил его на Кате и… купил. У трех знакомых шоферов занял деньги.
Приехав в Шебалино, загнал машину во двор возле шоферской гостиницы, умылся, поел в столовой пельменей и, зажав под мышкой сверток, направился к Кате.
Она, сидя у стола, штопает чулок, затолкав в него деревянную ложку, старуха лежит недвижно, повязанная платком, желтая, будто неживая; Темка сопит, крошечный, раскрасневшийся, должно быть, недавно выкупанный.
Газета вокруг лампочки свернута воронкой: свет падает только на стол, а вся комната тонет в полутьме.
– Не соскучилась? – насмешливо, тихо спрашивает Чуланов Катю и, развернув пальто, бросает его на кровать. – Носи! А этот балахон – чтобы я его не видел на тебе! – и он показывает на старенькое пальто на стене.
Катя даже не смотрит на привезенное пальто.
– Чего ты? Примерь, – начинает сердиться Чуланов.
– Не надо мне, – говорит она, не поднимая головы от штопки.
Тогда Чуланов велит Кате встать и бесцеремонно натягивает на нее пальто, застегивает, поправляет воротник, критически осматривает.
– Хорошее, но без туфель не звучит, – расстроился он. – Ладно, дело поправимое.
Он уходит. А через несколько дней привозит туфли и платье. И шарфик. И опять заставляет Катю все это надеть. Когда она все-таки переоделась в кухне, он входит к ней и расплывается в счастливой улыбке:
– Да ты, Катюха, оказывается, красавица! Вот так и держи нос кверху. Будь королевой, а не мокрой курицей!
– Чего тебе нужно от меня, чего? – вскрикивает Катя и неожиданно сдергивает с ноги туфлю, запускает ею в Чуланова, сдергивает другую и тоже швыряет ее. Чуланов едва увертывается. – Противен ты мне! Убирайся! – В лицо ему летит шарфик.
Чуланов радостно смотрит на ее бешеные глаза, на затвердевшее, злое мальчишеское лицо. А она уже срывает с себя платье.
– Ну-ну, что ты, что ты? Как это… Как же это противен?! Ты это брось! Я теперь к тебе по-другому…
– А я к тебе по-прежнему… Я тебе что – кукла?! – Платье комком шлепается ему в лицо. Сжав кулаки, перед ним стоит яростный мальчишка в девчоночьей голубенькой комбинации, босой, непримиримый.
– Вот, вот, Васька, правильно! – восхищенно орет Чуланов. – Подлецов всегда нужно бить. Хочешь, я сейчас сам раскрою себе башку?
Катя, остывая, смотрит на него удивленно. Грудь ее судорожно вздымается.
– А чего ты? Чего? Вон какого пацана имеешь! Знай себе цену. Не копеешная! – И он в каком-то умилении чувствует, что она для него сейчас все равно что этот забавный пацан или младшая сеструха. Милым, родным кажется и ее худенькое голое плечо, с которого сползла смятая лямочка, и голые мальчишеские коленки в царапинах. Все это такое беззащитное, что Чуланов думает: «Пусть только кто осмелится пальцем тронуть ее, голову тому сверну!»
В комнате раздается слабый стон старухи, невнятное бормотание, и Катя сразу же обмякает, садится на табуретку, облокачивается на стол и, уткнув лицо в ладони, шепчет:
– Маме плохо. Совсем уже не встает. Ничего на помнит. Даже меня иногда не признает. Наверно, она скоро…
Чуланов сует голову в дверь, смотрит в полутьму комнаты с лампочкой в газетном колпаке и разводит руками:
– Года уже… Тут никакие припарки не помогут… Заеду я на обратном пути. Ты береги пацана. Ишь, расквасил губы… Эх, Катюха, ничего ты не понимаешь! Ничего! – И он выходит.
7
На обратном пути ночь застает на тракте. Он извивается среди леса, то залитый луной, то покрытый мраком. Чуланов вспоминает о Кате, о сынишке. Его охватывает тоска по ним. И так ему уютно, тепло становится от этой тоски. Не один он теперь на земле. «Что это за штуковина со мной? А? Колька Снегирев! Не такое ли и с тобой жизнь учудила?»
Эти мысли сливаются с ощущением алтайской ночи. По берегам рек пылают далекие костры скотогонов, сыплют в небо искры, а небо кидает на землю звезды. Они устремляются навстречу друг другу. Огни фар бьют в скалы, скользят по склонам гор. Из-за хребтов встает лунное зарево. Порой луна выползает, и на ее фоне четко чернеют вознесенные хребтом маленькие ели. Оттого что Чуланов едет, эти крошечные елки бегут по ней. С перевалов он видит, как далеко внизу катятся по извивам тракта огоньки. Идут машины. И захотелось ему к людям, нестерпимо захотелось с кем-нибудь переброситься словом. «Заеду к Багрянцеву», – решает он.
Скалистый, смутный в темноте проплывает Белый бом – огромная стена обнажившегося мрамора. Машина сворачивает с тракта, идет вниз к Чуе. Чуланов видит освещенное окошко и золотой проем открытой двери. Там, в избе, у печки сидит метеоролог Багрянцев. Из кромешной тьмы невидимые собаки облаивают машину.
Хозяин радушно встречает аракой, медом, вкусной облепихой. Сокрушается, что не может выложить на стол маралье мясо, медвежатину: не ходил еще на охоту.
– Ничего! Не велик барин. И без мяса обойдусь, – басит Чуланов и чувствует себя почему-то счастливым. Все ему кажется сейчас хорошим: и шестидесятилетний богатырь-хозяин, после бани босой, в нижней рубахе, и его молодая жена, смугло-румяная алтайка с глазами, как арбузные семечки, и простая деревенская изба, с печкой, со столом под синей клеенкой, с двумя охотничьими собаками на полу, с ружьями на стене, с гитарой и мандолиной над кроватью, с запахом укропа и смородинного листа. Он с удовольствием пьет араку, приготовленную из молока. Она прозрачна, у нее вкус сыворотки. Чуланов любит заезжать в этот дом – передохнуть, покурить.
Все тоскуя о Кате, он неожиданно восклицает:
– Михаил Порфирьич, на черта я появился на белом свете?
Рыжий сеттер подходит к хозяину, кладет ему на колено красивую голову. Багрянцев гладит ее, перебирает длинные бархатные уши и отвечает:
– Зачем? Да просто жить! И работать. И в ножки кланяться папке с мамкой за то, что они подарили тебе этот белый свет. И понимать его! Чувствовать! И делом своим улучшать. Так, что ли, старик?! – кричит он сеттеру, поднимает его и целует в морду.
Чуланов удивленно и радостно смотрит на него. Жена подает Багрянцеву гитару. Он бьет по струнам и вдруг запевает сильным, чуть-чуть хрипловатым голосом.
Чуланов никогда не слышал эту песню. Неужели Багрянцев сам сочинил ее? Начиналась она словами: «Тайга! Тайга! Какая злая!» Песня рассказывала о потерянной любимой, которая живет далеко за хребтами, на берегах Чолушмана.
«Где ты греешь свои рученьки? У какого костра-очага?» – поет-вопрошает сильный голос, стараясь перебросить призыв человека, его любовь через хребты. И ударяет эта песня в самое сердце Чуланова, свежо становится на душе, будто окатил его ливень.
Багрянцев поет самозабвенно и как-то лихо, хотя в песне тоскливые слова о потерянной любви, об отгоревших кострах. Песня не тягучая, не заунывная, она кипит горным потоком, она не оплакивает, а призывает, гитара гремит всеми струнами, певец даже улыбается. Должно быть, он этой улыбкой, лихостью пения хочет прикрыть, спрятать какую-то свою тоску. Но от этого она становится только пронзительнее. Глаза на улыбающемся лице печальны и серьезны.
Молоденькая жена смотрит на него ревниво.
– Эх! – вдруг вырывается у Чуланова.
Он вскакивает и тяжело вываливается в открытую дверь, в густую тьму; лязгает дверца, вспыхивают фары, и машина потащила возы-корабли.
И опять пылают далекие костры скотогонов, стелется под колеса тракт, бегут по диску луны маленькие черные елки, похожие на сложенные, но не завязанные зонтики. А в ушах все звучит: «Где ты греешь свои рученьки?» – и в душе теплится благодарность судьбе за то, что она подарила ему таежный Алтай, привольный Чуйский тракт, сынишку с Катей, встречу с красавцем Багрянцевым и с его песней среди глухой ночи у подножия белой мраморной горы…
1967
Алая осинка
Осень нынче выдалась теплая да солнечная. И ветреная-ветреная. Среди темного бора осиновая и березовая роща излучала жарко-желтый свет. От палых листьев несло винным брожением, дрожжами. С черемухи на лиловые рябинки, с рябин на багровые боярки пересыпалась птичья мелочь: пестрые щеглы, красноголовые серые чечетки, зеленые синицы. Они тенькали, посвистывали, пищали. Из сохнущей травы смотрели на них «вороньи глаза» – синие ядовитые ягоды.
Ветер трепал рощу и уносил в чистое небо стаи сухой, гремучей листвы, наметал ее в колеи дороги и сыпал на черное зеркало озера.
Среди этого шуршащего смятения горела осинка. Все были желтыми, а она алой, все были статными, а она тоненькой. Когда ладонь человека охватывала стволик, ее пронизывали ледяные иглы. Она боялась, что человек согнет ее и она щелкнет, как выстрел, и упадет, словно подстреленная. Она слышала и видела, как убивали охотники. Но главная беда осинки заключалась в том, что вся роща была желтой, а она – алой. Так и пылала на ветру, яркая, огневая. Люди останавливались, смотрели на нее, тянули к ней цепкие, сучковатые руки, срывали красные листья, обламывали даже веточки и ахали, называя человеческим именем «красавица».
Осинка понимала, что все дело в ее красных листьях. Из-за них ей делали больно и из-за них же ее вообще могли выкопать и увезти в далекий дымящийся город.
При мысли о разлуке с лесом она вся содрогалась и хотела скорее избавиться от листьев, выставляя ветви на ветер. Но листья не хотели расставаться с осинкой, зная, что они без нее будут просто мусором, а она без них – голой дурнушкой.
И не только красота делала ее несчастной, но еще и любовь к лесу. Она так и побегала бы в его чаще, где в сухой траве горят багряными звездами листья костяники.
Сначала бы помчалась к речке. Речушка бурлит где-то близко за соснами, за кедрами. К ней ходят все звери и летают все птицы – они не нахвалятся ее чистой водой. Осинка побегала бы и по сухим овражкам, засыпанным хрустящими листьями. Заглянула бы на светлые поляны, по которым прыгают зайцы, наполовину белые, а наполовину еще серые, на болотце, где живут журавли и утки – ветер иногда доносит их крики. И уж конечно сбегала бы к узкому черному озеру. Оно виднеется между березами и елями. На другом его берегу живет целая роща таких же, как и она, красных осин. Сейчас озеро не черное, а пестрое: там, где склоняются над ним желтые березы, вода стала желтой, где заглядывают красные осины, сделалась алой, а под густыми соснами она зеленеет…
Но не может осинка сдвинуться с места: навечно схватила ее за стройную ногу земля. И от этого она порой мечется и бьется о плечи соседок, стараясь вырваться из плена. «Не дури, не дури, – шепчут ей ближние березы, – в земле твоя жизнь». А она ничего не хочет слушать. Раздирая на ленточки свое красное платьишко, заламывает ветви, простирает их то в одну, то в другую сторону, точно где-то гибнут ее дети, а она не может вырваться к ним. Наконец обессиленно затихает и, опустив ветви, безмолвно плачет большими слезами цвета зари. От них начинает краснеть пожухлая трава…
До чего же это чуткое, на все откликающееся дерево!
Вон березы стоят недвижно, и только алая осинка среди них трепещет каждым листом. Но вот и она тоже замерла. А через минуту внезапно, без всякого ветра, почему-то снова затрепетала. И опять стихла. А через миг вскипели все осины среди недвижных берез и елей. Какие же легкие, чуткие листья у них, если откликаются на такие воздушные струйки, о которых береза даже и не подозревает…
Ночами страшно алой осинке. И она дрожит не только от холода, но даже и от мысли о простом зайце, который может обгрызть ее нежную с горчинкой кору.
Темно, все шуршит, шепчется, волнуется, шумят сосны, так и кажется, что кто-то крадется к тебе из мрака, а ты даже убежать не можешь…
Особенно тревожной выдалась эта ночь.
С вечера осинка задремала и проснулась только в полночь от предчувствия какой-то беды. Волчье солнце – луна светила ей прямо в лицо. А в глубине леса происходило что-то недоброе и непонятное. У-у, как разыгрался буйный листопад! Какие разбойные набеги совершает ветер! Он стал холоднее, а луна – пронзительней, и пролетающие гуси кричат тревожнее, чем днем.
От озера пахнет тальниками, сырым песком. Луна висит в небе, другая плавится в озере. И снова закричали гуси. Крыло закрыло на мгновение луну, все потемнело, на воде погасло серебряное кипучее пятно и снова засверкало.
Что-то готовилось, что-то надвигалось, а что – осинка не понимала. Просто ее охватила невыносимая тоска. И она зашумела, зашумела, и все ее ветки всплыли по ветру, рванулись в небо, за гусями.
Тут из глухого бора донесся плач женщины. Осинке даже на миг показалось, что это она, осинка, заплакала в отчаянии…
Женщины иногда бродят с мужчинами по лесу, целуются, поют и смеются. Потом какая-нибудь из них приходила уже одна и, сидя под осинкой, плакала горько и неутешно. А эта почему-то пришла плакать ночью…
Было так светло, что виделся каждый летящий лист. Из лиственной вьюги возник огромный лось, и алая осинка дрожала с ног до головы, пока он объедал вершину у соседки…
С ближней сосны, коротко пискнув, упала какая-то птица, должно быть, болела и вот умерла. Люди никогда не видят, как умирают дятлы, поползни, сороки, зайцы, ежи. И это хорошо, потому что людям кажется, будто у зверей и птиц нет смерти…
Ветер становился все холодней и резче, он обдирал алые листья с осинки и, кружа, уносил их к озеру.
И вдруг все потемнело. На луну накатились облака, и вот на земле совершилось то, о чем предупреждали гуси. В этот глухой час ночи, тайно от людей, оборвалась золотая осень и хлынул мокрый снег. Он тут же гас на слякотных тропинках и на бурых опавших листьях.
Во мраке метались уже почти голые рябины, березы, колючая боярка и черемуха. Осинку облепило мокрое красное платьишко, потом по ленточке, по ленточке оно стало обрываться и улетать. По ее гладкому светлому стволу сбегал струйками налипший снег. В мире стало так жутко, тревожно и бесприютно, что жажда убежать еще сильнее охватила осинку. О, вырвать бы ей из земли точеный стволик и броситься в эту непогодь! Какое это, наверное, счастье бежать куда тебе хочется, бежать за озера, за туманы, за темные боры – туда, где таится неведомое.
Ветвистые, могучие сосны гудели над рощей и старались напомнить ей, что впереди есть весна, но роща была неутешной. Всеми засохшими, жухлыми травами, бьющимися на ветках последними листьями, мокрым снегом и черным холодным ветром она кричала о гибели.
Алая, а теперь уже, как все, голая осинка в панике прислушивалась к шуму. Капало, булькало, лилось, все раскисало, сыпались с сосен шишки. Во мраке над ужасными, пустыми, разоренными полями в этот час уже катилось дыхание зимы.
Вдруг раздался рокот и по всей роще махнул длинный сноп огня. На миг от стволов посыпались – точно кто-то перебрал черные клавиши – длинные полосы теней. Алая осинка уже знала, что появились люди. Совсем близко извивалась дорога. И сейчас осинка услышала их голоса.
Рокот и вой не стихали, луч света бил в самую гущу голых зарослей, в огне сыпались дождик и снег, и то и дело поток света обрывали черные фигуры людей. Люди кричали, раздавался треск ветвей, удары топора.
Осинке уже нечем было трепетать. Она замерла, застыла. Свет то обдавал ее с ног до головы, то гас, когда перед ним пробегали люди. Вот он особенно ярко вспыхнул перед ней, ослепил ее, и она услышала около себя какое-то сопенье, хриплое дыхание, будто медведь выворачивал пень. В следующий миг ее сотряс удар, и она ощутила острую боль и упоительную свободу. Земля больше не держала ее, осинка полетела к огню, полетела, легкая, вольная, как сойка, и вот упала в воду. Что это? Пестрое озеро? И она сейчас поплывет к своим алым сестрам на другом берегу?..
Колдобину, полную воды, наконец завалили осинками, и чудовище, выдыхая бензиновый угар, с ревом перемололо их колесами…
1968
Пропажа
Ночи казались Ольге Анатольевне бесконечными. Она боялась этих ночей. А люди так рано ложились спать. В семь вечера уже темно, и в десять утра еще темно – вот она какая, сибирская ночь в январе.
Беспокойно спала Милочка. Она разговаривала, плакала и смеялась во сне. Уж очень она впечатлительная. Зачитывается книгами, смотрит все новые спектакли, фильмы, ее трудно оторвать от экрана телевизора. Все это, пожалуй, для нее еще непосильная ноша. Надо бы установить режим. Но как это сделать?
Переворачивалась с боку на бок Милочка, и сетка под ней тихонько звенела. Похрапывал в своей комнате муж, и только она, Ольга Анатольевна, лежала во тьме с открытыми глазами.
У ее кровати на коврике свернулась молоденькая, заполошная Лада, помесь спаниеля с сеттером. У нее по светло-серой, слегка курчавящейся шкуре разбросались черные большие пятна, стройные лапы были рябыми, с косматыми ступнями, а большущие уши будто из черной овчины.
Спит и она и совсем по-человечески похрапывает. С ней не так одиноко. Опусти руку и перебирай уши, ройся в теплой шерсти, вспоминай молодость, театр, сцену.
Вся жизнь Ольги Анатольевны была связана с театром. И вот теперь это прошлое разворачивалось перед ней, как праздничный, шумный спектакль в ярких декорациях, пахнущий гримом, озвученный музыкой. И в свои бессонные ночи Ольга Анатольевна смотрела на минувшее, словно зритель из темного зала.
Ее жизнь в театре оборвалась в сорок лет. У Ольги Анатольевны появилась дочка. А театр давал спектакли не только в городе, но и часто выезжал на гастроли в разные места области. Вот и пришлось засесть дома. Да так и просидела десять лет. А в пятьдесят какой уж театр! Да и веру в себя как в актрису потеряла. Шутка ли, не играть столько лет! Так вот и осталась со своими воспоминаниями, с бессонными ночами да с тоской о театре.
Иногда, в особенно тоскливые минуты, Ольга Анатольевна вытаскивала жестяную коробку грима, садилась за стол и гримировалась, вспоминая какую-нибудь из своих ролей.
С помощью гуммоза она делала прямым чуть вздернутый нос, растушевкой придавала бровям особый изгиб, резко очерчивала полные губы, густо чернила ресницы расплавленным над свечкой гримом, пышно укладывала волосы и, далеко отставив круглое зеркальце, осматривала свое розово-цветущее от грима, странно помолодевшее лицо. И сердце ее счастливо томилось, точно все вернулось, и вот она, прежняя, молодая, ждет реплику для выхода на сцену…
Однажды она с дочкой зашла в ателье взять сшитое для Милочки пальто. Знакомая мастерица еще не закончила его – пришивала пуговицы. Над столами горели ослепительно яркие лампы. Женщины колдовали над раскроенным материалом, блестели жаркие утюги, звякали ножницы, стрекотали машины. И вдруг свет погас. Куда-то звонили, и кто-то сообщил, что дадут его минут через сорок. Принесли свечу. И тут Ольга Анатольевна предложила:
– Давайте-ка я вам, женщины, почитаю, чтоб вы не скучали!
Слабо озаренная колеблющимся пламенем свечки, она прислонилась к стене и стала читать «Макара Чудру». Сколько раз она читала его на концертах! И читала отлично.
Портнихи замерли, слушая историю цыганки. Их тени громоздились на стенах. В темном окне цыганской серьгой висел месяц. И едва Ольга Анатольевна кончила читать, как вспыхнул свет. Портнихи шумно благодарили ее, и она впервые за последние годы была по-настоящему счастливой…
В последнее время Ольга Анатольевна перестала следить за своей внешностью, одевалась как попало, но по-прежнему была непосредственной и пылкой, говорила по-актерски чрезмерно горячо, кокетничая, играя глазами, хохоча, вовсю жестикулируя. Но все это, милое в молодости, в пятьдесят лет казалось людям странноватым.
Ольга Анатольевна совсем не умела организовать свою жизнь и жизнь семьи. В доме вечно не хватало денег, хоть муж и зарабатывал хорошо. Но все деньги ухлопывались на разные подарки друг другу, на сладкое, на дорогие и ненужные безделушки.
В квартире нередко отключали электричество или телефон – Ольга Анатольевна забывала платить за них.
Но бывало еще хуже, если ею овладевало рвение к делам по хозяйству. Однажды она перекрасила одну комнату в ядовитый цвет яичного желтка, другую – в дико-свекольный (хотела розовый, но пересыпала в известку краску), третью – в бурый (мечтала сделать голубой, но опять насыпала в ведро что-то не то), а коридор – в зеленый цвет (салатная краска оказалась плохой).
В квартире часто появлялись какие-то кошки, собаки, потом Ольга Анатольевна отдавала их в верные руки и притаскивала новых. Наконец Владимир Сергеевич припугнул ее глистами и лишаями, и теперь в доме жила только Лада.
Ольга Анатольевна выводила ее на прогулку перед сном, когда пробегали последние трамваи. Ярко освещенные, с редкими пассажирами, они шли и шли в одном направлении и уже не возвращались.
Какие усталые, бледные лица мелькали в этих поздних, ночных трамваях! Некоторые пассажиры сидели с закрытыми глазами. Значит, как же за день изматывает людей работа и всяческая городская суета…
Пустынная ночь для Ольги Анатольевны обыкновенно тянулась, как прерывистая дрема, полная несвязных сновидений, обрывков невеселых дум и тревожного ощущения подошедшей старости и таящегося где-то конца.
Словно неудержимое время, шумел за окном ветер, уносился куда-то безвозвратно, стегал по окну веревкой, свесившейся с верхнего балкона.
Наконец, как зов жизни, как милое, желанное, стуча на стыках рельс, пробегал первый утренний трамвай. Ольга Анатольевна облегченно вздыхала, одевалась и выходила с Ладой к этим первым трамваям. Она любила их, вестников нового дня…
Вот и в это утро она вышла к ним. Лада бегала по темным от копоти сугробам. Проваливаясь по брюхо, она плыла по ним, пропахивая ярко-белые борозды. Яростно фыркая, тоненько скуля, нюхала и нюхала, неистово рылась лапами, совсем закапываясь в сугробы, словно чуя под снегом мышей. И вдруг бросалась куда-то, бежала сломя голову. Этот дивный пес, сгусток энергии, силы, молодости, был создан для охоты, но никто не учил его охотничьей премудрости, никто еще не брал с собой на утиные озера и болотца. Вырвавшись из тесноты комнат, он бесновался между домами.
А Ольга Анатольевна, как всегда, стояла на обочине тротуара. Было по-ночному темно. В ледяном ветре сухо трещали на корявых, изогнутых кленах кисточки семян. Один за одним мимо катились первые трамваи, автобусы, троллейбусы. Они пробегали еще совсем пустые, но уже полные яркого света, как диковинные стеклянные фонари, и поэтому казались уютными, теплыми. Они манили, напоминая Ольге Анатольевне, засидевшейся в комнатах, о шумном, кипучем мире. И такой жаждой жизни, любовью к ней наполнилось сердце, что по холодной щеке скатилась слезинка.
А на другой стороне улицы уже начал оживать девятиэтажный, уходящий вверх брус дома. По его огромной темной плоскости поднялась беготня света. Загорелось одно окно, за ним другое, третье, вот сразу в разных местах вспыхнуло несколько, а вон одно погасло, а рядом вырвались из мрака, жарко вспыхнули два, а выше их сразу исчезли, провалились в черноту целых три. И так все утро будут бегать по каменной плоскости дома эти вспышки.
Утро большого города началось. Как это славно!
По радио передавали цыганские песни. В темноте люди шли все гуще и гуще, со всех сторон скрипел утоптанный, грязный снег, хлопали двери, раздавались голоса, кашель курильщиков. Троллейбусы, автобусы бежали, уже переполненные людьми.
Из-за домов все сильнее дул знобящий ветер, катил по асфальту бумажки, снежную пыль, нес дым и неприятный жирный запах от близкого мылозавода, сыпал на сугробы копоть, делая их еще чернее.
В репродукторе смолкла музыка, зашумели аплодисменты, будто в пустую бочку обрушили из ведра воду.
Ольга Анатольевна очнулась от зрелища утренней жизни и огляделась. Лады не было: должно быть, носилась где-то между домами.
Совершенно одинаковые, они стояли лицом друг к другу, так что с балкона Ольга Анатольевна вечерами видела через освещенные окна все, что делалось в доме напротив. Видно было, как женщины готовили ужин, целовались с мужчинами, прибирали в комнатах, как бегали дети и хлопотали старухи.
Каждую весну жители сажали деревья, но они росли плохо и не могли отделить зеленой стеной дом от дома…
– Лада, Лада! – позвала Ольга Анатольевна и засвистела нежно, неумело и призывно. Милая, дурашливая собака не появилась, видно, забегалась, осатанев от радостной свободы.
Небольшая, почти круглая, в вытертой дошке, в вытертой меховой шапочке, Ольга Анатольевна шла мимо своего дома и звала:
– Лада, Лада!
Было пустынно, сумрачно, холодно, трепались в ветре жалкие кустики, все гуще наплывала от завода пахнущая мылом желтоватая муть. Снег чернел прямо на глазах.
Ольга Анатольевна обошла свой дом – собаки не было. Она обошла другой, третий дом.
– Лада, Лада!
Походила вокруг школы, будто состоящей из сплошных сияющих окон. Пусто. Словно никакой собаки никогда и не было.
Резким ударом ледяного ветра обдали Ольгу Анатольевну тревога и страх. Прижимая к груди скомканный поводок, она бросилась к одноэтажному, со стеклянной стеной помещению, где находилась аптека. Возле нее была трамвайная остановка. Может быть, Лада вертится около людей? Не выскочила бы на дорогу. Долго ли попасть под машину! А внутри уже все кричало: «Украли! Украли!» Но Ольга Анатольевна уговаривала себя: «Да нет! Как это можно украсть! Где-нибудь бегает, дурашка. Вот сейчас возьмет и выскочит из-за киоска, болтая ушами, смешно разбрасывая в стороны лапы!» «Украли! Украли!» – не унимался другой голос.
На трамвайной остановке мерзло несколько человек.
– Вы не видели собаку? Собака здесь не бегала? – спросила запыхавшаяся Ольга Анатольевна, чувствуя, как по ее вискам катятся капельки пота.
– Нет, не видели, не было собаки, – отвечали ей.
Ольга Анатольевна топталась у дороги, вглядываясь в мутную, морозную даль улицы. Проносились грузовики, бело-синие автобусы без окошек, с надписями на боках: «Молоко», «Хлеб». Ольга Анатольевна хотела перейти на другую сторону улицы, но потом решила сначала осмотреть свой квартал. Здесь стояло домов двадцать, и Лада вполне могла заблудиться среди них.
Ольга Анатольевна грузно метнулась к крайнему дому. Она задыхалась, сердце кололо.
– Лада! Лада! – звала Ольга Анатольевна уже в отчаянии, и свистела, и снова звала, кружа по асфальтовым дорожкам между домами. Пот щипал ей глаза, мокрые ресницы смерзались. – Лада, Лада!
Сиротливо звякал блестящий зажимчик, болтаясь на конце поводка. Одна рука сильно мерзла: Ольга Анатольевна где-то обронила перчатку.
Стали попадаться знакомые, соседи, мальчишки и девчонки, бежавшие в школу. Ольга Анатольевна бросалась к каждому и рассказывала о своем горе, умоляла поискать Ладу. Ей давали разные советы, рассказывали о воровстве собак, и как они попадают под машины, и как их ловят собачники.
– А вон там, тетя, за гастрономом я сейчас видела собачку, – сообщила какая-то девочка лет семи.
– Где, где, милая?! – так и встрепенулась Ольга Анатольевна и быстро-быстро пошла, почти побежала за девочкой. Ноги ее подкашивались, она тяжело дышала и поэтому говорила прерывисто: – Такая собака была, такая собака! Красавица! Умница! Ладой звать ее…
– Вон, тетя, вон собака! – закричала девочка.
– Лада! Лада! – вырвалось у Ольги Анатольевны, хоть она еще ничего не видела.
С тыльной стороны гастронома были навалены груды щелястых, легких, свежезолотистых ящиков, полных мелких, тоже золотистых стружек. От них веяло по морозу запахом яблок и апельсинов. Тут же громоздились грязные, тяжело-крепкие ящики с пустыми гнездами для бутылок. От этих ящиков припахивало вином. Ветер катил комки тонкой, прозрачной бумаги, в которую заворачивают оранжевые шары апельсинов, космы узеньких стружек, устраивал поземку из золотисто-розовых опилок. Черная с белыми пятнами дворняга совала морду в ящики, рылась в стружках.
– Это не Лада, не Лада! – горестно воскликнула Ольга Анатольевна.