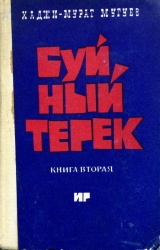
Текст книги "Буйный Терек. Книга 2"
Автор книги: Хаджи-Мурат Мугуев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 30 страниц)
– Ждет вас Алексей Петрович. Завтра велел быть в два часа, к обеду. Пускай, говорит, попостится до того времени, вместе пообедаем чем бог послал, – восторженно докладывал Сеня. – Орел, а не генерал!.. Велел сесть рядом, я ни в какую, а он ка-ак зыкнет на меня. Сполняй, говорит, приказ… Садись возле да жди, пока я письмо твоему барину напишу… Тре брав ом, даром что в отставке. Написал, велел выпить на дорогу стакан водки и отпустил… Вот, извольте, письмо, – закончил Сенька, по-видимому, еще не пришедший в себя после генеральского угощения.
«Жду тебя, дорогой Александр-джан, завтра к обеду ровно в два часа пополудни», —
размашистым почерком было написано на плотной белоснежной бумаге.
На следующий день Небольсин, подтянутый, тщательно выбритый и слегка надушенный любимыми духами кузины Надин «Вер виолет», отправился к Ермолову.
Было еще рано. Штабс-капитан не спеша шел по зеленому Садовому кольцу и незаметно для себя очутился на Смоленском рынке.
– А вот кому финики-и… Есть красный товар… Сбитень горячий да сладкий… Купец, а купец, возьми за недорого… – неслись отовсюду истошные голоса.
– Ваше благородие, есть для вашего сиятельства такой товар, аж самому ампиратору впору, – выныривая из толпы галдящих людей, шепнул плотный, одетый в поддевку человек, поблескивая лукавыми глазками.
– Какой же такой у тебя товар? – заинтересовался Небольсин.
– Пистолет, весь в каменьях да с насечкой золотой, – вытаскивая из кармана поддевки и подавая пистолет, расхваливал свой товар продавец. – Вот, ваша честь, глядите. Отседа и до курка весь голубым бирюзой обтянут…
– Э, брат, да это кавказский «дамбача», – разглядывая длинноствольный пистолет, с удивлением протянул Небольсин.
– Так точно! С самого Капказу, солдат один знакомый на побывку приезжал, привез. С самого главного турка али там чечена снял, – прикрывая пистолет ладонью от любопытных глаз, сказал продавец.
– И насечка, и работа знакомые. Это подлинно с Кавказа, – любовался чернью и позолотой Небольсин. – Там, в горах, есть аул Кубачи, где такие вещички делают. Сколько хочешь за него?
– Видать, сами бывали на Капказе, – с почтением проговорил человек, – а раз знакомо дело, я вам, ваше благородие, задешево отдам. Может, сгодится на службе. – И совсем тихо спросил: – Пять серебром недорого будет вашей милости?
– Недорого. Был на Кавказе, воевал там, а вот оружие горское в Москве купил, – засмеялся Небольсин и, расплатившись, пошел к Пречистенке.
Запахи рынка все еще кружились над ним. Моченые яблоки, квас, соленая рыба, жареная требуха, горячие щи, вобла, свинина – все, чем был богат и полон Смоленский рынок, все это вместе с разноголосыми выкриками торговцев еще долго провожало Небольсина.
«Хороший пистолет, несомненно кубачинский. Подарю-ка его Алексею Петровичу», – думая о встрече с Ермоловым, решил Небольсин.
День был теплый, мягкий. На бульваре, тянувшемся посреди улицы, сидели няньки и дворовые люди. Чем дальше уходил от рынка Небольсин, тем чище становилась улица, стихал шум и дома меняли свой облик. Тут шли чинным рядком полукаменные особнячки с выдвинутыми вперед садами, окруженными решетками, и украшенные у входов и крылец каменными львами или головами мифических животных: дань времени и моде. Пушкинский «Руслан» и «мертвая голова» волновали воображение крепостных скульпторов.
Дом Ермолова был типичным особнячком старомосковского стиля, пятистенным, какие во множестве расположились на Пречистенке, Сретенке и бульварах Москвы. Одноэтажный с мезонином и мансардами, с постройками и службами внутри двора. Деревянный, но на прочном каменном фундаменте. Два крыльца с разных концов нарядно и весело глядели в небольшой, густо разросшийся фруктовый сад. Две неширокие аллеи вели от входа к крыльцу. Прочная железная решетка с бронзовыми грифами на скреплениях прутьев и задумчивый каменный лев у входа украшали парадные ворота ермоловского дома.
Небольсин посмотрел на свой брегет, подарок покойной матери. До двух часов дня, как было назначено ему, оставалось еще несколько минут, и он медленно пошел вдоль решетки. Ермолов в дни своей службы был точен как часы и не терпел ни промедления, ни преждевременного появления приглашенных людей.
Небольсин прошел несколько домов, заглядывая внутрь через ограды. Он небрежно козырнул солдату, остановившемуся в четырех шагах от него по стойке «смирно». Солдат держал у груди шапку и «ел» глазами офицера. На груди висели Георгиевский крест 4-й степени и медаль «За усердие». Виски старого солдата поблескивали сединой, а густые, подкрученные вверх усы придавали его лицу воинственный вид.
Небольсин сразу вспомнил Саньку Елохина, Внезапную, бой под Елисаветполем, и теплое чувство благодарности охватило его.
– За что крест? Да ты надень шапку, стой вольно, старина, – ласково сказал он, все еще думая о Саньке. И хотя этот солдат ничем не напоминал отставного унтера, оставшегося в далеком Тифлисе, тем не менее Небольсин чувствовал все нараставшую симпатию к нему.
– За бой под аулом Чох, в Дагестане, вашбродь… вместе с Алексей Петровичем ходил! – выкрикнул солдат.
– О-о, да мы с тобой, оказывается, оба кавказцы. Ну, а на Чеченской линии был?
– А как же! И там был, и на Ямансу ходил, – обрадовался солдат.
– А что сейчас делаешь, служивый?
– А я, вашбродь, у их высокопревосходительства Алексей Петровича вторым драбантом нахожусь, – приосаниваясь, сказал солдат.
Небольсин взглянул на часы. Оставалось полминуты до назначенного Ермоловым срока.
– В таком случае, кавалер, идем вместе. Я тоже к Алексею Петровичу, – сказал Небольсин, и оба кавказца скорым шагом пошли к особняку Ермолова.
Дверь открыл мальчик-казачок, лет пятнадцати, с круглым и добродушным лицом.
– Мишка, их сокпревосходительство дома? – напуская важность в голосе, спросил солдат.
– Дома они. Пожалуйте, барин, в горницу. Алексей Петрович ожидают вас, – принимая из рук Небольсина фуражку и саблю, сказал казачок. Он повел его наверх, где на антресолях находились еще две комнаты, облюбованные Ермоловым для работы и приема гостей. Несколько неудобная, крутая лесенка вела наверх, и Небольсин не без грусти подумал о том, как скромен и небогат этот особнячок.
«Да любой становой пристав или городничий, ушедший по старости на покой, имел бы вдесятеро лучший дом, – глядя на потертый, но чистый пол, прислушиваясь к скрипу половиц, размышлял Небольсин, – а через его руки прошли сотни тысяч сэкономленных, сохраненных государству рублей».
– Пожалуйста, сюда, барин, – приоткрывая дверь, пригласил казачок.
Небольсин вошел в невысокую, оклеенную светло-желтыми обоями комнату.
От стола, поднимаясь с места и широко раскрывая объятия, навстречу ему шел Ермолов. Одет он был в старый генеральский сюртук, без погон, с одним Георгием в петлице. Лицо его выражало радость, маленькие умные глаза оглядывали Небольсина тепло и пытливо. Еще более располневший, чем в бытность его на Кавказе, он казался крупнее. Голова с вьющейся копной волос, пробивающейся сединой, большие руки, чуть хрипловатый и в то же время приятный голос – все возродило в Небольсине недавние встречи с генералом на Кавказе.
– Обними меня, Саша, обними, как сын отца. Ведь ты для меня сын, – трижды целуя гостя крест-накрест, сказал Ермолов, и голос его чуть дрогнул. Возле глаз собрались морщины, и печаль, которую он хотел скрыть от гостя, прорвалась в дрогнувшем голосе.
Небольсин обнял генерала, почтительно и крепко расцеловал его.
– Садись, дружок, вот тут, возле меня, – хлопотливо, видимо, волнуясь, заговорил Ермолов. – Вот сюда, у окна. А я по-стариковски, в свое кресло. Мишка! Михал Михалыч! – вдруг крикнул он, и в комнату шагнул казачок. – Что ж ты не угощаешь гостя? Что у нас там есть?
– Да я, Алексей Петрович, сыт. Я ведь повидать вас пришел, от всего сердца, – начал было Небольсин.
– А вот за чепуркой кизлярского мы все это и проделаем. Ты ведь, наверное, отвык среди своей петербургской родни от кавказского чихиря да араки. А у меня они водятся… Не забывают друзья старика. Редко кто минет, не заглянув в гости. – И он стал аккуратно цедить в стакан чихирь.
– Ну, рассказывай о себе, – и, видя, что Небольсин с интересом посматривает на стену, где были развешаны вычеканенные медали, сказал: – Это работа графа Толстого. На память прислал об Отечественной войне. Вот – Бородино, вот – Смоленск, Вязьма, а вот – Тарутино и Москва.
В стороне, у окна, висели две скрещенные кавказские шашки, над ними щит и плетеная кольчуга, какие носили в горах хазреты.
– Память о походе на Черкей, – сказал Ермолов. – А вот эта, – он указал еще на одну кольчугу, – эта подарена мне ханшей Паху-Бике, помнишь ее? Аварская правительница. Уверяла, будто это кольчуга ее покойного мужа. Врет старая сводня, наверное, с какого-нибудь любовника сняла.
Небольшой ковер на полу, три стула, рабочий стол и большой портрет представительного старика в мундире екатерининского времени – вот все, что украшало комнату бывшего «проконсула Кавказа».
«А ведь в его руках были судьбы и Грузии, и Персии со всеми их богатствами и мощью», – внутренне восхищаясь простотой комнат, их скромной, почти бедной обстановкой, думал Небольсин.
– А это мой отец, Петр Владимирович. Ну, а теперь, Александр-джан, как называл тебя Валериан, давай выпьем.
Ермолов поднял стакан, и его лицо опять стало лицом того кавказского Ермолова, которого любили и солдаты, и офицеры: строгим, мужественным, почти суровым.
– За нашу Родину, Саша, за Россию, которая была, есть и всегда будет. – Он чуть отодвинул стакан и еще проникновенней и мягче закончил: – За русского солдата, за тех, кто телом оберегал Россию, кто грудью прикрыл ее. За армию, Саша, – и медленно отпил глоток.
Небольсин, затаив дыхание, волнуясь, смотрел на того, кого солдаты и вчера, и сегодня, да, вероятно, еще долго будут называть ласково и просто: «Ляксей Петрович».
Ермолов глянул на часы.
– Двадцать две минуты третьего. В три – обед. С нами обедает полковник Олшанский, ты знаешь его?
– Нет, Алексей Петрович, только по фамилии.
– Добрый человек, хороший и верный. Один из немногих, кто постоянно бывает у меня.
– Алексей Петрович, я только что случайно купил на Смоленском рынке пистолет, по-видимому, кубачинский. Не знаю, как он попал сюда, но работы отменной. С позолотой, чернью и бирюзой по рукояти. Не обидьте, отец и командир мой, возьмите на память о днях на Кавказе, в память всего, что вы сделали для меня, Алексей Петрович. – И Небольсин достал из кармана только что купленный пистолет.
– Добрая штука! Несомненно, кубачинской работы и, может быть, их лучшего мастера, великого умельца Ахмета-Уста, – любуясь пистолетом, сказал Ермолов.
Он дважды взвел курок, осмотрел полок пистолета, продул ствол и глянул сквозь него в окно.
– Отменная работа… Я думаю, твой купец украл его где-либо и продал тебе ворованный «дамбача».
Он со вкусом, медленно и важно проговорил «дамбача», желая подчеркнуть, что знает не только происхождение пистолета, но и то, как его называют там, в Кубачах, на Кавказе.
– Возьму, берекет-аллах, но ты знаешь, Саша, как у нас на Кавказе джигиты обмениваются оружием? Каждый, если покуначился, дает другому свое лучшее. Так вот, беру твой пистолет, он воистину хорош, а ты…
Ермолов встал, прошел во вторую комнату и вынес оттуда саблю. При первом взгляде она казалась простой, но впечатление это пропадало, как только сабля попадала в руки. Ее крестообразная рукоять со спущенными книзу краями была отлита из бронзы, железа и серебра. Бронзовая цепочка охватывала ее и свисала к ножнам. Это делалось для того, чтобы воин при ударе саблей не выронил бы ее из руки.
– Обнажи ее, – сказал Ермолов.
Небольсин легко вырвал клинок из ножен, чуть изогнутое лезвие сверкнуло в воздухе.
– «Patria, Domine, Amore», – прочел латинскую надпись Небольсин.
– Не то венгерская, не то польская сабля, но клинок отличный, дамасский, – любуясь саблей, продолжал Ермолов.. – Скорей всего, польская. Эти хваты паны любят такие звучные надписи. «Аморе», – повторил он, улыбаясь. – Это мне Матвей Иваныч Платов подарил не то в Польше, не то в Германии, во французском походе добыл. Передаю ее в руки более достойные, чем мои. Ты молод, идешь на войну, носи ее с честью, как носил ее Платов.
Небольсин хотел было отказаться, но суровое, полное достоинства и высокого чувства солдатской дружбы выражение на лице генерала остановило его.
– Честью своей и памятью отца клянусь, – глухо сказал он, принимая из рук Ермолова саблю.
– А ты знаешь, где я сдружился с атаманом?
– Нет, Алексей Петрович, не знаю, – все еще держа в руках подаренную саблю, ответил Небольсин.
– В тысяча семьсот девяносто седьмом году, когда и он и я по приказу императора Павла после тюрьмы и Петропавловского равелина были сосланы в Кострому под полицейский надзор.
– За что же? – изумился Небольсин.
– Я – по доносу генерала Линдера как вольнодумец и иллюминат, связанный с делом Каховского. Он же как опальный человек, чуть ли не готовивший покушение на Павла. А он просто надерзил в пьяном виде Павлу, когда тот был еще наследником. Оттуда и пошла у нас дружба с Матвей Иванычем. Его выпустили на год ранее меня, еще при покойном Павле. Меня же – после его кончины. Вот, брат Александр, как я попал в вольнодумцы, а затем в казематы и тюрьму.
Ермолов засмеялся, и вдруг лицо его опять стало внимательным, с чуть-чуть лукавым блеском в глазах.
– Ну а стрелять ты, кажись, разучился, живучи в столице? В трех шагах в мишень, говорят, попасть не смог. Верно это, Саша?
И Небольсин понял, что Ермолову известно все: и его дуэль с Голицыным, и его арест, и, по-видимому, столь неожиданный финал драмы.
– Алексей Петрович, вы знаете о моей дуэли с Голицыным?
Ермолов наполнил чихирем стаканы, снова взглянул на часы и коротко сказал:
– Конечно. У меня в столице и в свете осталось много благожелателей, – и, подняв стакан, кивнул Небольсину. – До прихода Олшанского еще целых двадцать семь минут. Рассказывай.
И Небольсин начал свой обстоятельный рассказ, говорил иногда взволнованно, чаще спокойно.
– Это та самая крепостная актерка, о которой ты говорил нам с Вельяминовым в Тифлисе? – лишь однажды перебил его Ермолов.
– Она. Я поклялся отомстить за нее, и вот… бог услышал мои мольбы. – Небольсин стал подробно рассказывать о неожиданной встрече с Голицыным в ресторации Андрие, о похвальбе князя. Он не скрыл от Ермолова и обидные слова в адрес Алексея Петровича, сказанные князем.
– Почему же ты не стрелял в лоб или сердце? – перебил Небольсина Ермолов.
– Зачем? Чтоб он умер в одну минуту и все ушло бы с ним? Нет, пусть живет калекой, без ноги, живет долго, пусть каждый день и каждый час вспоминает о загубленной им девушке, обо мне и о том постыдном мгновении, когда я увидел, что он под пистолетом трус, – взволнованно сказал Небольсин.
– Молодец! Ты сделал верно. Знаешь, что говорит в своих проповедях этот аварский храбрец Кази-мулла?
– Лжеимам? – переспросил Небольсин.
– Нет, истинный имам и воин. Ведь ты наслышан, верно, как он погромил наших на Дагестанской линии?
– Нет, Алексей Петрович. Как уехал с Кавказа, так ничего не знаю о делах тамошних.
– Напрасно, Саша. Ты возвращаешься туда, где только начинаются события, боюсь, они надолго свяжут руки России. – Он покачал головой и, как бы вспомнив начатое, сказал: – А говорит сей имам следующее: «Кто думает о последствиях – тот не храбр». Умные и верные слова. И я вот, Саша, прости старика, хотел выведать, узнать от тебя, почему ты не убил Голицына. Думал, побоялся наказания государева. Ведь убей ты его, – другая была б мера вины… Ну, не кипятись, ты ведь сын моего друга, и я рад убедиться, что все, что было в отце, я встретил в сыне.
И он обнял Небольсина.
– Я знаю даже больше, чем ты. Мне об этой дуэли и писали, и рассказывали многие. И о том, как Бенкендорф вызволил тебя, сведя свои счеты с Голицыным, и о пятистах червонцах знаю, и о перстне прослышан. – Он дружелюбно засмеялся тихим смешком. – А дела на Кавказе идут неважно. Генерал Эммануэль – человек храбрый, но типичный пруссак. Он не понимает ни людей, с которыми воюет, ни солдат, командовать которыми его назначил Паскевич. А самое главное, он туп и смотрит только в бумаги. А в них мало толку, если в голове нет царя. Просеки, которые мы стали прорубать в Чечне, брошены, дороги через них оставлены. Через год-другой все снова зарастет кустарником, карагачом, дубом. И опять наш солдат будет мишенью для горцев.
Ермолов смолк, потом спросил:
– Ты когда дальше?
– Сегодня, Алексей Петрович. Приказ дан не задерживаться в пути. Во Владикавказе ждать назначения в часть.
– Война с Персией закончена, с турками готовится мир. Держать тебя в резерве не станут. Куда б хотел, на Кавказскую линию или в Закавказье на границу?
– Куда пошлют, Алексей Петрович. Служить везде нужно.
– Везде-то везде, но с умом! – неодобрительно покачал головой Ермолов. – Не забывай Паскевича и свой отказ от адъютантства при нем. Иван Федорович злопамятен и такого не прощает. А ежели попадешь в Тифлис, к нему надо будет явиться.
Теперь и Небольсин понял, что Ермолов прав и встреча с Паскевичем не сулит ему ничего хорошего.
– Алексей Петрович, я давно хотел спросить вас, на Кавказе говорили, будто покойный император Александр Первый пожаловал вас за кампанию четырнадцатого года в графы. Правда ли это?
Ермолов встал, прошелся по комнате, затем остановился возле портрета Александра I.
– Покойный государь любил меня и был моим благодетелем, несмотря на то что граф Аракчеев пытался втайне опорочить меня. – Он усмехнулся. – Боялся лукавый царедворец, думал, что заменить его в царевых любимцах хочу, а мне это не нужно было. Я – солдат, и без армии, без товарищей по войне и миру жизни не вижу. Да, покойный Александр Павлович заготовил рескрипт на возведение меня в графское достоинство, но я отговорил его… Не надо мне копеечного графства. Я – русский дворянин, и все. Это выше и почетнее скороспелых графов Аракчеевых, Зубовых, Кутайсовых и, – он расхохотался, – Ерихонских, таких, как Паскевич.
Небольсин молчал. Ермолов, занятый своими мыслями, продолжал:
– Государь Александр Павлович сначала разгневался на меня, затем через день сухо сказал: «Не напоминай мне об этом», и я – и при жизни и после смерти его – молчал об этом.
– Алексей Петрович, Никифор просют обедать, – сказал казачок, показываясь в дверях.
– Ну, раз «просют», надо идти, – грузно вставая с кресла, сказал Ермолов. – Разносолов тебе не обещаю, но добрые щи, черкасская говядина и соус будут. Эх, жаль, нет со мной моего Короева, осетина-поваренка, ты помнишь его? – спросил Ермолов. – Остался в Тифлисе, побоялся ехать в холодную далекую Москву. Его шашлыки, сациви и осетинские фитджины Мадатов всегда вспоминал. Отменно готовил азиатские блюда Короев! – мечтательно сказал Ермолов.
– А что с генералом? Пишет ли? – поинтересовался Небольсин.
– Кто? Валериан? Редко, но пишет. Этот гусар мастер в духанах да в боях, а писать – не его удел. – Ермолов тихо добавил: – Неважно он живет. Кляузы на него ханы карабахские возводят, а Паскевич рад. Определил его «по армии», то есть в резерв, в запас, а суды да кляузники и пользуются этим, особенно Корганов. Ты помнишь такого по Тифлису?
– Ванька-Каин? – спросил Небольсин.
– Именно он. В большой чести сейчас этот жулик у графа Паскевича, – язвительно протянул Ермолов.
В небольшой скромной столовой было уютно и чисто. Стол, шесть стульев, широкий с поручнями стул для хозяина, на подоконнике ваза с полевыми цветами.
Небольсин вспомнил, как офицеры на Кавказе добродушно за глаза подтрунивали над Ермоловым за его страсть к цветам. Хозяин уловил его взгляд.
– Люблю, старый солдат, цветы. У меня ведь две слабости было в жизни: цветы и женщины, хотя и они – цветы. От второй отвык, а вот их, – он указал на вазу, – до гроба любить буду.
– Алексей Петрович, их высокородие Семен Егорович пожаловали и барыня Булакович приехали, – доложил появившийся в дверях тот самый солдат, что встретился Небольсину на улице.
– Хорошо, проси сюда. Люблю точность, а особенно у дам, – кланяясь входившей в столовую уже немолодой, полнеющей женщине, сказал Ермолов.
– Вдова генерала и мать офицера. Привычка – вторая натура, – подхватил, показываясь за нею, худощавый полковник с подстриженными седеющими баками, с Владимирским крестом в петлице.
– …Разжалованного в рядовые, – со вздохом проговорила гостья и поцеловала в лоб склонившегося к ее руке Ермолова.
– Знакомьтесь, господа, штабс-капитан Небольсин. Не имея детей, почитаю его за сына и люблю, как родного. А это, Саша, вдова генерал-майора Булаковича, Агриппина Андреевна, мать доблестного сына, гвардии поручика Измайловского полка, разжалованного в солдаты по делу четырнадцатого декабря.
– И сосланного на Кавказ в один из линейных полков рядовым, – стараясь быть спокойной, добавила Булакович.
– А это – мой добрый друг и однокашник по французскому походу полковник Олшанский.
Небольсин поклонился.
– А теперь, милые гости, за стол. Посмотрим, что приготовил нам Леонтьич, каково цимлянское, присланное с Дону. Ты, Саша, садись возле Агриппины Андреевны, у нее к тебе, как мне кажется, есть дело.
И Небольсин понял, что его приезд к Ермолову не был неожидан: «Однако он хорошо осведомлен обо всем».
Разговор тек свободно и непринужденно. Было видно, что за столом сидели люди, давно знавшие друг друга, одинаково мыслившие и не очень облагодетельствованные новым царем. Говорили о введенных Бенкендорфом в петербургском обществе порядках, о салоне Зинаиды Волконской, о только что прошедших в Москве маневрах. Часто упоминались имена Пушкина и Вяземского.
– А знаешь, Саша, Александр Сергеевич в Тифлисе случайно встретил нашего Саньку Елохина, – Ермолов широко и добродушно улыбнулся. – Хорошо живет унтер, женился, обзавелся домом, садом… Не забыл меня, старый пьяница, слезно просил Пушкина навестить меня… да и тебя помнит. Пушкин забыл твою фамилию, но точно помнит, что Санька наш каждую субботу в церкви поклоны кладет и свечи жжет за здравие двух рабов божьих – Алексия, – он указал на себя, – и Александра – сиречь тебя.
– Елохин честный, хороший человек, – сказал Небольсин.
– Настоящий солдат, настоящий русский… Выпьем, друзья, за здоровье нашего старого боевого товарища Елохина, – поднимая бокал, предложил Ермолов.
Все четверо выпили.
Обед был простой, но обильный и сытный. Соленые грузди, моченые яблоки, вяленая вобла, маринованные помидоры и великолепная шемая, истекавшая золотистым жиром, были закуской, а вино, отличное красное искрящееся цимлянское, отставной солдат то и дело подливал в бокалы гостей.
О Кавказе не говорили, и Небольсин понял, что Алексей Петрович делает это намеренно, оставляя разговор о Кавказе на последние минуты обеда.
Госпожа Булакович несколько раз внимательно вглядывалась в Небольсина, и чувствовалось, что она намеревается о чем-то поговорить с ним.
После обеда солдат внес большой кофейник и несколько цветных чашек, сахарницу, горку рахат-лукума и очищенных грецких орехов.
– Спасибо, теперь обедай сам, а матушка Агриппина Андреевна похозяйничает, – отпуская солдата, сказал Ермолов.
Булакович разлила кофе.
– А теперь наша милая хозяйка скажет тебе, Саша, свою просьбу. Просьбу матери, которую, если будешь в силах, уважь, как мою, – сказал Ермолов.
– Просьба моя проста. Мой сын, мой первенец Алексей, разжалован в солдаты за четырнадцатое декабря и сослан на Кавказ. Четыре месяца назад я через одного знакомого капитана узнала, где он, а до этого времени ничего не ведала о сыне. Письма его не доходили до меня, а люди, к которым я обращалась за помощью, не отвечали. Алексей Петрович, когда был на Кавказе, дважды писал мне об Алеше, хвалил его, просил не отчаиваться и надеяться на бога и царя. Но теперь Алексей Петрович в Москве, а где мой сын, я не знаю. Он не то в Семнадцатом егерском, не то в Четвертом карабинерном полку. Это все, что ведомо мне.
– И тот и другой полки находятся в Дагестане, в районе крепостей Внезапной и Бурной, – добавил Ермолов.
Небольсин наклонил голову. Булакович с надеждой смотрела на него.
– Если я буду оставлен на Кавказской линии, я найду вашего сына, Агриппина Андреевна, – пообещал Небольсин. – Почту долгом сделать это для вас и Алексея Петровича.
– Благодарю вас, и, если сможете, облегчите его судьбу. Через три месяца будет четыре года его осуждения, и тогда он получит право писать мне, – со вздохом сказала Булакович. Слабое утешение Небольсина осветило надеждой ее печальное лицо.
– Я сделаю все, что будет в моих силах, – повторил Небольсин, а Булакович со слезами на глазах поцеловала его в голову.
Вскоре гости уехали. Ермолов и Небольсин остались одни.
– Сделай это, Саша, но знай – государь не любит тех, кто помнит четырнадцатое декабря, и не прощает тем, кто замешан в этом деле. Помоги Булаковичу, он достойный офицер и честный человек.
Ермолов прошелся по столовой и, остановившись возле Небольсина, сказал:
– Царь не забыл мне ничего из того, что было и чего не было с Ермоловым. Воейков, ты помнишь его, моего адъютанта?
Небольсин кивнул.
– Так его до сих пор не выпускают из-под следствия, то и дело таскают по разным комиссиям и господам-сенаторам…
– Зачем это?
– А затем, чтобы выяснить, почему Ермолов, получив указ о приведении к присяге Кавказского корпуса на царствование Николая Павловича, двенадцать дней не приводил кавказские войска к присяге. – Алексей Петрович остановился возле Небольсина. – Ты слышал когда об этом?
– Слышал, Алексей Петрович, и от солдат, и от офицеров.
Ермолов хитро улыбнулся.
– А молчал!
– А зачем же было спрашивать, Алексей Петрович?
Ермолов не обратил внимания на его слова.
– А откуда было знать Воейкову? «Почему да отчего?» Он и знать ничего не знал, а знал бы, как человек отменной чести и благородства, не сказал бы.
Он опять прошелся по комнате.
– Знали только двое… Вельяминов, мой тезка, да Муравьев Николай, тот, что храбро с турками воевал, а теперь отчислен Паскевичем с Кавказа. Оба мужи чести, римляне времен цезарей…
Небольсин посмотрел на Ермолова: «И ты из этих римлян…»
– Ну и что говорили солдаты и офицеры? Как объясняли задержку в приведении их к присяге? – возвращаясь к словам Небольсина, спросил Ермолов.
– По-разному, Алексей Петрович, – уклончиво ответил Небольсин, – но в общем думают, что вы не смогли объявить приказ по войскам из-за разбросанности частей по Грузии, Кавказу, границе, из-за отдаленности гарнизонов, плохих дорог.
– Дипломат! – улыбнулся Ермолов. – Ведь ты, Саша, повторяешь мои слова и слова Дибича государю: «отдаленность войск», «плохие дороги», «тревожная обстановка границы»… – Он засмеялся. – Но это не успокоило царя. Он не поверил ни мне, ни Дибичу, ни Муравьеву, которого письмом об этом запросил Чернышев.
Ермолов сел возле Небольсина.
– Когда-нибудь узнаешь правду, а если и не ты, то другие, кто будет позже тебя. Во всяком случае, Россия не осудит меня за это… – И, меняя тему разговора, спросил: – Ты когда едешь дальше?
– Вечером, в восемь.
– Тогда попрощаемся, Саша! Бог даст – увидимся еще, а нет – его святая воля.
Оба встали. Ермолов трижды поцеловал Небольсина.
– Спасибо, что не забыл. Если хочешь сделать добро старику, пиши письма, а увидишь кого из добрых наших товарищей и кунаков – от меня поклон. – Он низко поклонился. – Будешь в Тифлисе, навести Саньку, обними за меня старого солдата и… – тут у него дрогнул голос, – езжай с богом да помни старое суворовское правило: «От службы не отказывайся, на службу не напрашивайся».
Ермолов отвернулся и быстро вышел из столовой. Небольсин, взяв подаренную ему саблю, тихо покинул дом Алексея Петровича и медленно побрел на Арбат.
Взволнованный прощанием с генералом, он и не заметил, как дошел до трактира Тестова.
Вечером на казенных перекладных Небольсин по подорожному листу вместе с Сеней выехал из Москвы.








