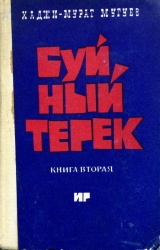
Текст книги "Буйный Терек. Книга 2"
Автор книги: Хаджи-Мурат Мугуев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 30 страниц)
– Ах, как это интересно, опять романтические приключения, снова Пушкин и кавказские чудеса! – обрадовалась Чегодаева. – Вы обязательно, Александр Николаевич, расскажете нам все поподробней, когда вернетесь из этого похода.
– Непременно, но это будет через день-два, Евдоксия Павловна.
– Нет, пусть только через день. Послезавтра мы будем ждать вас к обеду. А теперь спокойной ночи.
Небольсин поклонился. Его превосходительство, действительный статский советник в свою очередь отвесил ему чопорный, светский полупоклон.
Когда капитан вернулся домой, было уже поздно. Крепость слободки и форпост спали. Только в Офицерском собрании ярко светились огни и оркестр играл вальсы, мазурку и марши.
– Ужинать будете? – спросил Сеня, открывая дверь Небольсину.
– Чаю, Сеня, только чаю.
– А тут почта вам с оказией прибыла. И письма, и газеты, и книги – массым масса́.
На столе аккуратной стопой были разложены книги и письма. Небольсин быстро просмотрел полученную почту. Письма были от нескольких друзей из столицы, одно из Москвы и большой пакет от кузины Ольги из Санкт-Петербурга. Новые номера «Северной пчелы», «Театральный альманах», две французские книги, новый роман Вальтера Скотта и ряд московских и петербургских газет, собранных Модестом и пересланных ему в крепость.
Небольсин улыбнулся и с благодарностью вспомнил дорогих ему кузин и Модеста, всю родню, которая еще имелась у него.
Он взял объемистое письмо Ольги. «Остальное – завтра, когда вернусь с Мичика после выкупа Булаковича», – решил он и принялся за чтение.
После обычной светской болтовни Ольга перешла к тому, что особенно интересовало Небольсина.
«…Теперь о событиях в столице. Истек год со дня кончины императрицы Марии Федоровны. Траур снят, и двор открыл балы… Их много, а в особенности широко празднует матушка-Москва турецкие победы, польский мир и окончание холеры. Государь с Александрой Федоровной выезжали в Москву. Конечно, двор, именитые сенаторы, родичи московской знати поспешили в Белокаменную. Модест по долгу службы – тоже, а значит и я. Ну как не повидать родню, не побывать на балах и не пожить десять-пятнадцать дней среди московских друзей. Пишу тебе свои впечатления.
Итак, первое. Москва встретила государя колоколами, церковным пением, с митрополитом Филаретом, народом на улицах и площадях… Пальба, музыка, крики, словом – торжество!
Балы – один роскошнее другого; и дворянство города, и купечество, и даже от верноподданных дам Москвы; но самые роскошные, похожие на чудеса Семирамиды, устроили княгиня Тенишева и князь Юсупов. Даже царь сказал ему: «А ты, вероятно, побогаче меня, князь Василий». Мы с Модестом были на этих балах.
Кстати, государь, по усиленной просьбе министра двора Волконского и московского генерал-губернатора князя Голицына – оба, как ты знаешь, любимцы царя, а особенно государыни, – полупростил твоего недруга Голицына, приходящегося племянником генерал-губернатору Дмитрию Владимировичу. Твоему одноногому «крестнику» возвращено право носить кавалергардский мундир и каску, жить в Москве, а также дважды в год наезжать в Петербург, в дни тезоименитств – государыни и наследника цесаревича Александра – являться с поздравлением только к их двору и проживать в столице каждый год не дольше семи дней. Что ж, для бывшего опального и это хорошо, так как в дальнейшем императрица и Голицын выпросят князю полное прощение..»
Небольсин отложил в сторону письмо кузины.
«Этим и должна была кончиться история с опалой Голицына; этим и объясняется то, что Модест не написал мне письма сам. Молодец», – одобрительно подумал Небольсин, зная, как трудно генералу, не имевшему родственной знати при дворе, нетитулованному и небогатому человеку, держаться в Главном штабе.
Он засмеялся и стал снова читать письмо.
«…Модест, однако, считает, что полного прощения от государя Голицын не получит, так как его величество не простит наглости дерзкого князя, осмелившегося поносить царствующую династию…»
Да, это, конечно, подсказал жене Модест, давая понять, что Небольсину ничто не угрожает.
«…Теперь о твоем Ермолове. Он дважды представлялся государю (по его вызову). Модест оба раза видел обожаемого тобою Алексея Петровича; старик обрюзг, потолстел, но все еще бодр, и когда речь заходит о князе Паскевиче, нарочито громко именует его «Пашкевичем», намекая на то, что нынешний фельдмаршал и князь – внук малороссийского помещика Пашко; конечно, делает он это не при государе. Вот что произошло в результате вызова его к царю… Когда льстецы и царедворцы, все время поносившие Ермолова, узнали, что государь вызвал его к себе для каких-то переговоров, все обмерли; ждали аудиенции, она прошла с глазу на глаз между царем и Ермоловым. Никто, даже Бенкендорф, не присутствовал на этой беседе. Военный министр граф Чернышев дважды спрашивал и Модеста, и Кантакузена, не знают ли они чего-нибудь об этой встрече. Но никто ничего не знал. Длилась она два с лишним часа, после чего императрица Александра Федоровна пригласила к себе Алексея Петровича, и он вместе с царем и августейшей семьей отобедал «en famille» [57]57
В семейном кругу ( франц.).
[Закрыть]. Вечером у царя были и Бенкендорф, и Пален, и Чернышев, но государь не сказал им, зачем вызывал Ермолова.Милый Сандро, ты не представляешь, что делалось на следующий день возле скромного дома Алексея Петровича. Рассказываю тебе со слов Модеста и камер-юнкера Кручинина, который был в этот день наряжен графом Толстым на дежурство к опальному генералу. Понимаешь, к опальному – и вдруг дежурный камер-юнкер!
На улице кареты, возки, даже «гитары», или, как их в Москве называют, «калиберы», вытянулись они на версту, кругом форейторы, кучера, усачи-солдаты, а внутри дома и на его крыльце – «шу-шу-шу», говорят, заискивают, переливаются голоса бар и чиновников, снова вспомнивших адрес генерала. И сладкие речи, умильные глаза, казенно-льстивые поклоны, – словом, двор Анны Иоанновны во времена Бирона и других временщиков. Каждый спешит отдать свою любовь Ермолову, не опоздать бы, успеть приехать раньше других, ведь Алексей Петрович снова «в силе». Пустили даже слух, что царь его не то военным министром, не то начальником Главного штаба делает. Модест даже переменился в лице и полвечера молчал, так его потрясла вся эта подлая натура ничтожных людей, еще вчера поносивших Ермолова…»
«А-а, так вот чем объясняется неожиданный тост полковника Клюгенау в честь Ермолова и все добрые пожелания опальному генералу», – подумал Небольсин.
«Через два дни новый вызов к царю, но тут уже в присутствии графа Бенкендорфа.
Оказывается, государь предложил Алексею Петровичу вернуться на военную службу, так как его опыт и знания могут пригодиться армии. Ермолов коротко ответил:
– Рад служить вашему величеству, как служил ранее и вам и покойному государю Александру Павловичу, но под начало Паскевича не пойду…
– Почему? – холодно спросил государь.
– Разные мы с ним, государь, люди, по-разному смотрим на армию и на солдата.
– Вольности говоришь, Алексей Петрович. Фельдмаршал князь Паскевич-Варшавский лучший полководец в Европе. Вспомни персидский, турецкий, а теперь польский походы, – недовольно произнес государь.
– Солдат наш – лучший в мире, ваше величество, вот в чем причина побед… – начал было Ермолов, но государь прервал его.
– Я занят, Алексей Петрович, дела государственные требуют моего участия. Вот и граф Александр Христофорович дожидается своего доклада. Ты поезжай к себе, подумай, а через день дай мне ответ. – Тут Николай Павлович ласково потрепал Ермолова по плечу.
– Слуша-юсь, ваше величество! Разрешите только спросить последнее…
– Что именно? – уже сердито спросил император.
– Как дела идут на Кавказе? Как газават и имам Кази-мулла?
– А-а… – улыбнулся царь, – ты вот о чем! Понятно, что тебе, старому кавказцу, это интересно знать. Неплохо! Этот самозваный имам вместе со своей вшивой шайкой мюридов окружен нашими войсками где-то возле… – он посмотрел на Бенкендорфа.
– Возле Гудермеса, государь, – подсказал Бенкендорф.
– Именно там. Замирения Кавказа я жду на этих днях.
– Поздравляю вас, ваше величество. Это будет великим днем вашего царствования, – ответил, уходя, Ермолов.
Но, как говорит Модест, Бенкендорф и Чернышев уже утром этого дня знали, что чеченцы наголову разбили генерала Эммануэля, а дагестанские мюриды после жаркого боя, где-то в… – тут слово было несколько раз перечеркнуто, – …какого-то Чертея, ушли из русского кольца.
Но это все военные дела, а вот что произошло дальше. И через день, и через два Ермолов не дал ответа царю, тогда разгневанный государь послал к ему сначала Чернышева, а на следующий день Бенкендорфа с требованием дать ответ. Как ни уговаривали генерала и тот и другой, он отвечал одно и то же: «Рад служить родине и государю, но под начало Паскевича не пойду».
Модест, который по долгу службы сопровождал военного министра, слышал, как уже в прихожей, прощаясь с Ермоловым, Чернышев предупреждающе сказал:
– Боюсь, дражайший Алексей Петрович, что государь будет недоволен вашим ответом.
– Я уже пятый год нахожусь в немилости у его величества, не знаю, чем разгневал моего государя. Прошу передать его величеству, что готов служить родине и царю, но под начало Паскевича идти не намерен…
– Но фельдмаршал… – начал было Чернышев.
– …Я был под командованием двух великих российских фельдмаршалов – графа Рымникского, князя Италийского Александра Суворова и Михаила Кутузова, князя Смоленского, и по сей час почитаю это моим счастием, милейший Александр Иванович, но служить под начальством графа Эриванского и Варшавского князя не могу… Сие есть верное и последнее мое слово.
– Жаль, очень жаль, ваше высокопревосходительство, – прощаясь с Ермоловым, сухо сказал Чернышев.
А через день возле дома Ермолова не было ни карет, ни возков, во дворе было тихо и безлюдно.
Еще через три дня государь приказал назначить Алексея Петровича членом Государственного Совета Империи, и на этом кончилось приглашение его на службу. Теперь бедный старик должен перебираться в Петербург и, занимая ничего не значащее место в Совете, жить в нашей холодной и пасмурной столице…»
Дальше опять шли петербургские и московские новости и характеристики знакомых.
«На Кавказе, может быть, ты встретишь мою подругу по Смольному, Евдокси Воейкову, она сестра Николая Воейкова, замешанного в деле 14 декабря, но, к счастью, очищенного спустя полтора года за недостачей улик. Ты его знаешь, он некоторое время был при Ермолове. Ныне она замужем за директором департамента Министерства внутренних дел, очень важным, очень чиновным господином Чегодаевым. Модест его хорошо знает и за глаза именует «Свод законов и уложений Российской Империи». Ты знаком с ними; вы познакомились на балу у Волынских. Евдокси очень умная, красивая женщина и, между нами говоря, как мне кажется, влюблена в тебя. Это мое (и Модеста) мнение. Во всяком случае, она спрашивала нас, где ты находишься, здоров ли, и обещала повидать тебя. Будь с ней мил, но смотри не затумань головы этой милой дамы».
Небольсин отложил письмо, затем снова прочел эти строки и улыбнулся. Ничто в мире не содействует так сближению мужчины и женщины, как сторонние слова о том, что в тебя она или он влюблены.
Да, как-то кстати, очень вовремя пришло это письмо, и прочел его Небольсин в те минуты, когда думал о Евдоксии Чегодаевой, о вечере, проведенном вместе. Он еще раз улыбнулся и, уже ложась спать, повторил слова Ольги:
«…Она в тебя влюблена… Но смотри не затумань головы этой милой дамы…»
Из Закавказья, Ростова и Ставрополя пришли на линию новые полки. Подошла и трехбатарейная мортирная бригада и дивизион легких орудий. По Военно-Грузинской дороге прибыли четыре сотни грузинской дворянской милиции, армянская пешая рота, составленная из добровольцев Кизляра и Моздока.
Слухи о прибывающих русских полках сейчас же доходили до дальних аулов. Русские стали снова прорубать и расширять просеки в лесах, укреплять на Мичике, Ямансу и других реках мосты. Несколько крепких редутов и каменных блокгаузов были выдвинуты вперед. Они строились уже на чеченской земле. Почти всю кумыкскую равнину заняли русские. Темир-Хан-Шура, Грозная и Кизляр были усилены дополнительными гарнизонами, новые дороги были проложены инженерными и саперными командами, и все это говорило о том, что несколько крупных неудач, постигших русских в Чечне и Дагестане, не укротили их. Все понимали, что газават, объявленный имамом, достиг своего высшего напряжения, но для русских этот предел горских сил, фанатизма и самопожертвования был лишь эпизодом.
Русские методично и спокойно вгрызались в Дагестан, прорубали дороги через чеченские леса, засылали лазутчиков в аулы и селения. Очень дружелюбно встречали перебегавших через кордон, некоторым даже давали скот и деньги, расселяя их на пустующих землях Моздокской и прикаспийской степи.
В аулах стали появляться листки, неведомо как попадавшие в горы. Писали их и Аслан-хан казикумухский, давний друг русских, и таркинский шамхал Нуцал-хан, и владетельная ханша Аварии Паху-Бике, писали их и сбежавшие к русским богословы вроде Саид-эфенди ароканского, ученого алима Хаджи-Идрис-бен-Омара дербентского, и многие ханы и беки, нашедшие спасение от мюридов на русской стороне.
«Бедные, темные люди, – писал Аслан-хан, – вам ли, горсточке бедняков, не имеющих даже своих земель, противиться великой силе Белого Падишаха русских. На ваших глазах он покорил Иран, разгромил турецкого султана, принудил к бегству лучшие войска Ференгистана [58]58
Франция.
[Закрыть]. Пять морей омывают его царство, неисчислима его сила, но так же велика и его доброта. По воле аллаха и наших к нему прошений он отпускает всем вины, кто до сих пор с оружием в руках боролся против его непобедимых войск. Одумайтесь, не слушайте ваших грабителей-вождей, голодранцев и разбойников вроде отступника от шариата и исказителя корана, лжеца, именующего себя имамом, гимринского мужика Магомеда и его дружков – Шамиля и богоотступника Гамзата. Не слушайте их! Вы можете еще раз или два напасть большими силами на маленький русский отряд, убить сто или двести солдат, захватить казачий табун, даже отбить орудие, но что это даст вам, простым людям гор?.. Все равно русские раздавят мюридов, они убегут в Стамбул, а отвечать будете вы, ваши семьи, ваши аулы, ваши дети. Русские готовят большой удар, и, пока не поздно, одумайтесь, отступите от Кази-муллы, не признавайте его лживого газавата. Он ведь не пророк, и не Мекка призывает вас к Священной войне, а простые гимринские жители, один – сын кузнеца, другой – пастуха».
Все прокламации были в таком же роде, и только Саид-эфенди в нарочито туманных толкованиях корана говорил горцам о том, что самочинный газават, не одобренный Каирским советом богословов и не объявленный халифом всех мусульман, турецким султаном, есть богопротивное, лживое, греховное дело.
Листки, слухи, сплетни, воззвания, неудачи под Дербентом, Внезапной, поражение под Тарками и уничтожение Черкея делали свое. Аулы глухо волновались. Мужчины неохотно шли в отряды, созываемые имамом, а усилившаяся торговля мирных аулов с русскими вселяла все больше надежд на спокойную жизнь.
Место, выбранное чеченцами для передачи Булаковича и Егоркина, было в стороне от русских просек и выдвинутых к реке постов. Пологие холмы тянулись вдоль берега, за ними виднелась непролазная чаща кустов, зарослей дикого кизила, орешника и дубняка.
Мичик, довольно быстрый и неглубокий, разливался здесь несколько вширь, образуя луку с высокими травами и широким лугом. Лес, кусты, пригорки оставались в стороне. Лучшего места для встречи нельзя было найти.
Небольсин с полуэскадроном драгун, переводчиком Идрисом и двумя немирными чеченцами подъехал к берегу. Лес, поляна, река, тихая заводь вдоль излучины Мичика – все было словно нарисовано спокойной кистью великана-художника.
Одновременно с русскими на противоположном берегу показались конные чеченцы. Их тоже было не больше пятидесяти. Впереди под зеленым значком ехали двое, за ними гуськом двигались шестеро, остальные, задержав коней, молча смотрели на колонну русских.
– Скажи ему, – указывая глазами на Кунту-эфенди, сказал Небольсин, – пусть едет к ним и пригласит конных вместе с пленными на эту сторону Мичика.
Кунта, выслушав переводчика, ухмыльнулся и что-то коротко ответил по-чеченски.
– Кунта-бей говорит, чечен эта сторона не пойдет… Ты езжай другой сторона, вези денга, давай денга, бери русски солдат обратно, – сказал переводчик.
– Ишь чего захотели!.. Там ваших, может, сотни две в лесу ховается, а капитан к вам без конвоя поедет, – воскликнул Желтухин.
Кунта-эфенди, прищурив глаза, с интересом и иронией смотрел на Небольсина.
– Не спорьте, есаул, – остановил Желтухина Небольсин, – чеченцы правы. Мы у них выкупаем пленных, и нам надо встретиться с ними. Идрис, скажи Кунте-эфенди, что я с двумя драгунами, с ним и тобою переправлюсь через Мичик.
Старый чеченец неожиданно засмеялся, похлопал по плечу капитана:
– Якши апчер… якши рус, – и о чем-то быстро заговорил с переводчиком.
– Шутковал старый пес, проверку вам делал, – вполголоса сказал понимавший по-чеченски Желтухин.
– Кунта-бей говорит, храбренный ты ест апчер. Кунта говорит, не нада туда ехать, – переводчик ткнул пальцем вперед, – чечен сюда пленны дает… Се твой драгун нехай назад идет… Чечен тоже пят, русски тоже пят будит, – удовлетворенно сообщил Идрис.
Драгуны повернули назад и, отойдя с полверсты, спешились в тени лесной опушки. Есаул Желтухин, двое его казаков и двое значковых драгун остались с Небольсиным.
Через Мичик уже переходили шестеро конных тоже со значком, остальные чеченцы мирно расположились вдоль леса, с любопытством поглядывая через реку на русских. Их голоса отрывисто, неясно долетали до Небольсина.
– А вон, вашескородье, и наших пленных гонют, – прикладывая ко лбу лодочкой руку, возвестил казак.
– Точно! – подтвердил Желтухин.
Из леса, сопровождаемые конными, показались двое пеших. Они шли не спеша, и Небольсин в подзорную трубу разглядел их. Один – среднего роста, в наброшенной на плечи шинели, другой – в рваном бешмете и солдатских штанах. Чеченцы молча проводили их взглядами. Пленные и их конвоиры приблизились к реке.
– Невжель погонят пешком через реку, нехристи окаянные? – возмутился драгун, не сводя глаз с остановившейся на берегу группы.
Идрис улыбнулся, замотал головой. Пленные уселись на коней позади чеченцев, и кони вошли в воду.
Кунта-эфенди бесстрастно глядел вперед, то и дело поплевывая в реку. На его старом, иссеченном шрамами и долгими походами лице было равнодушие. То, что происходило сейчас, он видел не однажды, привык ко всему, и ничто, даже война и рубка, не волновало его. Желтухин заметил взгляд Небольсина, брошенный на старого чеченца.
– А ему, господин капитан, скушно. Не прикажи имам продать нам пленных, этот старый черт посек бы их шашками. Я добре знаю Кунту!
Услышав свое имя, чеченец глянул на Желтухина и, подмигнув ему, показал кулак.
Хотя минута не располагала к веселью, все рассмеялись, даже по лицу сурового чеченца пробежала усмешка. Потом все снова стали смотреть на приближавшихся к берегу конных. Как только кони ступили на берег, пленные сейчас же сошли с них, а оба чеченца, не взглянув на поджидавших их русских, повернули лошадей и быстро перебрались на свой берег. Пленных окружили драгуны и казаки. Чеченцы по-прежнему спокойно сидели на камнях.
– Братцы… господи, свои… – бессвязно, срывающимся голосом бормотал один из пленных. – Сподобил бог своих увидать, – растерянно говорил он, озираясь по сторонам.
Другой, заметив офицера, внимательно посмотрел на него и сделал два шага в его сторону, но Кунта жестом остановил его, что-то быстро и громко сказал переводчику.
– Кунта-эфенди гаво́рит, еще дело не кончил, еще пленны не куплен… давай денга, бери солдаты… чего хош говори, вези Грозны…
– Правильно! – одобрил чеченца есаул. – Надо выкуп им дать, Александр Николаевич, надо иху бумагу подписать, по рукам вдарить, что ладом все кончили, тогда и пленные опять свободными станут… А теперь они еще чеченские, невыкупленные люди… Такой тут закон! – важно закончил Желтухин.
– Ну, раз закон так закон. Не станем нарушать его, – согласился Небольсин и через переводчика стал вести с Кунтой-эфенди всю необходимую процедуру выкупа.
Когда короткий опрос подтвердил, что прибывшие из Шали пленные действительно являются взятыми под Внезапной Булаковичем и Егоркиным, Небольсин достал деньги и высыпал золотые на ладонь чеченца.
Кунта-эфенди пересчитал монеты, попробовал их на зуб, потом сложил золото в мешочек и удовлетворенно сказал:
– Харош, – и еще что-то по-чеченски.
Переводчик и чеченцы рассмеялись.
– Что он сказал? – спросил Небольсин.
– Говорит, иди, Иван, назад… другая раз не попадай плен, денга не вазьмем, башка рубить будем, – весело сообщил переводчик.
Пленные молчали. Есаул хмуро глянул на старого чеченца и медленно, подбирая слова, что-то ответил ему. Чеченцы насторожились, но Кунта-эфенди только ухмыльнулся и, показав на кинжал и небо, отвернулся от есаула.
– Что вы сказали ему?
– Посоветовал самому не попадаться… Мы с ним хочь и кунаки, а давние кровники… Вот то я ему и сказал, – угрюмо объяснил Желтухин.
Второй пленный шагнул к Небольсину и громко доложил:
– Ваше высокоблагородие! Унтер-офицер егерского полка Булакович и рядовой того же полка Егоркин…
– Знаю, господин прапорщик… Очень рад, что встретил вас, жаль только, что при таких обстоятельствах, – протягивая руку, сказал Небольсин. – У меня уже давно лежит письмо от вашей матушки Агриппины Петровны, – и, видя, что пленный все еще не понимает его, добавил: – Из Москвы, где я был проездом год назад. Кстати, поздравляю вас с монаршей милостью – вы произведены в офицеры.
К ним подошел Кунта-эфенди. Чеченцы садились на коней, ожидая своего начальника.
– Харош апчер… кунак будешь, – и, дружелюбно потрепав по плечу Небольсина, вскочил на коня, не глядя ни на кого, рысью повел через Мичик свою группу.
– Сволочь старик, а рубиться мастер! – одобрительно сказал Желтухин.
Вскоре чеченцы и драгуны, повернув каждый в свою сторону, оставили поляну и берег Мичика.
Небольсин доложил полковнику о выкупе пленных. Пулло рассеянно слушал капитана. Было видно, что ему, старому кавказскому волку, не впервой слышать о подобных делах. Он поблагодарил капитана и равнодушным голосом сказал:
– Солдата в медицинскую комиссию. Если найдут не годным к службе – вчистую с отправкой в Россию. Прапорщика… – он почесал переносицу, – куда ж его? Разве что опять на линию в егерский полк?
– Я бы просил, господин полковник, оставить его при штабе. Он нужный человек, побывал в горах, немало перевидел, ознакомился с бытом горцев, да и сам имам хорошо знает его.
– То-то и скверно, что имам знает его, а ведь он из разжалованных, с таким беды не оберешься, – покачал головой Пулло.
– Теперь он офицер. Георгиевский кавалер, вины ему государем прощены… Не нам, господин полковник, взыскивать за грехи.
– Так-то оно так. Мне что, будь он хоть сам Пугачев, раз государь снял с него немилость… Вот разве что определить его в горскую канцелярию при штабе, – раздумчиво продолжал Пулло, – раз он чеченов да прочих кунаков знает. Как вы думаете, капитан?
– Прекрасно! Самое подходящее место, а жить он будет возле меня, в том же доме, – живо ответил Небольсин.
– Что он вам, родственник или друг? – спросил Пулло.
– Ни то, ни другое. Я узнал его только теперь, но, как говорил вам ранее, за него просили меня в Москве Алексей Петрович и матушка Булаковича.
– А-а, помню, помню… Вы же тогда сами вызвались откупить за свой счет разжалованного, – вспомнил полковник. – Ну что ж, пусть работает военным делопроизводителем при канцелярии. Прикажите, пожалуйста, написать приказ, а я подпишу.
Так Булакович остался в Грозной и поселился во флигеле того же дома, где жил Небольсин.
Сеня возился у стола, готовя завтрак; солдат внес кипящий кофейник. Небольсин дописывал письмо. Булакович, сидя у окна, просматривал газеты, стопкой лежавшие перед ним. Столько новостей и событий прошло мимо него, и все, что для Небольсина было давно известным и уже отжившим, волновало. И польский мятеж, как называли его газеты, и приход к власти Филиппа Орлеана взамен свергнутого Июльской революцией Карла Бурбона, и Испания, не утихавшая и после смерти Риего, – все было захватывающим и новым.
Булакович отложил газету и тихо, очень тихо спросил:
– Александр Николаевич, значит, и Боливар умер?
Удивленный этим вопросом, Небольсин ответил:
– Да, умер, и весьма давно, еще, кажется, в декабре тридцатого года. Вы не знали этого?
– Нет. Откуда? – подавленно сказал Булакович.
Небольсин взял довольно старый экземпляр «Московского телеграфа» и вполголоса прочел:
– «Семнадцатого декабря тысяча восемьсот тридцатого года недалеко от бывшей испанской крепости Санта-Марта в поместье Сан-Педро Александрино скончался всемирно известный генерал, главнокомандующий войсками Перу, Колумбии, Новой Гренады, Боливии и Венесуэлы, победитель испанцев дон Симон Боливар, диктатор Южной Америки, президент Колумбии, Венесуэлы, прозванный Освободителем. Умер от чахотки на сорок восьмом году жизни, но имя сего замечательного патриота, воина и человека никогда не умрет в памяти человечества».
Небольсин положил газету на стол, внимательно посмотрел на Булаковича. Прапорщик поднял на него глаза и, как бы отвечая мыслям капитана, произнес:
– Я провел несколько дней возле такого же удивительного человека и патриота…
Небольсин понимающе кивнул.
– …И этого вождя ждет тот же конец, что и Риего и Боливара… Конец всех великих безумцев, родившихся не в свое время.
– А вы его считаете безумцем? – спросил Небольсин.
– Каждый, кто встает за свободу, и праведник и безумец, если он…
– Если он? – выжидательно повторил слова Булаковича капитан.
– Если он не победит, – тихо закончил Булакович.
– Значит, и четырнадцатое декабря тоже святое безумие?
– Нет. Это трагическая ошибка святых и предательство очень умных, не пожелавших потерять свои блага, – еще тише сказал прапорщик.
– Забудьте на время и эти мысли и эти слова, дорогой мой Булакович. Здесь многое пропитано Третьим отделением и любезным графом Бенкендорфом, – по-французски, так же тихо ответил Небольсин. – Потом, на досуге, вы расскажете мне возможно больше об этом горском Боливаре, а сейчас вам надо успокоиться. Выпьем кофе, поговорим о разном и подготовим почту. Завтра уходит оказия, а ваша матушка ждет не дождется вестей от сына, – мягко, по-доброму, как старший брат младшему, сказал капитан.
Булакович улыбнулся и пересел к столу, где все еще хозяйничал Сеня.
– Жизнь у них суровая, патриархальная, со своим точным укладом и характером. Порядок строг, между собой – равны, только власть имама и над ним – бог. Все остальные не подчинены никому, и тем не менее есть судьи, есть муллы, есть аульское начальство, но все выборное и не давит на людей.
– Чем же живут мюриды?
– Верно сказать не могу, находился в стороне от этих дел, но народ дает воинов, платит налоги на войну и армию, справедливо распределяет промеж себя подати и трудности войны. Собираются в поход быстро, порою молодежи в селах нет, а после похода опять прибывают домой.
– Веселятся? – поинтересовался Небольсин.
– Этого нет. Спиртного чтобы или бузы – нет. Имам настрого запретил их, а где нет вина, там нет и песен…
– Что-то вроде пуритан Кромвеля?
– Нет, это чище. Они ближе к природе и не испорчены цивилизацией и торговлей. И все же, Александр Николаевич, видишь, как устали они от войны, как бьются из последних сил, как пустеют аулы, как гибнет скот, посевы, сады. Ведь наши первым делом жгут и уничтожают все, что кормит горцев. Просеки и дороги, блокгаузы, форпосты, посты все глубже врезаются в их земли… Опять же усталость, болезни, голод, смертность и постоянные пропагаторы сбежавших к нам владетельных беков, богатеев-ханов, шейхов и мулл тревожат, раскалывают горцев. Аулы обезлюдели, а слухи о русских подкреплениях, о большом наступлении день и ночь волнуют люден. К тому же землетрясение почти все горцы восприняли, как божий гнев. Думаю, Александр Николаевич, что очень скоро все, что создал этот удивительный человек Кази-мулла, не выдержит трудностей и жертв…
– Вы так думаете?
– Уверен. Есть же предел и человеческим силам. Имам интересовался Россией, но, боже мой, как мало и превратно они знают о нас! Ни размеров страны, ни ее мощи, ни значения в европейских делах! Только ее слабые стороны, угнетение и рабство крестьян и жалкое положение солдат. Однажды имам резко прервал мой рассказ: «Все это неправда, Иван. Твоя страна не велика, никто не считается с нею», а Шамиль даже упрекнул меня в том, что я нарочно преувеличиваю размеры России. Они не знают Сибири, им неведомы наши города и огромные массы крестьянства. «Солдаты, с которыми мы воюем, – последние, больше их у вас нет… а турецкий султан и султаны Аврупа [59]59
Европа.
[Закрыть]уже захватили пол-России… Ваш царь бежал, его брат пошел на него войной, мужики бьют своих беков и ханов», то есть помещиков и дворян. Так представляют они события декабря тысяча восемьсот двадцать пятого года. И в этом убеждают их польские перебежчики из наших полков, турецкие и персидские эмиссары. Между прочим, когда я был еще гостем-пленником самого имама, мне Шамиль с гордостью показал шелковое цветное знамя с королевскими лилиями Бурбонов и золоченой бахромой, на котором была искусно вышита корона и выткано «Вив ле руа!» Как, каким образом это знамя попало в горы к мюридам – никто не знает, но все очень гордятся им. Мне жаль этих хороших, свободолюбивых людей. Они будут раздавлены русской махиной, силу которой даже не в состоянии понять.
– А как иначе, по-другому, можно покончить с этой войной? – спросил Небольсин.
– Я думал над этим. Мне кажется, не походами в горы, не уничтожением аулов и людей, а примирением, отводом войск за линию, признанием их призрачной самостоятельности, усиленной торговлей с горцами, открытием школ, приобщением к русской жизни, помощью деньгами и образованием. Зачем нам лезть в горы, когда горцы сами спускаются в долины, ведут торговлю и мену с нами? Пусть не будет реляций, эффектных побед и наград, но мир и прочная связь воцарятся на Кавказе.
– Я слышал о таком, роде замирения еще в Петербурге. Это была идея генерала Муравьева, царь отверг ее, – сказал Небольсин, припоминая рассказ Модеста о неудаче муравьевского проекта.
Булакович хотел что-то сказать, но вместо этого только махнул рукой и отвернулся к окну.








