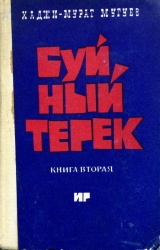
Текст книги "Буйный Терек. Книга 2"
Автор книги: Хаджи-Мурат Мугуев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 30 страниц)
Глава 9
Пленных солдат гнали в Черкей, большой аул, раскинувшийся на пересечении трех дорог.
Гнали пешком, редко делая привалы, и пленные, изнемогая от усталости и жары, на четвертые сутки еле брели. На горных тропах встречались им конные и пешие горцы. Они сумрачно оглядывали пленных, о чем-то переговаривались с конвоирами и не удостаивали русских взглядом. Женщины и дети иногда швыряли в них камнями, показывали кулаки, ругали и не давали воды. Если б не конвой, их, вероятно, прибили бы в первом же горском ауле.
Утром пленным давали по лепешке из пшеничной муки, кусок кукурузного хлеба, иногда сыр и раз или два молочной сыворотки, густой и терпкой.
Булакович молчал, лишь изредка подбадривал солдат, особенно обессилевшего раненого. Приказ Шамиля относиться к нему с уважением и добром был забыт после первого же перехода. Горцы, сопровождавшие пленных, спешили, подгоняли их, не обращая внимания на усталость.
«Ах, зачем я не взорвал себя в ауле?» – тоскливо думал Булакович, с трудом взбираясь по узким горным тропинкам высоко вверх или спускаясь вниз. Потный, грязный, обросший щетиной, с разбитыми, натруженными ногами, он едва поспевал за всадниками. Говорить с горцами было бесполезно – они ни слова не понимали по-русски.
Только на четвертые сутки, еле живые от усталости, голода и жажды, пленные добрались до Черкея.
Аул террасами спускался в долину. Сакли так тесно прилепились одна к другой, что напоминали гнезда ласточек. Весь аул можно было пройти из конца в конец, перескакивая с крыши на крышу.
«Естественная крепость, поди возьми такую штурмом. Каждая сакля – укрепление, а весь аул – цитадель», – подумал Булакович, глядя на темные, связанные воедино сакли и крыши большого аула. Над ними вились дымки очагов, выше теснились камни и утесы нависавшей горы; ниже чуть поблескивала небольшая быстрая речушка, в которой плескались ребятишки. Завидя шедших по дороге пленных, они загомонили и, выскочив из воды, мокрые и блестящие от солнца и стекавших с них капель, закричали на все лады, плюясь и швыряя песком:
– Урус… кяфир… донгуз-урус… гяур, кей-пей-оглы-урус!
– Эй, гет шайтан олу! – замахиваясь плетью, крикнул аварец Хусейн.
Мальчишки смолкли. Они показывали русским языки, грозили кулаками, плевали вслед, но все это молча, так как знали, что теперь Хусейн без предупреждения пустит в ход нагайку.
Улочка аула была узкая, пыльная, с кое-где выпиравшими из земли камнями. Помет и пыль устилали ее.
Хусейн что-то крикнул конным и, соскочив наземь, плетью указал место, где надо было стоять пленным.
– Издес… – сказал он и быстро шагнул в низкие двери сакли.
После долгого пути под солнцем, по уступам, камням и тропинкам пленные солдаты тяжело дышали, облизывая ссохшиеся губы.
– Испить бы хучь дали, ироды, – тихо сказал один из них.
Булакович посмотрел на одного из карауливших их горцев, тот показался ему более добродушным, чем остальные.
– Су! – по-кумыкски сказал он. – Су вер? Воды выпить, – и, сложив чашечкой ладонь, поднес ко рту, поясняя слова.
Кумык поглядел на него, сверкнул глазами и, сплюнув, показал кулак.
– Вот тебе и водица, – вздохнул солдат. Остальные караульные рассмеялись, что-то лопоча и тыча пальцами в пленных.
Мальчишки, осмелев, подобрались ближе, пытаясь камнем или куском коровьего навоза попасть в пленных.
– Гет, ке-пе-еглы, баба саны! – заревел появившийся в дверях сакли Хусейн.
За ним шел невысокий человек в папахе, замотанной зеленой материей; позади виднелись два-три молодых горца в папахах и суконных шубах. Это был местный кадий, он же старшина аула.
Хусейн, ткнув пальцем в Булаковича, что-то сказал старшине, тот кивнул и показал пленному на двор сакли.
– Твоя иди здес.
Булакович понял, что его отделяют от остальных пленных, которых тотчас же окружили караульные.
– Воды им дай, кунак… устали, пить хотят… Су, су вер… – жестом показывая на рот, пояснил он.
– Якши!
Старшина что-то крикнул внутрь сакли. Через минуту-другую оттуда вынесли жестяной, похожий на лохань сосуд, до краев наполненный водой. Солдаты жадно, захлебываясь, пили, передавая лохань один другому. Горцы равнодушно смотрели на них, а солдаты, напившись вволю, начали смачивать лица и шеи.
– Пошла сакла, – беря Булаковича за рукав, сказал кадий.
Булакович, сопровождаемый старшиной и расступившимися молодыми горцами, вошел в дом.
Ему, много слышавшему о быте и нравах горцев, все представлялось иначе. И аул, неприветливый, дымный, с темными закопченными саклями, и мрачные мужчины, смотревшие на него с еле сдерживаемой ненавистью, и женщины, о которых у Пушкина он читал как об одухотворенных красавицах, были совсем другими. Две женщины в длинных темно-коричневых платьях-балахонах до самых пят внесли в комнату круглые кукурузные пышки, пшеничный чурек, сыр и дымящийся хинкал [42]42
Куски крутого теста, сваренного в супе.
[Закрыть]. Худые, с опущенными вниз глазами, с лицами покорно и привычно равнодушными, они расставили все на низеньком столе и бесшумно исчезли. Сколько им лет – двадцать пять или сорок? – трудно понять, и Булакович, знавший горские обычаи и нравы, лишь мельком глянул на них, спокойно ожидая беседы с ним старшины и Хусейна.
«Да как же мы будем разговаривать?» – подумал Булакович, знавший по-кумыкски всего десять-двенадцать слов. И, словно угадав его мысли, старшина что-то крикнул, и из глубины сакли показался невысокий человек с проседью на висках. На его скуластом лице были почтительное внимание и любезность. Старшина произнес несколько слов, и человек стал переводить на довольно сносный русский язык.
– Здравствуй, ваша блахородия, – кланяясь, сказал он. – Абу-Бекир ага-бен-Салим говорит, ишто… – Он подумал и, найдя нужное слово, повторил: – Ишто ты, ваша блахородия, есть гость яво, так имам приказал. Имам Гази-Магомед, да будет аллах яво любит, гово́рил – «эта русска офицер – моя гость… Яво обижат, яво плохо делат нелза».
Булакович слушал переводчика, внимательно вглядываясь в его лицо.
– Скажи старшине, я благодарен имаму и его помощникам. Я всегда буду другом горцев и никогда не забуду этих людей.
Старшина и другие горцы молча и дружелюбно закивали.
– А ты кто сам, откуда знаешь русский язык? – поинтересовался Булакович.
– Казански татар я. Русски солдат шесть годов служил… Лексей Петрович добре знал… – словоохотливо отвечал переводчик. – Потом горы бежал, имам переводчик стал…
– А почему бежал?
– Нада била… Мине фитфебел и ротный кажины день морда били… Кутузка сажали… свинином кормили… розги били…
– А за что такое?
– Ты, гово́рит, татарски лопатка, вор, афицерски вещи украл, а я, ваша блахородия, никогда дома чужой палка не брал, чисты был, а тут – вор… И кажны бьет, ругается, а за што? Не знаю…
– И сквозь строй гоняли?
– Нет, я бежал… Вовремя ушла, а то – пиропала голова… – вздохнув, сказал переводчик.
– Как тебя зовут?
– Ахмед. Мой деревня близко Казань стоит… Маленьки дочка, малчишка тоже ест, – рассказывал переводчик.
Старшина и горцы терпеливо ждали, и Булакович, обращаясь к старшине, спросил:
– Как будет поступлено со мной и что сделают с пленными солдатами?
– Пусть сначала наш гость поест с нами, а уж потом мы поговорим обо всем, – предложил старшина.
– Спасибо. И если можно, помыться…
Переводчик что-то крикнул. Из передней вышла одна из ранее прислуживавших женщин, поставила перед русским таз и стала поливать ему на руки, затем на голову и шею из глиняного широкогорлого кувшина. Хозяева учтиво ждали, и, только когда пленный сел рядом с Хусейном, все не спеша принялись за еду.
– Ахмед, поблагодари хозяев за обед, за доброе отношение ко мне, – попросил Булакович, глубоко взволнованный вниманием хозяев.
– Имам приказал… Шамиль-эфенди сказал, что ты не пленник, гость. А у нас, ваша блахородия, гость аллах дает, – перевел татарин слова старшины.
Все снова стали есть хинкал, обмакивая густо наперченные куски теста в чесночный настой. Булакович впервые ел это горское блюдо, но ему, голодному и усталому, все: сыр, и жареное мясо, и крутой хинкал – показалось божественным.
– А что с солдатами? – вдруг спросил он. – Их накормят? Ведь они ничего не ели в дороге.
– Солдаты – пленные… Их кормят два раза в день – утром и вечером. Когда стемнеет, им дадут поесть, – равнодушно ответил старшина.
– А что будет с ними? – переставая есть, спросил Булакович.
– Кто знает ремесло – будет работать; кто стреляет из пушек – поступит в артиллерию имама, а кто ничего не умеет, того заберут в горы помогать старухам и бабам, – перевел Ахмед слова старшины и добавил от себя: – Деньги за них возьмут, если кто их захочет выкупить. Русские иногда выкупают пленных.
Разжалованный повел плечами. Кто заплатит за этих нищих солдат? Он вспомнил свою мать, которая, конечна, сделала бы все, чтоб выкупить его. Но разве могла она знать, где находится ее сын?
– А велик выкуп? – поинтересовался он.
– Разный. И десять золотых, и тридцать. За солдата, не знающего ничего, – десять серебряных туманов, за офицера – пятьдесят, – сказал кадий.
– А сколько за меня?
Горцы дружно засмеялись, и даже Ахмед прикрыл ладонью улыбающийся рот.
– Чего смеетесь? Или я ничего не стою? – удивился Булакович.
– Я говорил – ты гость имама. И если имам захочет, ты или навсегда останешься с нами, или просто уедешь обратно к русским. За гостя мы денег не берем, – уже серьезно пояснил кадий.
Только теперь Булакович понял, как опасно быть «гостем» имама Кази-муллы.
Прошло двое суток. Видимого надзора за пленным не было, но Булакович чувствовал, что за каждым его шагом следят. Жил он вместе с Ахмедом в боковушке сакли старшины, холодной, с низко нависшим потолком и земляным полом. Здесь все жили так, неуютно, очень бедно и до того неприхотливо, что наблюдательному «гостю» вся жизнь аула казалась дикой и темной. Все было однообразно, сурово и примитивно. И утренний призыв муэдзина, и постоянная возня женщин по саклям, и мычание скота, возвращавшегося с выгона, и босые оборванные ребятишки, и косые взгляды мрачных стариков, неприветливо поглядывавших на русского.
«Как убога их жизнь», – провожая взглядом горцев, думал он, сидя на камне возле сакли старшины.
– Ты, ваша блахородия, одна не ходи, тут народ темный, русски не любит… может, спаси аллах, камнем вдарить, – предупредил его Ахмед.
А старшина был все так же молчаливо любезен, так же по утрам обычным «салам» приветствовали Булаковича сын и братья старшины, но дальше этого не шло.
– Что со мной будет, Ахмед? Останусь здесь или пошлют к имаму? – наконец, не выдержав, спросил Булакович. Он с внимательным удивлением всматривался в жизнь и быт горцев. Как он разнился от жизни крестьян и горожан России! Это был другой мир, другие понятия, другой образ жизни – свой собственный, созданный веками и условиями гор.
«Хищники»… «разбойники» – так в реляциях называли генералы своих противников-горцев. Булакович видел, что эти люди не были разбойниками, не были они и хищниками, они защищали свою жизнь, свои горы, свою самобытность и свободу.
Булакович вспомнил петербургские беседы накануне 14 декабря с теми, кто вывел войска на Сенатскую площадь. Они не одобряли Кавказскую войну, выступали против насильственного обрусения прибалтийских провинций, были противниками завоевания и присоединения Польши.
Булакович невесело улыбнулся. «И вот я, декабрист, желавший России блага, мечтавший о равенстве и братстве людей, враг крепостного права и монархии, нахожусь в плену у тех, кого приказано царем завоевать и сделать русской провинцией».
– Чего задумался, ваша блахородия? – участливо спросил Ахмед, молча наблюдавший за выражением лица Булаковича. – Худа тебе здесь не будет… не бойся. Имам очень хорош человек… Его слова – крепки слова, он тебе худа не сделат.
– Я не о себе задумался, Ахмед, а о тех людях, у которых сейчас нахожусь. Ведь мы, русские, совсем не знаем их…
– Народ ничаво… хорош народ.
– Я это вижу, а ведь три дня назад я воистину думал, что они дикари, звери… А солдаты, те и вовсе ничего не знают о горцах.
Татарин наморщился, внимательно вслушиваясь в слова Булаковича. Было видно, что он не все понял и теперь силился постичь точный смысл слов пленника.
– Народ здесь разный, ваша блахородия, есть и такой – не дай бог, худа сделает, есть такой – лучше кунак будет… Разный народ гора живет, однако, если ваша через Терек не идет, – мир будет, торговля будет, а ваша генерал все горы идет, аулы ломать, зажигать… Нехорошо.
– Куда как скверно! – согласился Булакович.
– Русски солдат тоже много горя, беда имеет, – покачивая головой, продолжал татарин. – Наша батальон Кизляри стояла, три солдат себя кончала, ружье стреляли, два к ногай бежала, другой тюрма да розги, сквозь строй, били… минога били… – со вздохом сказал Ахмед.
– А за что ж их наказывали?
– Кто знает?.. Фитфебел денги не даешь – ты плохой… Одна поручик Кизляри был… у-ух, суволоч, сука… его Петушков звали. Он мине хотел тюрма сажат. Хто знает, зачем солдат мучит… зачем виноват, – разводя руками, снова заговорил татарин.
– А здесь как? Тоже небось наказывают? – спросил Булакович.
– Тут другая дела. Хто русски сторона держит – голова долой. Хто вор есть – рука долой. Хто война боится – дом, лошад, ружо – все имам заберет, самому – башка долой; хто за хан и беки сторона держит – башка долой. Хто коран, шариат не любит – башка долой, – неторопливо повествовал Ахмед.
– Тоже не сладко.
– Э-э, везде чижало, ваша блахородия, мужик-человек везде плохо, – вздохнул татарин. – Здесь одна хорошо: крепостной нет, пристав – нет. Нихто татар лопатка не обижает. Здесь имам хорош, чисты человек, потому эта сторона – лучше, – убежденно закончил татарин.
Прошло несколько дней однообразного пребывания в плену, хотя и пленом-то нельзя было назвать это странное существование в Черкее. Булакович пользовался относительной свободой, питался вместе со старшиной и его сыновьями, хотя заметил, что ему ставят особую миску. Каждый день Ахмед брил Булаковича, достал ему чистое солдатское белье с казенным клеймом: «Кизлярское гарнизонное депо». Услужливый и добрый татарин по просьбе Булаковича иногда передавал пленным солдатам куски кукурузного хлеба, остатки сыра и мяса, беседовал с ними. Старшина знал об этом, но молчал и не препятствовал. Даже жители аула уже не столь враждебно косились на прогуливавшегося по улочке уруса, а мальчишки, недавно швырявшие в него навозом и камнями, теперь дружелюбно скалили зубы и издалека кричали:
– Издрастуй, урус… издрасти, Иван…
Наконец на девятые сутки своего пребывания в Черкее Булакович узнал от Ахмеда, что сегодня в аул прибудет имам с несколькими приближенными людьми.
– Он Кизляр нападал… минога пленны, минога денга, лошад, корова, разны хурда-мурда взял, – с почтительным одобрением поведал татарин.
«Взял Кизляр», – подумал Булакович, веря и не веря словам Ахмеда. Кизляр был крепостью и городком, в котором стоял довольно сильный гарнизон, возле были казачьи станицы, находилась там и армянская рота добровольцев, до двадцати орудий… Как мог имам овладеть такой сильной крепостью?
– Три дня мюриды вся город руках держал… Казацки войска, солдаты кирепост прятались…
– Значит, крепость не была взята имамом? – спросил Булакович.
– Кирепост нет. Город, вся Кизляр мюриды брали, три дня хозяев были, – пояснил татарин.
Это уже похоже на правду.
– А куда дели пленных? Здесь их что-то не видно…
– Зачем здес? Все пленны в горы, в аул погнали… там их кирепко держат станут… Которы красивы девки, замуж за мусульман пойдут, которы парни, работать станут. Кто денга ест – выкупят… – со знанием дела рассказывал Ахмед.
К полудню Булакович заметил, что и в самом Черкее началось некоторое движение. На улице появились старики, обычно лишь по утрам и вечерам выходившие поговорить друг с другом на площади у мечети. Появилось много конных, проехал обоз из русских фур и телег и, не задерживаясь в ауле, потянулся в горы. Оживленней было и в саклях. Почти непрерывно пылали очаги, над крышами вились дымки; женщины все чаще сновали по улице, нося из родников воду в кувшинах. Да и сам Булакович уже не привлекал ничьего внимания. Приезд имама после победоносного налета на Кизляр был главным событием дня.
– Ваша блахородия, старшина гово́рит, иди сакла, сиди там, улица не ходи… пока имам не приехал. Сейчас Черкей минога разны народ ест – чечены, тавлин, кумыки, всякий… Ты русски, тебя знает имам, Шамиль-эфенди, мюриды мало знают… не дай бог обижат будут…
Булакович понял тревогу старшины. И в самом деле лучше было дождаться приезда имама в сакле, чем мозолить глаза все прибывавшим в Черкей конным и пешим воинам имама.
Часов в пять дня по аулу проехали конные. Оживление и шум заполнили улицу, и Булакович понял, что прибыл имам. Потом все стихло. Никто не входил, не тревожил его, лишь мальчишка, племянник старшины, внес кувшин с водой, три куска пшеничной лепешки, миску с густым супом, в котором плавали куски баранины и, подмигнув, негромко сказал: «Ийи [43]43
Кушай.
[Закрыть], Иван… харашо» – и удалился.
Не было и Ахмеда. Что происходило за стенами дома старшины, где находился имам, куда прошли толпы конных и пеших мюридов?.. Булакович, теряясь в догадках, решил ждать покорно и терпеливо.
Наконец, часам к семи, когда солнце уже уходило за горы и через маленькое оконце было видно, как менялись цвета утесов и гор – от нежно-розового до фиолетово-зеленого и темного, – в комнату вошел Шамиль. Он дружелюбно потрепал русского по плечу, что-то сказал по-кумыкски и так же быстро вышел из боковушки. Шедший за ним переводчик сел возле Булаковича.
– Шамиль-эфенди гово́рит: здравствуй, кунак. Как твоя дела? Он сейчас маджид [44]44
Мечеть.
[Закрыть]пошел, там имам, там Гамзат-бек, там се булшой мюриды. Завтра имам тебе видать хочет, теперь сиди, сипи, я тоже иду маджид, намаз пора.
Только к полудню следующего дня Булаковича позвали в кунацкую старшины. Когда он вошел в комнату, в ней уже находились Гази-Магомед, Шамиль, Гамзат-бек, чеченский наиб Бей-Булат, начальник кумыкской пехоты Аскер-эфенди, старшина и мулла Черкея. Сыновья хозяина прислуживали гостям, стоя у стен и дверей сакли. Они были молоды и в совете старейшин участвовать не могли.
– А-а, русский гость, – сказал Гази-Магомед, кивая Булаковичу. Все сделали то же, а один из сыновей кадия придвинул табурет. Все сели. Ахмед, сидевший возле старшины, сказал:
– Имам спрашивает, как твоя здоровья? Хараша был здесь жист, угощения?
– Очень. Поблагодари, Ахмед, от меня имама и скажи, что я всегда буду помнить и благодарить его и моих хозяев, старшину и его сыновей.
– Гость посылается нам аллахом, – коротко сказал Гази-Магомед.
Женщины, не входя, у дверей передали сыновьям старшины казан с густой шурпой, оловянные кружки, два кувшина с холодной родниковой водой и большую глиняную тарелку с разложенными на ней кусками чурека. Потом внесли чуда [45]45
Фарш из тыквы.
[Закрыть], киярхычин [46]46
Суп по-лезгински.
[Закрыть], куски дымящейся баранины со стекающим с шампуров жиром. Это был шашлык – кушанье, заимствованное горцами у грузин Кахетии и закатальских лезгин.
Мулла что-то нараспев прочел, не повышая голоса, после чего все начали степенно есть, макая мясо в неизменный чесночный настой, налитый до краев в миску. Ели, изредка перебрасываясь одной-двумя фразами.
Булакович ожидал, что имам и его люди будут делиться впечатлениями о взятии Кизляра, о налете на русскую Затеречную линию, о геройстве мюридов и слабости русских войск. Но мюриды ни слова не сказали об этом. Ни Гази-Магомед, ни Шамиль, никто не обмолвился об удачном нападении. Разговор шел о повседневных делах, а война и победа над русскими казались обыкновенным, само собой разумеющимся делом, которым никому и в голову не приходило хвастать и кичиться.
Это тоже не было похоже на раздутые подвиги и хвастливые реляции генералов, спешивших донести в Тифлис и Петербург о своих сомнительных сверхгероических победах над «скопищами хищников», над «ордами лжеимама», «разбойничьими партиями Бей-Булата чеченского и аварского Шамиля».
Булакович изучал своих хозяев, имама, Шамиля. Его интересовало все: и как они ели, и как держались друг с другом, и их отношение к татарину-переводчику, и, конечно, к безмолвно появлявшимся в сакле женщинам. Все было внове, интересно, резко отличалось от досужих рассказов офицеров, якобы бывших в гостях или в плену у горцев. Все здесь дышало строгой простотой, естественной сдержанностью и свободным общением. За обедом сидели равноправные, хотя один из них был имамом, остальные мюридами или просто жителями аула. Ничего похожего на раболепство, на петербургское низкопоклонство низшего перед высшим…
Ели не спеша, макая в огуречно-чесночный рассол куски мяса и хинкала. Баранину разрезали на большие куски, и каждый пальцами рвал или просто откусывал мясо. Пальцы лоснились от курдючного жира, и обедавшие то и дело опускали руки в тазик с водой, стоявший на полу. Большая красно-коричневая тряпка служила для всех без различия полотенцем, и Булакович видел, как имам и переводчик, обтерев губы и пальцы, передали ее Шамилю.
Во всем была какая-то библейская патриархальность, напоминавшая героев Вальтера Скотта или рассказы о первобытной простоте нравов и жизни индейцев Северной Америки.
Как все это не было похоже на суетливое угодничество младших офицеров перед командирами полков или генералами, приезжавшими в крепости и гарнизоны!
«Что офицеры?» – думал Булакович. Ему, с малых лет жившему в Петербурге, бывшему гвардейцу, посещавшему в свое время великосветские салоны, маршировавшему с солдатами по Марсову полю в присутствии царя и великих князей, ведомо то униженное низкопоклонство, рабский трепет, верноподданнический, лакейский огонек и умиление в глазах генералов, графов и придворных вельмож, когда им «посчастливилось» попасть на глаза или отвечать на какой-нибудь пустой вопрос Николая и грубые остроты его брата Михаила.
Булакович проникался все большим уважением и симпатией к этим мужественным, простым, естественным, как природа, как их горы и водопады, людям.
«Такими, вероятно, были наши предки, когда не знали денег, бояр, крепостной зависимости, гнева и прихотей царей. И этих людей у нас считают «злодеями», «хищниками», «разбойной ордой», – припоминая слова официальных донесений, победных реляций, выражения генералов, переписку Ермолова с Петербургом, тоскливо размышлял Булакович.
– Что задумался? Ешь, кунак. Молодой должен хорошо кушать, – через переводчика сказал ему Шамиль, и все закивали, а Гази-Магомед дружелюбно хлопнул его по плечу:
– Кусай… кусай… – и рассмеялся ласковым смехом.
По-видимому, «кусай» было одним из тех немногих русских слов, которые знал имам.
– Мало ешь, гость. Все думаешь, – сказал Гази-Магомед.
– Думаю о вас, имам. О том, что вовсе не знаем мы, русские, горцев.
– Потому и воюете против нас, что не знаете. Что ж ты увидел и узнал нового?
– Пока еще мало, но то, что вижу, говорит мне, что вы – гордый, вольнолюбивый народ, а не дикари, как вас называют наши начальники.
Собеседники молча слушали его. Переводчик с трудом передавал слова Булаковича, но Гази-Магомеду и другим был понятен смысл слов пленника.
– Я верю тебе, урус. Ты человек храбрый, справедливый и перенесший от своего падишаха много горя и зла. Мы знаем, что здесь немало солдат, которые пытались сделать своему народу добро, но аллах не помог им. Ничего, урус, во всем, что случается на свете, есть воля и мудрость бога, ничто не делается без его воли… Вы не смогли докончить свое дело, значит, на то воля аллаха… Мы тоже стремимся к тому, чтобы простой народ был свободен и сыт… И пока аллах и пророк помогают нам.
Булакович вспомнил 14 декабря, Сенатскую площадь, одиноко и безропотно стоявших под огнем пушек солдат.
– Ты прав, имам. В следующий раз мы будем умнее.
Гази-Магомед с сожалением посмотрел на него и покачал головой.
– Следующий раз придет нескоро. Царь теперь знает, что делать с вами. Слушай, что я тебе скажу. У нас здесь будет большая война, тебе не надо быть в Черкее… Вот что надумали мы, – он указал рукой на присутствующих, – или возвращайся к русским… мы дадим тебе свободу, ты наш гость, и мюриды проводят тебя до русских мест, или же уезжай в горы и будешь с нами столько, сколько захочешь сам.
Переводчик медленно переводил слова имама.
Остальные молча ждали ответа.
– Имам, еще раз спасибо тебе и всем этим добрым людям за то, что вы хотите отпустить меня назад, но… это невозможно. Подумай сам, я – человек, разжалованный из офицеров в рядовые, долго сидел в тюрьме за то, что бунтовал против царя, попал в плен вместе с солдатами. Вы меня кормили, хорошо относились ко мне, назвали гостем и отпустили обратно. «За что такая милость? – спросят меня судьи и генералы. – Почему отпустили тебя, а задержали остальных?» Что я скажу им на это? Врать, имам, не буду. Я – воин, честный человек, люблю правду и скажу им то, что было. Они не поверят, никогда не поверят мне!
Ахмед с трудом переводил слова Булаковича.
– Спасибо тебе, русский друг. Ты честен и справедлив, как истинный ших или мюрид. Нас радует, что среди русских есть люди, которые сердцем и мыслями понимают нас. Но что же все-таки делать? – растроганно спросил Гази-Магомед.
Шамиль дружески смотрел на Булаковича. Гамзат-бек встал, затем снова сел на табурет и тихо сказал:
– Аллах велик. И среди этих людей есть такие, с которыми хочется не рубиться на коне, а вести долгую и сердечную дружбу.
– Отошли меня в горы… И если это возможно, разреши послать письмо в Грозную, чтобы знакомые мне офицеры выкупили меня. Выкуп – обычное дело, и тогда это никому не бросится в глаза.
– Ты наш гость, нельзя брать денег с гостя, с которым делил чурек и пищу.
– Имам, среди пленных есть раненный в руку солдат. Он беспомощен и одинок. Я напишу, чтобы нас выкупили обоих, – предложил Булакович.
Все молчали.
– Я – ваш гость, но русские ведь считают меня твоим пленником, и выкуп только утвердит их в этом.
– Как думаете вы, братья? – обращаясь к присутствующим, спросил имам.
– Русский прав. Если отпустить его без выкупа, ему отрубят голову, – сказал Шамиль.
– Повесят или расстреляют, – поправил его знавший русские порядки Ахмед.
Все рассмеялись.
– Одно стоит другого, – согласился Булакович, когда переводчик объяснил ему причину смеха.
– Имам, отправь его к нам, в Чечню, хотя бы в мою саклю, – предложил Бей-Булат. – Я прикажу всем аульчанам уважать и оберегать русского. Он будет и вашим и моим гостем, а тем временем наши лазутчики через мирных чеченцев передадут в крепость его письмо, и русские выкупят пленного.
– Хорошо. Сделаем так. Я хочу задать ему еще один вопрос, братья, а вы следите и слушайте, что скажет русский, – предложил Гази-Магомед. – Переведи, Ахмед, мои слова… Скажи, наш гость, если мы вернем тебя за выкуп или просто так, без денег, обратно к русским, можешь ты дать нам вот здесь, сейчас, клятву, что никогда больше не будешь воевать с нами… Без этой клятвы мы не можем отпустить тебя обратно.
Булакович выслушал Ахмеда и, покачав головой, твердо произнес:
– Нет, имам. Такой клятвы я не дам… я не могу ее дать. Наоборот, я твердо знаю, что мне придется снова воевать с вами. Ведь я – русский солдат и буду выполнять приказы моего начальства, а вы сами знаете, что воин обязан подчиняться командирам. Нет, имам, лучше просто отошли меня в дальние аулы, где я буду пленником до тех пор, пока будет длиться эта проклятая война.
Гази-Магомед встал, положил обе ладони на голову Булаковича:
– Чистый сердцем мюрид… Иди, Иван, к себе… Не надо мне твоей клятвы. Я знаю, что, воюя, душой и сердцем ты будешь с нашим народом. Чем больше будет таких русских, как ты, тем скорее кончится война между нами.
– Аммен! – хором произнесли все.
– Правильные твои слова, имам. Этот русский мне ближе многих тех, кто совершает пять раз в день намаз, а в душе ненавидит газават и мюридов, – сказал Гамзат-бек.
– Иди, Иван… Ты скоро будешь в Грозной и забери с собой раненого солдата. Выкуп за него возьмем небольшой.
Все стали расходиться. Ахмед и чеченец с Булаковичем вышли на улицу.
– Поедешь его аул… хорошо там будет… русски солдат с тобой пойдет, – сказал Ахмед. – Потом обратно Грозная поедешь… Имам тебя уважает. Имам говорит, эта русски чисты человек, как мюрид, обман нету. Имам ха-а-роши, – закончил свою тираду татарин.
Вечер спускался над горами и кумыкской равниной. В серо-фиолетовой дымке виднелись белые верхушки аварских гор. Над высокими хребтами сияло уходящее солнце, и дымно-серая мгла заволакивала горизонт. В ауле зажигались огни, слышался вечерний призыв муэдзина.
«Завтра в путь», – подумал Булакович, еще не зная, что сулит ему жизнь в горах.
Постояв, он медленно пошел к пленным солдатам, чтоб предупредить раненого собрата о решении имама.
Утром Булаковича разбудил Ахмед.
– Ваша блахородия, через три час тебе и солдат, рука ранетый, ихат нада. Шамиль-эфенди говорит, два лошад имам давал, два мюрид-тавлински до чеченски сторона провожает. Одна чеченца-мюрид, тебе кунак будет, тожа едит. Аул Шали тебе возит нада, там сакла Бей-Булат жит будешь, гость будешь, чечены твоя выкуп делат будут. Иди, скажи солдат, скоро ихат нада. Потом суда иди, обедат будешь, старшина салам скажешь, и в дорогу. – Татарин тихо вздохнул: – Дай тебе аллах твоя русски дом ихат, жена, детки видат. Меня этого бох не дает. – Он махнул рукой и вместе с Булаковичем вышел из сакли.
Была уже осень. Прохладные утра с еще ярким сияющим солнцем и колючим, щипавшим щеки, ядреным, чуть морозным ветерком.
«А ведь нам будет трудно в осеннюю пору ехать без теплой одежды в глубь гор, в дальние аулы Чечни», – подумал Булакович. И он, и солдат были в поношенных мундирах, без пуговиц, с продранными локтями, не гревших даже здесь, на теплой, облитой солнцем равнине.
– Здравствуйте, братцы, – поздоровался он с солдатами, понуро и безнадежно выслушавшими его.
– Значит, покидаете нас, господин разжалованный? – с тоской спросил один из них. – Вас с Егоркиным уведут в горы, а завтра и нас куда-нибудь разгонят.
– А чего делать? Жалиться не на кого. Плен, одно слово – неволя, – горько посетовал другой солдат.
– А на что вам Егоркин, рука у него простреленная, чеченам он не работник, помочи от него никакой. Может, заменить кем, кто поздоровее будет?
Егоркин, сидевший тут же, молчал, не вмешивался в разговор, словно речь шла не о нем.
– Нельзя, его сам имам назначил со мной, – ответил Булакович, не желая говорить о возможном выкупе русскими его и больного солдата.
– Ну чего же исделаешь. Стало быть, Козе виднее, – вздохнул первый. – Да тут и не поймешь, игде будет лучше, здесь али в горах!
– Ну, Егоркин, прощайся с товарищами и пойдем со мной. Скоро ехать, – поторопил раненого Булакович.








