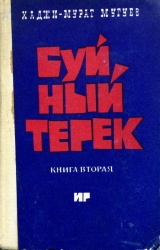
Текст книги "Буйный Терек. Книга 2"
Автор книги: Хаджи-Мурат Мугуев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц)
Заиграл горнист, солдаты быстро собрались во взводы и с нескрываемой радостью поспешили в крепость. Прокатилось орудие, в которое впряглись егеря, прошли фальконеты. Со скрипом закрылись толстенные, окованные железными листами ворота. Солдаты заложили их поперечными стальными полосами, привалили мешки с песком, уложив их штабелями, и, еще раз стянув широкими стальными полосами, завинтили гайки.
Шамиль с пленным казаком Александром и двумя мюридами подошел к сакле, в которой забаррикадировался русский солдат.
За углом, прячась от возможного выстрела, жались к стене несколько человек. Это были местные жители: кумыки, два чеченца и невысокий плотный аварец, стоявший возле кучи тряпья и соломы, которую осаждавшие намеревались поджечь, надеясь дымом и огнем выкурить из сакли отважного русского.
– Держитесь этой стороны… Гяур все время обстреливает нас. Почему имам запретил поджечь саклю? – сердито спросил аварец, недовольно поглядывая на казака.
– Имам приказал взять его живым, – коротко ответил Шамиль.
– Эта собака не сдастся. Его надо убить, – хмуро возразил аварец. – Иначе он перестреляет еще немало наших.
Остальные не вмешивались в разговор.
– Ты не расслышал, что я сказал? – строго спросил Шамиль и повторил резко, повелительно: – Имам приказал русского не убивать, взять живым.
Аварец переглянулся с кумыками.
– Бери, а мы посмотрим, как ты это сделаешь.
Суровое лицо Шамиля стало еще строже.
– …А мы тебе поможем, – поспешно добавил аварец.
– Хасан, крикни русскому, чтоб не стрелял. Скажи, что его никто пальцем не тронет. Это воля имама, и это будет так.
Казак, приложив ладони ко рту, закричал:
– Э-э-эй, браток, браток, бывшее ваше благородие!..
Голос казака звучно разнесся в тишине аульской улицы. Несколько женщин пугливо выглянули из дворов.
Ответа не было.
– Вашбродь, господин разжалованный! Это я, казак Дубовской станицы, што с вами в ауле был. Не стреляй, барин, слухай, чего скажу.
Ответа не было, но спустя минуту раздался голос, глухой, как бы шедший издалека:
– Кто это? Наши, что ли, пришли? Выбили горцев?
– Никак нет, барин. Крепость они обложили, дорога и аул в иховых руках. А говорит с вами казак Гребенского полка Курынов, станицы Дубовской…
– А как же ты уцелел? – уже ближе и явственней послышался голос из сакли. По-видимому, осажденный придвинулся к оконцу.
– Я в плену, барин. Они и вас хочут в плен взять. Обещают помиловать за геройскую вашу отвагу…
– Уйди, а то в тебя стрелять буду! Изменник, продажная душа!.. – закричал солдат.
– Никак нет… Сам имам ихов, Кази-мулла, приказал помиловать, больно ваша отвага ему по душе. Вот со мной его помощник пришел…
– Не сдамся! Взорву и себя, и вас, если кто ворвется в саклю. А, да иди ты-к черту, противно с тобою говорить… Трус, шкура!
– Как знаете, вашбродь, однако я с чистой душой пришел и все, что говорю, – правда. Они б вас не пожалели, кончили б за милую душу, кабы…
– Что «кабы»?
– Кабы вы не были разжалованный. Имам ихний, Кази-мулла, сказал, что царь наш, Миколай Павлович, хороших и самых лучших русских людей повесил, а остальных в тюрьмы да ссылки послал.
– А откуда он это знает? – послышался уже несколько удивленный голос.
– Видать, знает. Они, вашбродь, и про дворян, что бунт подымали, знают, и про то, что других на Капказ сослали, тоже знают.
– Так что ж он хочет?
– Ничаво. Просто, говорит, хорошего человека спасти нужно, ежели его царь не сгубил, так чего нам таких губить, – входя в роль, от себя приврал казак.
В сакле стихло.
– А не врешь ли ты, приятель? Может, моей головой свою спасаешь, казак?
– Не такие мы люди, барин. Мы и жить могем, как надо, и умирать умеем, как следоваит. Зачем обижаешь, ежели я к тебе с чистым сердцем пошел.
– А кто это с тобой? – полувысовываясь в оконце, не таясь, спросил солдат.
Если б мюриды захотели убить его, ничего не было легче сделать это сейчас. Солдат распахнул оконце и смело, прямо и твердо смотрел на горцев.
Так прошла минута-другая. Шамиль глядел на русского, и в его памяти возник Хунзах, когда он сам, осажденный, заперся в сакле.
– Иди, казак, вместе с посланным от имама. Остальные пусть стоят на месте, – согласился солдат и пошел к двери.
– Смелый человек, воистину мужественный и свободный, – с уважением произнес Шамиль, когда казак перевел ему слова солдата.
Мюриды остались на своих местах, а Шамиль с казаком направились к сакле.
Было слышно, как осажденный отодвигал приставленные к двери вещи. Наконец дверь открылась, в ней показался молодой, среднего роста человек в потертой солдатской рубахе. С левого плеча свисал желтый егерский погон, слегка окровавленный, по-видимому, сбитый пулей.
Из запекшейся раны на предплечье, багровея, чуть выступала кровь. Он спокойно встретил вошедших в саклю Шамиля и казака. Глаза его, большие, выразительные, чуть обведенные темными кругами от усталости и напряжения, пытливо, но без страха разглядывали Шамиля. Ружье было разбито в ложе… Видимо, пули мюридов повредили его. Заметив взгляд Шамиля, солдат невесело улыбнулся:
– Я потому и не стрелял, – признался он и пихнул ногой обломки ружья.
– Скажи ему, Хасан, что наш имам любит храбрых людей, даже если они сражаются с нами. В Несомненной книге сказано: «Мужество в бою открывает двери рая».
Казак перевел. Солдат еще раз взглянул на Шамиля. Они – русский и дагестанец – стояли рядом, с изучающим любопытством вглядываясь друг в друга.
– У него чистое сердце, крепкая рука и ясные глаза. Скажи, имам не ошибся в нем.
Разжалованный выслушал переводчика.
– Скажи ему, – попросил он, – что не все русские враги горцев.
– Как тебя зовут?
– Булакович, – ответил разжалованный.
– Бу-ла-ко-вич, – медленно повторил Шамиль.
Они вышли из сакли. Горячее солнце заливало аул. Мюриды и местные кумыки с любопытством, а кое-кто и недружелюбием ожидали их на углу. Женщины высыпали на улицы, мальчишки попытались было швырять камни в русского, но два-три удара нагайкой и грозный окрик Шамиля разогнали любопытных.
А вокруг Внезапной кипел бой. Слышалась частая пальба, и время от времени то гулко, то глухо били легкие и тяжелые орудия.
Коменданта майор Опочинин нашел запершимся в своей комнате. Ни стук, ни крики, ни угрозы взломать дверь не действовали. И тогда майор вместе с денщиком коменданта и переводчиком прапорщиком Аркаевым высадили дверь.
За столом, положив голову на руки, спал мертвецки пьяный подполковник Сучков. Он похрапывал и не просыпался, пока по приказу майора его не окатили холодной водой из ведра.
– Чего такое?.. Кто сме-ет?.. Кто ты есть такой? – уставясь на майора и не узнавая его, забормотал подполковник.
– Помилуй бог, да вы в своем ли уме? Мюриды под стенами крепости, сейчас начнут штурм, а вы горькую пьете! – негодуя, закричал майор.
– М-лчать!.. Кто ты такой? А? Кто? Я тут начальник! Я комендант, а т-т-тебя раз-жалую в солдаты… Сквозь зеленую улицу пущу… розгами забью до смерти!.. «Эй, пташечка, востроносенька, кого любишь, скажи…» – вдруг запел комендант, вращая мутными глазами.
Это было так неожиданно и нелепо, что денщик не выдержал и фыркнул в кулак, а майор только сплюнул и, уходя, приказал солдату:
– Уложи его в постель да запри дверь, как бы он спьяна чего не выкинул.
– Что мне Кази-мулла… он сволочь, нехристь, а я комендант под-пол-полков-ник, а завтра… ге-ге-не-рал-лом буду… главно-ко-ман-душшим… – бормотал пьяный, пытаясь отпихнуть денщика ногами.
Когда Шамиль привел Булаковича, имаму было не до пленного. Только что подошли отряды из Акуши, Мехтулы, Унцукуля и ауховских чеченцев. Люди и их начальники ждали приказаний имама. Пришедшее на помощь мюридам ополчение было разнородным: лезгины, аварцы, лаки, – но все одинаково горячо верили в святость и непобедимость Гази-Магомеда и рвались в бой, чтобы победить гяуров или положить головы за газават и ислам. Они с почтительным восхищением смотрели на Гази-Магомеда, простого, скромного и в то же время какого-то отрешенного от земли.
Имам был храбр, его мужество и отвага поражали даже таких известных всем храбрецов, как гимринский Ташав аль-Гимри, черкеевский Hyp-Али, акушинский Абдулла аль-Акуши, но, как всегда это бывает в народе, слухи и рассказы о нем во много раз были преувеличены.
Они смотрели на его коричневую с двумя заплатами черкеску, на высокую папаху с белой чалмой, на его сосредоточенное, задумчивое, как бы аскетическое лицо и еще больше восторгались своим имамом.
– Святой… угодный аллаху человек… Подвижник, спасающий нас… Тень и подобие пророка, – повторяли они, стараясь, чтобы Гази-Магомед не услышал их. Все знали, что имам строг к тем, кто пытается возвеличить его святость, и это тоже нравилось людям.
– Хасан, скажи ему, – показывая на Булаковича, сказал Гази-Магомед, – что сейчас идет бой и у меня много, – он как-то добродушно улыбнулся смотревшему на него пленнику, – дел, которые аллах и народ возложили на меня. Пусть он спокойно отправится в Черкей. Как только позволит бог, я буду в Черкее и тогда поговорю с ним.
Казак перевел его слова. Булакович, внимательно наблюдавший за Гази-Магомедом, спокойно сказал:
– Я не сомневаюсь и буду ждать его возвращения в Черкее.
– Этого человека, – указывая на Булаковича, продолжал Гази-Магомед, – посадить на коня и отвезти в Черкей. Он будет гостем старшины. Смотрите за ним, берегите его и не делайте ничего дурного, если только он не захочет бежать.
Булаковича увели, а Гази-Магомед, отойдя в сторону от не сводивших с него глаз ополченцев, открыл военный совет. Ташов-хаджи, Шамиль, акушинский Бей-Булат и еще несколько начальников отрядов, сев на камни возле дороги, стали совещаться.
А под крепостью и вокруг нее кипел бой. Пехота имама подошла к валам. Несмотря на все усиливавшийся огонь, пешие горские цепи заняли рвы, вышли на валы и беспрерывно обстреливали бойницы и стены крепости ружейным огнем.
Конница Гази-Магомеда, рассыпавшись по равнине, блокировала все дороги и подступы к Внезапной. Ее разъезды дошли до дальних кутанов [35]35
Пастбища.
[Закрыть], но в них никого не было – ни овец, ни пастухов. Вероятно, еще с утра, заслышав пушечную стрельбу, пастухи отогнали овец в безопасное место.
Начальник конной партии, аварский мюрид Алигуль-Хусейн, был раздосадован этим. Пастухи могли сообщить русским и тем, кто якшался или вел с ними торговлю, о нападении имама на крепость. А это значило, что из Темир-Хан-Шуры или из-за Терека, со стороны казачьих станиц, в любой момент к русским могла прийти помощь. Конница рассыпалась на небольшие группы, пошла в сторону Терека, к крепости Бурной, с налету захватила укрепленный пост Аджи-Кульский и уничтожила в нем пятьдесят пять солдат, но исчезнувшие стада так и не нашла.
Только к утру следующего дня вернулись конные партии в Андрей-аул. Гази-Магомед, сдвинув брови, выслушал сообщение об исчезновении отар. Значит, местное население, так радостно встретившее его, теперь должно кормить и его четырехтысячное войско.
Каждый всадник Гази-Магомеда имел с собой питание – чуреки, сыр, кукурузные лепешки, иногда вяленое мясо – только на три дня, а в саквах двухдневный запас ячменя или овса для лошади. В дальнейшем воины должны были собственными средствами добывать пропитание для себя и фураж для коней или переходить на содержание жителей тех аулов, которые они занимали.
– Шамиль, останься здесь. Гамзат-бек вернется сюда после захвата крепости Бурау, а я, с помощью аллаха, спустя два дня, если мы не возьмем Внезапную, уйду с частью войск к Гудермесу, откуда могут идти на нас эти проклятые казаки с их нечестивым генералом, – заканчивая военный совет, сказал Гази-Магомед.
Ночью конная колонна в девятьсот человек ушла из-под стен Внезапной к крепости Бурной, которую осадил Гамзат-бек.
Под утро пехота Гази-Магомеда произвела второй, яростный штурм Внезапной. Горели костры из остатков сараев и домишек, еще уцелевших на форштадте и в бывшей солдатской слободке. Они пылали всю ночь, и всю ночь били крепостные орудия.
Утро взошло над кумыкской равниной. Солнце выкатилось со стороны кизляро-астраханских степей и озарило горы, поляны, холмы и аулы. Но бой за крепость не стихал. Как и ночью, мюриды осыпали стены Внезапной градом пуль. Их легкое орудие обстреливало крепость, а пехота со штурмовыми лестницами лезла вперед.
Русские отбивали атаки, иногда обливали кипятком наиболее ретивых горцев, пытавшихся заложить порох под стенами крепости. Бились все – и русские, и армяне, и кумыки, связавшие свою жизнь с русскими поселениями.
Укрепление Темир-Хан-Шура, именовавшееся солдатами и офицерами городом Шура́, расположилось на кумыкской плоскости, невдалеке от резиденции шамхала. Это было самое мощное укрепление русских в Дагестане. Петровск – Дербент – Внезапная – Бурная – Низовая и, наконец, Грозная – вот основные опорные пункты русской левой, так называемой Дагестанской линии. Между ними по дорогам и на стыках торговых и стратегических путей стояли редуты, сторожевые башни, укрепления, блокгаузы. Все они носили временный характер, их строили, чтобы наблюдать за дорогами и окрестными аулами, собирать сведения у лазутчиков и своевременно сообщать обо всем в штабы расположенных по линии отрядов и, конечно, вступать в бой с противником, если горцы успевали блокировать эти посты.
Сторожевая башня «Русский штык», как ее называли в приказах, была выдвинута на полторы версты от укрепленного редута «Вельяминовское». В ней было три этажа с выходом на самый верх, где дежурил наблюдатель. Башня была каменная, с прочной деревянной дверью, построенная по типу горских боевых башен, с той лишь разницей, что была она значительно шире, просторнее. Три ее «помещения», нечто вроде простейших комнат, соединялись между собой деревянной лестницей. В первом этаже располагался солдатский наряд – человек восемь; во втором хранились порох, пули и солдатский провиант; третий занимали сигнальщик и начальник поста. На каменных плитах смотровой площадки был сложен костер из соломы, сена и хвороста, который в случае тревоги немедленно зажигал наблюдатель.
Обычно начальником башенной команды назначался ефрейтор или кто-либо из старослуживых солдат, но сегодня им был юнкер, уже дважды отлично выполнивший это нехитрое поручение.
Команда только час назад сменила солдат, которые ушли к полуроте в форпост «Вельяминовское», и радостно располагалась на двухдневную сторожевую службу.
Грубость офицеров, ругань и зуботычины фельдфебелей, постоянный «глаз» начальства, боязнь провиниться и попасть в наряд, а то и на «зеленую улицу» остались там, в укреплении. Здесь было вольготнее и проще, и эти двухсуточные посты всегда доставляли солдатам удовольствие, хотя и грозили бедой при встрече с горцами.
Юнкер, пухлощекий юноша лет двадцати, тоже был рад на время остаться самостоятельным командиром. Ему льстило и почтительно-дружеское внимание солдат, и что здесь он мог отдохнуть от бесконечных карт, проигрышей в «трынку», опостылевшей ему водки и глупых рассуждений командира роты, поручика Панкратова, кичившегося тем, что он когда-то учился в Москве.
– Господин юнкарь, чайку не желаете? Только с огня, да вот лепешек с белой муки, ох и скусные! – поднимаясь по лестнице, сказал один из солдат.
С нижней площадки пахло чем-то вкусным, доносились голоса, и юнкеру страсть как захотелось сойти вниз.
– Охотно, друг. Только что ты меня все «юнкарь» зовешь? Когда я в отдельности от роты и начальства, зовите меня просто Фомой Иванычем.
– Так кому как… Вон юнкарь господин Тимохин из пятой роты, что допрежь вас у нас был, так тот дюже серчал, когда его по имя-отчеству величали.
– Так то Тимохин, а то – я, – усаживаясь в солдатский кружок возле фыркавшего чайника, добродушно улыбнулся юнкер. – А ну, ребята, рассказывай, как дома жили, – прихлебывая пахнущий дымом чай, предложил он.
Солдаты засмеялись.
– Как жили… Да не дюже хорошо, однако сменяли б службу на Капказе на деревенскую.
– Да как мы жили? По крестьянству, как все мужики живут, – подкладывая юнкеру кусок пшеничного чурека, откликнулся пожилой солдат. – Жили в деревне, работали на барина, крепостные мы, ну, спасибо, барин наш, может, слыхали, Желваков Антон Степаныч, не из дюже лютых был, а как выпьет, так даже и вовсе добрый и веселый. Один грех за ним водился – девок да баб любил и не токмо что своих, но и чужих не пропущал. При нем еще жить можно было, а вот как его убили да приехал новый, чи его племянник, чи брат…
– Кто же его убил… на войне, что ли? Он что ж, военным был? – поинтересовался юнкер.
– Какой на войне?.. Он в городе, а деревня наша невдали от Рязани стоит. В женку одного офицера, можно сказать, влюбился. Ну, подарки стал посылать, цветы разные, еще чего следоваит, не знаю.
– Крепко, видно, врезался, – засмеялись солдаты, – ничего не стал жалеть…
– Ничего… – убежденно подтвердил рассказчик. – В долги полез, роща у него была березовая, десятин шестьсот, а то и поболе, и ту продал, для своей голубки деньги нужны были… Та-а-к… ну, а муж-то ейный, капитан, что ли, драгунский, заприметил, как наш Антон Степаныч вкруг его мадамы пляшет, да однова на балу в Рязани ка-а-к хряснет нашего-то по морде, – солдат помолчал и поправился, – по скуле, тот аж на пол свалился. А через день эта самая…
– Дуэль? – подсказал юнкер.
– Она! Ну, наш-то помещик больше глазами по бабам стрелял, а тот… капитан-то, в медалях да с отличиями был. Он нашего Антошку ка-а-к дербанет из пистоли, да наповал!
– Ишь ты, – с удивлением загалдели солдаты. – Не суйся, значит, до чужой жены… Это и правильно, а то чего ж, ежели каждый к чужой бабе полезет…
– Ну, ему смерть, а нам беда пришла, – продолжал солдат. – Хучь Антон наш Степаныч и бабник и распутник был, однако ж людей не мучал, не порол, кос не стриг, никого не продавал, и жили мы под им спокойно. А вот приехал наследник этот самый, собой высокий, худой да гордый… Ни с кем ни слова, никому ни добра ни зла, только пошептался со старостой, съездил в Рязань да и продал нас господину Аблисимову, тоже рязанский помещик, как есть со всеми потрохами, с деревней, с землей, с лесом.
– А тот что, лютый оказался?
– А кто его знает! Мы его и не видели. Приехал его управляющий, немец Адольф Иванович. Вот этот дал нам горя. Собой худой, морда бритая, на людей не смотрит, глаза косит на сторону, и все ему не то, все плохо. Сам не бьет, а полсела отодрал на конюшне, и девок, и баб, и стариков, и никакого ему резонта не докажешь…
– Одно слово – немец! У нас тоже такой подлюга, Густав Густавыч, был, так мы его ночью спалили, – сказал один из солдат.
– И стоит! – поддержал рассказчик. – Как уж там у нас дальше пошло б, не знаю, однако меня он в лекруты сдал, хотя и годки мои вышли, и сам не просился.
Все замолчали.
– Хуже нет, как новый помещик объявится, ни ты его, ни он тебя не знает. Вот и идет такая каруселя, – покачивая головой, сказал солдат, наливавший вторую кружку юнкеру.
– Ребята, в ружье! Тре-во-га!! – закричал сигнальщик и снова бросился к вышке.
– В ружье! – вскакивая с места, скомандовал юнкер.
Солдаты разом похватали ружья и заняли места у бойниц. Наверху гулко забил сигнальный колокол. Юнкер выбежал было наружу, но буквально замер, застыл на месте: вся близлежащая дорога была черным-черна от мчавшейся к башне конницы. Пыль столбом стояла за нею, мешая разглядеть задних. С холмов, всего в двухстах саженях от дороги, бежали к башне толпы пеших горцев, и все это делалось без крика и шума, в жутком и страшном безмолвии.
Юнкер вскочил обратно в башню.
– Запирай дверь на крюки! Закладывай ее мешками! – приказал он. – Троим остаться здесь, остальные за мной. – И, перепрыгивая через ступени, понесся наверх, на вышку, откуда открывалась картина предстоящего боя.
Колокол уже не гудел. Вороха соломы и сена, подожженные сигнальщиком, горели медленно и дымно. Вдали, на форпосте № 3, также загорелся сигнальный костер.
«Слава богу, значит, в укреплении уже знают о налете хищников», – подумал юнкер.
И вдруг по всему полю, на дороге и на холмах разнеслось громкое, заунывное и страшное «ал-ла-а!».
Ружейная стрельба то заглушала этот многоголосый крик, то тонула в нем. Конница горцев окружала башню.
– Ребята, беглым огнем пали! – скомандовал юнкер, и несколько разрозненных выстрелов защитников башни растворились в общем гаме, крике, пальбе. – Часто начинай!.. Бей метче!.. – кричал юнкер, то стреляя по врагу, то припадая к смотровой амбразуре. Он видел, как несколько всадников свалились на землю, как забилась раненая лошадь. – Так их… покажем, братцы, как воюют русские… бей их насмерть! – кричал юнкер, а возле бойницы уже лежал убитый солдат, тот самый, что минуту назад рассказывал о своем распутном помещике.
Дым от костра, чад от пережаренного сала, запах сожженного пороха наполнили башню. А внизу в нее ломились мюриды; они чем-то тяжелым били по скрипевшей, готовой сорваться с петель двери. Солдаты, охранявшие вход, с тревожными лицами закрепляли ее, приваливая мешки с землей.
– Ал-ла! Ал-ла! – охватило всю степь, и в этом грозном, неумолимом вопле солдаты чувствовали свою неминуемую смерть.
– Ребята, держись! Наши подойдут на помощь, а пока будем драться, как дрались отцы… – закоптелый от дыма, кричал юнкер. Он уже свалил двух всадников, пыл боя захватил его целиком, сознание, что он командир башни и солдаты смотрят на него, берут с него пример, утроило мужество.
Но солдаты и без того сражались спокойно, уверенно, как будто делали свою обычную работу, не спеша, без сутолоки и суматохи, размеренно и точно.
Еще двое свалились на пол. Только теперь юнкер увидел, что защитников башни осталось всего пятеро, из которых один был ранен, двое охраняли вход, а двое отстреливались. Раненый был еще в силах заряжать ружья, но делал это очень медленно. Иногда пули попадали в колокол, висевший грибом на вышке, и тогда он раскачивался и гудел жалобным, похожим на стон звоном.
Упал еще один солдат, беззвучно рухнул на амбразуру стены. Пуля угодила ему в лоб в тот самый момент, когда он, припав к отверстию, хотел выстрелить в осаждавших. Внизу что-то сильно затрещало, послышались глухие удары… один, другой, затем разбитая, разрубленная топорами, рухнула дверь. В ее проем стреляли мюриды. Были видны их лица, слышны торжествующие крики, бранные слова. Один из солдат упал у двери, другой, отстреливаясь, отходил по лестнице вверх. Мюриды дали залп, и солдат, покачнувшись, выронил ружье и медленно, потом быстрее скатился с лестницы. Мюриды ворвались в башню. Они отшвыривали, оттаскивали от входа мешки с песком, заграждавшие им путь, бросились по лестнице вверх, но юнкер сначала из своего, потом из лежавшего рядом солдатского ружья свалил двух горцев, затем швырнул вниз большой мангал с горящими углями, на котором солдаты подогревали обед, и огромный ведерный чайник с кипятком. Все это было так неожиданно, так не похоже на войну и в то же время столь ощутимо, что горцы на мгновение замялись. Юнкер еще раз выстрелил и, раненный в плечо, опустился на пол.
Атакующие видели, как упал последний защитник, крики торжества заполнили башню. Обгоняя друг друга, желая ворваться первыми, кинулись вверх по лестнице двое лезгин, чеченец и молодой черноусый кумык. Остальные продолжали копаться в разбросанном солдатском имуществе, обшаривать убитых.
Юнкер с трудом подполз к бочонку с порохом. Он ослаб от потери крови, но, собрав последние силы, нащупал разбросанные на жаровне угли и сунул их в пороховой бочонок. Рванулось, взлетело к потолку пламя. Башня покачнулась, вздрогнула, осела, стены ее задвигались, и два последних этажа рухнули на уцелевший первый. Обломки вышки, камней и мусора разлетелись вокруг. Грохот взрыва оглушил всех толпившихся возле башни. Кони, вырвавшись из рук коноводов, носились по полю, люди бежали прочь от башни, а она грузно и тяжело валилась набок.
Дым, пыль и огонь на несколько минут закрыли место, где полчаса назад стояла сигнально-сторожевая башня егерского полка, носившая скромное название «Русский штык».
Командир роты егерей поручик Панкратов, которого и сердцах обругал юнкер, несмотря на тщеславие и желание казаться аристократом, был, в сущности, неплохим и знающим свое дело офицером. Прослужив одиннадцать лет на Кавказе, он хорошо знал горцев, неплохо разбирался и в обстановке. Как только зажегся сигнальный костер и началась ожесточенная пальба у сигнальной башни, поручик немедленно выслал к ней разъезд казаков, а летучую связь, как тогда называли почту, посадил на коней и приказал быть готовой отправиться к крепости Бурной с донесением о появлении мюридов.
Не успев отъехать от роты и на версту, казаки заметили конные и пешие толпы горцев, не только окруживших башню, но и шедших к укреплению. Казаки повернули назад, на намете примчались к форпосту, но поручик уже и сам понял угрозу, нависшую над ним, редутом «Вельяминовское» и крепостью Бурной. Четверо конных поскакали к крепости.
Панкратов, понимая, что удержать укрепление он не сможет, хотел отвести свою роту в крепость, но было поздно. Конница горцев отрезала дорогу, а пехота обложила укрепление.
– Будем биться до последнего… Милости от них не жди, – кивая на горцев, сказал поручик.
Солдаты заняли свои места. На валу стояли легкое орудие, ракетница и фальконет. Из четырех повозок, фургона и нескольких горских арб был составлен вагенбург, за которым засели стрелки, открывшие огонь по горцам. Солдаты с горечью и болью смотрели вперед, туда, где находилась башня и где неумолчно слышалась стрельба.
– Кабы помог господь, удержались бы наши, – крестясь, сказал один из солдат.
Остальные не отвечали ему, понимая, что горсточка защитников не может, не в силах удержаться в башне.
– Эта шайка не устоит противу нас, братцы, только бить на выбор, а там и в штыки, – начал было поручик, но глухой взрыв остановил его. Над башней поднялся сизо-белый, затем черный дым. Он кружился под ветром, потом рассеялся и осел. Башни не стало. Солдаты крестились. Кто-то из старослуживых громко произнес:
– Упокой, господи, души убиенных рабов твоих…
– Смирно! – закричал поручик. – Юнкер и отделение героями сложили свои головы за родину и царя. Покажем и мы, братцы, себя… Отомстим за своих… Орудие, бей гранатами и картечью по гололобым!.. Ракетнице и фальконету открыть огонь… Тут, куда ни бей, промаха не будет… Ишь ведь их сколько!
Действительно, вся конная и пешая сила Гамзат-бека после гибели сигнальной башни ринулась к укреплению.
Егерская рота насчитывала всего восемьдесят шесть человек. И эта ослабленная, защищенная непрочно сделанными временными укреплениями горсточка солдат полтора часа сопротивлялась яростно штурмовавшим форпост мюридам. Четыре атаки горцев были отбиты огнем орудия, залпами и штыковым ударом.
– Братья, правоверные, львы ислама, вперед!.. Блеск наших шашек затмит огонь их ружей. Вперед во славу аллаха! – спешившись, обнажив клинок, призывал Гамзат.
Человек большой воли, несокрушимого мужества, особо почитаемый горцами за ученость и исключительное знание всех тонкостей и толкований корана, этот человек был уважаем мюридами и за то, что будучи сам из горской знати, из владетельных беков, он безоговорочно присоединился к новому учению и стал одним из ревностных учеников и помощников Гази-Магомеда.
– Ля илльляхи иль алла! – закричали горцы и, возбужденные его словами и мужеством, распевая слова молитвы, бросились на пятый штурм разбитого укрепления и все еще стойко державшегося вагенбурга. На этот раз им удалось ворваться внутрь форпоста. Рубя, крича и стреляя, они разметали вагенбург. Форпост перестал существовать. Поручик Панкратов был зарублен возле орудия, которое пытался отбить. Орудие, фальконет и ракетница, с лотком нерасстрелянных ракет достались горцам; девять солдат попали в плен.
– Сжечь все до основания и вперед, братья! Уничтожим и Бурау и эту проклятую крепость, – садясь на копя, сказал Гамзат-бек. Его коричневая черкеска была разорвана в двух местах, ружье дымилось и пахло порохом, но глаза убежденного в своей правоте человека смотрели твердо и вдохновенно.
Когда остатки форпоста с трех сторон занялись пожаром, полчища Гамзат-бека двинулись к крепости Бурная.
Комендант Бурной полковник Федотов не был похож на коменданта Внезапной. Старый кавказский солдат, участник многих ермоловских походов в горы, он еще молодым прапорщиком получил Владимира с бантом за знаменитый бой под Аслан-Дузом, где генерал Котляревский наголову разбил огромную армию персов.
Федотов знал солдата, любил его, был справедлив, но не потакал лодырям. Солдаты любили его за то, что он, не в пример многим командирам полков, рот и отдельных частей, не был вором, не совал рук в экономические суммы, не обкрадывал солдат и казну, а, наоборот, отменно хорошо кормил нижних чинов и ни разу не позволил прогнать сквозь строй ни одного солдата.
Нападение на крепость не было для полковника Федотова неожиданным. Он еще месяц назад ездил в Темир-Хан-Шуру к генералу Эммануэлю, пытаясь убедить командующего левым флангом Кавказской линии в том, что войск в крепости мало и сама крепость приходит в упадок, плохо защищена.
Эммануэль сухо выслушал полковника и с типично немецким чванством чопорно сказал:
– Это не Европа, где нужны вобаны [36]36
Вобан – знаменитый французский инженер, строитель крепостей и фортификационных сооружений.
[Закрыть], чтобы остановить французские или немецкие полки. Здесь Азия, противник – полудикари, и мне хочется, полковник, чтобы вы уразумели это и больше не обращались к начальству с подобными рапортами.
Федотов вернулся в Бурную, а Эммануэль к вечеру забыл и о нем, и о своей нравоучительной фразе. Полковник своими силами стал укреплять внешние подступы к Бурной, углубил ров, возвел дополнительный вал, заполнил каменные цистерны водой и выписал добавочные запасы пороха, ядер, пуль, фуража и провианта. Своей властью он задержал в Бурной два единорога, чинившиеся в крепостной мастерской, и выслал за Терек всех лишних людей, запретив даже торговцам появляться в крепости. И не напрасно.
Прошло уже пять дней с момента нападения войск Кази-муллы на Внезапную. Горцы несколько раз пытались штурмом взять крепость, но гарнизон отбивал все атаки. Не хватало воды, и майор перевел защитников крепости на сокращенный паек. Раненых и убитых было немного, так как стены крепости защищали солдат от обстрела, а две легкие пушки имама ничего не могли поделать с добротными воротами и укреплениями Внезапной. Орудия крепости не позволяли артиллеристам имама, состоявшим из беглых русских солдат, безнаказанно обстреливать Внезапную, а одно из ядер, пущенных со стены крепости, разворотило лафет и пушку горцев, вызвав взрыв порохового ящика.








