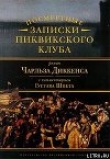Текст книги "Сочинения"
Автор книги: Густав Шпет
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 46 страниц)
Однако некоторые недоумения и сомнения все же должны были рождаться – если и не из правильных постановок вопросов, то хотя бы из недоразумений плохого понимания священных текстов или неуменья их согласовать между собою. Это могло вызвать еретические отступления от буквы закона, обряда, догмата и при своем распространении требовало, между прочим, и литературного выражения. В свою очередь, и официально признанное вероученье тогда нуждалось в соответственной защите и в обличении ереси. За отсутствием научного и философского образования и то и другое искало аргументов через «начетничество». Но кроме того еретическое мнение вынуждено было искать каких-нибудь «тайных» эзотерических источников подпольного апокрифического или иноверческого характера. Были, конечно, и другие причины, характера социального и культурного, вызывав-шие еретическое или отрицательное направление религиозной мысли,—в особенности на окраинах государства, легче и быстрее впитывавших в себя влияние иноверных н инобытных соседей. Так, внимание историка философии может привлечь перевод Логики, принадлежавши, вероятно, приверженцам распространившейся с XV
века ереси жидовствующих1. Эта Логика была переведена на фантастически исковерканный славяно-русский язык, по всей видимости, с еврейского, хотя первоначальный ее источник – арабский. Если бы даже не было других оснований, то достаточно было бы взглянуть на тарабарский язык рукописи, чтобы убедиться, что ни к разумному усвоению, ни к воспитательному воздействию она не была пригодна,—она могла внушать разве только теософическое благоговение.
Я имею в виду Логику Авиасафа, описанную академиком А.И.Соболевским (Переводная литература...– С. 406 <и> сл.), хранящуюся в библиотеке Киево-Михайловского монастыря и изданную С.Л.Неверовым {Логика иудействующих по рукописи 1483 года. – К<иев >, 1909). Вопрос об авторском происхождении этой Логики можно считать теперь решенным благодаря исследованию известного семитолога П.К.Коковцева (К вопросу о Логике Авиасафа.– Спб., 1912,—из ЖМНП за 1912 г.). Найденные отрывки сочинения, приписываемого Авиасафу, представляют части перевода сочинения Maquasid al-falasifa {Стремления философов) Абу-Хамида Мохамеда Аль-Газалия (ум. 1111), ревностного борца против философии и реформатора Ислама в духе мистицизма (С. 9). Названное сочинение Аль-Газалия есть подготовительная логическая часть к его общему труду Tahafut al-falasifa {Ниспровержение философов), содержащему логику, метафизику и естествознание. Найденные отрывки русского перевода содержат в себе, кроме частей Логики, также часть из Метафизики (С. 12). Ближайшим оригиналом русского перевода послужил не арабский текст, а анонимный еврейский перевод начала XIV века, легший, между прочим, и в основу комментария Моисея Нарбонского (первая половина XIV в.) (С. 13—15, 22).
1 К более ранним «философским памятникам» древней Руси относят иногда так наз < ываемую > Диоптру, перевод которой, вероятно, опосредствованный югославянским переводом, дошел до нас во многих списках. См. Заметку о Диоптре М. Безобразовой в Ж<урнале> М<ини-стерства> Н<ародного> П < росвещения > < Далее – ЖМНП.– Ред.>.– 1893.—XI, где Диоптра призывается в свидетельство несомненности того, что «философией интересовались в России в весьма древние времена». На мой взгляд, Диоптра философского значения не имеет, переводилась как назидательно-богословское произведение, а воспринималась как «священный» о посмертной судьбе души канон, подлежащий усвоению, но не критике, и принимаемый к руководству, но не к философской рефлексии. О месте Диоптры в развитии сюжета о Споре души с телом в средневековой литературе– см. под таким заглавием исследование Ф. Батюшкова (ЖМНП.– 1890.—IX; 1891.—VIII; отд. изд.: Спб., 1891.—С. 84,91); о месте трактата в византийской литературе см.: Krum-bacher <К.>.—Op. cit.– S. 742 ff.
Очерк развития русской философии
Кроме того, А. И. Соболевский описывает хранящуюся в Московской синодальной библиотеке рукопись (N5 943) с заглавием Речи Моисея Египтянина* в каковой рукописи признает перевод сочинения Моисея Маймонида (Переводи <ая> литерат<ура> С. 404; см. раньше его Же: Логика жидовствующих и Тайная тайных, в Памятниках др<евней> письм <енности> и искус < ства> .—CXXXIII.– 1899). Имеются и другие списки этой Логики (см.: < Соболевский А. И.> Пер<еводная> лит-<ература...> – С. 401, прим. и: Голубинский <£. > И<стория> р<ус-ской> ц<еркви>.—<Т.> П.– <Вып.> I.—С. 887). В конце синодального списка имеется ссылка на Авиасафа (< Соболевский А. И.> Пер < еводная > лит < ература... > – С. 405).
Благодаря одолжительной любезности проф. М. Н. Сперанского, я имел возможность познакомиться с собственноручно им сделанной копией Соловецкой рукописи. Она отличается теми же качествами неудобопонятности, что и другие вышеназванные рукописи. Какова бы ни была всех их ценность историко-литературная и историческая, философскому образованию или хотя бы интересу к нему они содействовать не могли. Как сказано, в лучшем случае они могли -оказывать на суеверное сознание малограмотного читателя лишь магическое или теософическое внушение.
С другой стороны, официальной, против ересей возникает своя литература, нуждающаяся в аргументации принципиального и философского типа. Но и собственные вопросы православных иногда требовали авторитетного богословского разрешения. Так, напр < имер >, в средине XIV века новгородский архиепископ Василий разрешает в утвердительном смысле вопрос о том, существует ли еще земной рай и пребывают ли в нем святые или он погиб и святые пребывают в раю мысленном, как то полагал тверской епископ Федор. Принципиальное положение, на которое, наряду с авторитетом св. Писания и свидетельством очевидцев, опирается архиепископ, есть положение, так сказать, о сохранении сотворенного: ничто из сотворенного Богом погибнуть не может, пока не настанут новое небо и новая земля, а потому не погибли и земные рай и ад, служа местопребыванием праведников и грешников.
Интереснее, однако, сочинения именно против еретиков, вроде Просветителя Иосифа Волоколамского (против жидовствующих)1 или Истины показания Зиновия Тенского (против Феодосия Косого) и т.п., где полеми-кетребовала не только ссылок на св. Писание, но
Просветитель, или обличение ереси жидовствующих. Творение Реподобного отца нашего Иосифа, Игумена Волоцкого.—Изд. 4-е.—Казань >, 1904.
и аргументов принципиального типа. Отмечу, напр ««Си-мер >, метафизический характер доказательств бытия Бо-жия, которые приводит Зиновий. Несамобытность, сотво-ренность как живых тварей, так и неодушевленных вещей предполагает Творца; всеобщность веры в Бога, независимо от религии, указывает на ее естественную присущность человеку; сохранение созданного и поддержание сопротивных стихий природы в равновесии предполагает Того, кто удерживал бы их в таком состоянии. Но стоит сравнить это с соответствующей (кн. I, гл. 3) главою Изложения веры Иоанна Дамаскина, чтобы увидеть первоисточник такой аргументации1.
Зиновий, впрочем, исключительно выдающееся явление своего времени (XVI в.) по своей «книжности», логической сноровке и богословскому сознанию —да и не только по богословскому сознанию, как показывает его заявление о том, что «наш русский язык учения философского и грамматики не имать». Много нужно уже для одного понимания Дамаскина. И едва ли он в XVI веке мог найти достаточно обширный круг сознательных читателей. Тому препятствовало и общее невежество, и отсутствие того специального философского и исторического знания, которое давало бы возможность как следует понимать хотя бы развившуюся в истории греческой и византийской мысли философско-богословскую терминологию.
Лишь в XVII веке появился у нас первый – и, кажется, до XIX века единственный глубокий – опыт систематического развития и продолжения дела Дамаскина (Бронзов, LXVI): Православное исповедание католической и апостольской церкви восточной Петра Могилы. Этот опыт исходил, следовательно, уже от представителя русской юго-западной образованности. Его автор есть вместе с тем первый, с кого начинается история высшего образования в России.
До половины XVI века западная Русь отличалась едва ли не большим – если только это возможно было – отсутствием образования, чем и вся провинция московского государства. Историк русской церкви (преосв. Макарий) констатирует, что до семидесятых годов названного столетия во всей литовско-русской митрополии не встречается ни одного училища для православных детей. Польское
1 Голубинский, однако, этого не отмечает (II.—2.—С. 228).
Очерк развития русской философии
пробуждение середины века, однако, стало отражаться и на Литовской Руси. Католическая пропаганда, поскольку она усваивалась, создавала для нее новое культурное содержание, а поскольку она вызывала противодействие, принуждала, по крайней мере, перенимать формы организации и распространения культуры. Существовавшие, во всяком случае, уже в средине XV века ремесленные и экономические организации, известные под названием «братств», объединявших в себе членов независимо от вероисповедания, к концу XVI века явно ставят себе новые задачи. Распространяясь среди православного населения, они защищают свои религиозные, церковные и национальные интересы и обращаются, наконец, к распространению образования, как средства этой защиты.
Православие вдруг обнаружило кипучую деятельность. Иезуиты, распространившиеся в Польше с поразительной быстротою со средины XVI века, победоносно одолевают широко разлившийся по Польше протестантизм, но наталкиваются на упорное сопротивление православия по восточным границам Польши и на Литве. Первый иезуитский коллегиум был основан в 1565 г. (в Брунсберге) введшим иезуитов в Польшу кардиналом Гозием. К концу века иезуиты раскидывают целую сеть своих школ в крупнейших городах края: в Пултуске, Вильне, Познани, Полоцке, Риге, Люблине, Дерпте, Калише, Львове, Данциге, Торне, Варшаве и др. Основанная при Стефане Батории виленская академия (1578) сделалась главным штабом иезуитской пропаганды. Теперь с неменьшей быстротою возникают православные братства (в Львове, Вильне, Мстиславе, Гродне, Могилеве, Замостьи, Люблине, Бресте, Минске, Перемышле и т.д.), еще слабые для одоления иезуитов, но достаточно крепкие для оказания им сопротивления и для поддержания духа среди своих. Методы пропаганды и борьбы перенимаются от противников, и вновь возникающие братства оказываются снаряженными все лучше. Они открывают полемику с католичеством, составляют и печатают соответственную литературу, открывают типографии, заводят школы, заботясь и о необходимой учебной литературе. Унии Люблинская и брестская дали живой толчок к развитию существовавших и к учреждению еще новых братств.
В 1615 году открывается, наконец, такое братство в Киеве. Составив «упис», открыв школу и начав свою Деятельность, киевские братчики доносили царю Михаилу
Федоровичу: «На утверждение благочестия и правосл<ав-ныя> апостольския и отеческия веры, такожде на твердейшее отражение и отгнание ересей, в церковь Божию от врага всех общаго диавола насеянных, мы христиане различных санов, достоинств и упражнений суще, в единстве, любве и в тождество духа совокуплыпися
братство–устроихом.–И училище отрочатом
православным милостию Божиею языка словено-росска-го, еллино-греческаго и прочиих дидаскалов великих иждевением устроихом,—да не от чуждаго источника пи-юще, смертоноснаго яда западния схизмы упившеся, но мрачно-темным римляном уклонятся».
В 1631 году братское училище «труды и тщанием» митрополита Петра Могилы было дополнено, и таким образом было основано первое у нас высшее учебное заведение, Киево-Могилянская коллегия. Как название, так и организация снимались с готовых образцов католических школ. Программа преподавания была взята из краковской академии, языком школы стал язык латинский и частью польский, были введены некоторые польские учебники, воспитательная и учебная дисциплина была организована по образцу польских иезуитских школ1. Философия вводилась в состав преподаваемых предметов в виде логики, или умственной философии, физики, или естественной философии, и метафизики, или философии божественной. Наиболее обширное место занимала физика, более скромное – логика «спорная» и ничтожное – метафизика. Преподавание шло на латинском языке; учебниками, как и вообще по предметам богословски нейтральным, пользовались готовыми, взятыми прямо с Запада. Историки образования обычно их именуют «схоластическими», хотя что они под этим разумеют, не всегда ясно. Исторического указания, во всяком случае, за этим наименованием не скрывается. Это есть скорее характеристика методической стороны изложения предмета, хотя, конечно, с этой точки зрения, раз предмет вводится в школу, он необходимо становится схоластическим. Таким образом, если этим хотят сказать то только, что соответствующие книги философские не были продуктом оригинального творчества, а лишь учебными компенди-
1 Певниикий В. Речь о судьбах богословской науки в нашем отечестве. – Пятидесятилетн < ий > юбил < ей > К < иевской > Д < уховной > А<кадемии> 28-го сент. 1869 г.—К<иев>, 1869.– <С 150>.
Очерк развития русской философии
ями, то это – вполне отвечает действительности. Исторически же «схоластическая» метода философских учебников имела свои этапы развития. Первоначально это были руководства, составленные в виде разъяснений к своими же словами передаваемому Аристотелю и в своем плане долго отражавшие знаменитые Summulae logicales Петра Испанского, а в своем содержании – комментарии Фомы Аквинского. Движение рамистское и затем в Голландии и в протестантских странах мало вносило в эти учебники существенных изменений. Лишь в XVII веке пор-рояль-ские учебники вносят некоторое оживление. Но уже с Вольфа вновь устанавливается определенный канон, который закрепляется в протестантских школах и который опять-таки сплошь и рядом историки именуют «схоластическим». Католические и в особенности иезуитские школы, однако, крепко держались прежних образцов, так что в католических школах еще и в XIX веке можно было встретить старинные образцы учебников по логике и метафизике.
Киевские учителя философии, первоначально заимствовав учебники, к концу XVII века начинают составлять по готовым образцам и собственные руководства. Такие учебники, напр < имер >, были составлены для Могилян-ской коллегии в 1679, 1686, 1693 годах. Какова степень их оригинальности, трудно сказать, не имея перед собою ни их самих, ни их образцов. Из того, что о них сообщают историки Киевской академии, ясно все же то, что можно предполагать и a priori: это еще не философия, это лишь школьное хождение вокруг да около философии, интересное, конечно, для истории просвещения, но не для самой философии.
Просуществовав с перерывами в деятельности до конца века, успев выпустить ряд выдающихся государственных и церковных деятелей, в 1701 году коллегия переименовывается в академию, получает государственное содержание, за нею утверждаются права и привилегии, курс наук в ней значительно расширяется. Прежние задачи ее Давно отошли на второй план, и академия сосредоточивается на профессиональных нуждах клерикального образования. Однако положение философии в течение всего нового века в Киево-Могилянской, а со времени митрополита Рафаила Заборовского – Киево-Могило-Заборов-скои академии мало изменилось. Философия изучалась и кУльтивировалась лишь как вспомогательное для бого-
словских целей средство. Профессорами философии ех officio являются префекты академии, и среди них встречается немало образованных и во многих отношениях выдающихся людей —к сожалению, только не в области самой философии. Продолжается хождение около нее. Среди префектов академии до нового ее преобразования (в 1819 г.) в Киевскую духовную академию встречаются такие, напр < имер >, имена, как Стефан Яворский (первый ее префект), Феофан Прокопович, Георгий Конис-ский. Впрочем, все более крупные имена относятся к первой половине века, завершаясь Конисским. В середине века (с 1752 г.) префект Давид Нащинский, пополнявший свое образование, между прочим, в Саксонии, ломает общее направление преподавания философии, сменяя учебники аристотелевского духа на вольфианский учебник Баумейстера, надолго отселе завладевающий духовною школою. В той же первой половине века профессорами академии был составлен ряд курсов и трактатов, оставшихся в рукописях, но иногда и печатавшихся, как Философия Аристотелева, по умствованию перипатетиков, изданная Киевской Академии Префектом Михаилом Казачинским на Российском и Польском языках (Киев, 1742). В рукописях остались курсы Иннокентия Поповского, Христофора Чарнуцкого, Феофана Прокоповича, Иосифа Вол-чанского, Амвросия Дубневича, Сильвестра Кулябки, Михаила Казачинского, Тихона Александровича, Георгия Ко-нисского.
Со средины XVII века ученики киевского коллегиума выступают в Москве как учителя. Уже в <16>49 году Ртищев выписал из киевской Лавры ученых монахов «для обучения русских свободным наукам» в новоустроенном им близ Воробьевых гор Андреевском монастыре. Вскоре и при царском дворе учителем наследника престола оказался человек киевского образования – Симеон Полоцкий. В Москве затевались уже школы по киевскому проекту и образцу, как противник латинской образованности патриарх Иоаким обратился к восточным патриархам с просьбою о греческом учителе. В этом качестве прибыли братья Лихуды. Не знавшие у себя на родине действительного примера высшей школы, учившиеся в школе западной, они не могли, при всем возможном желании, удовлетворить требование и наказ иерусалимского патриарха Досифея и завести школу безусловно нового типа и исключительно на'греческом языке. И хотя у них грече
Очерк развития русской философии
ский язык ставился в преимущественное положение, значительная часть преподавания велась по-латыни, и к неудовольствию латиноненавистников было невозможно вовсе изгнать западное влияние и знание. Правда, по изгнании Лихудов, при их непосредственных учениках, попробовали было латинский язык устранить из школы, но года через четыре обстоятельства так изменились, что гонимая латынь вновь водворилась и на этот раз взяла (со времени Палладия Роговского) явный и продолжительный перевес.
Лихуды преподавали на греческом грамматику и пиитику, а риторику, логику и физику – на обоих языках. Что занятия по философии шли у Лихудов не весьма удовлетворительно, можно заключить из того, что по удалении их из академии (1694) их ученики (Ник. Семенов и Федор Поликарпов) оказались не в состоянии преподавать философию и богословие, а преподавали только грамматику, пиитику и риторику (все на одном греческом). За восемь лет (1686—94) ученикам были преподаны: грамматика, пиитика, риторика, логика (по Аристотелю) и часть физики (также по Аристотелю). Раздраженный Досифей нечаянно дал, по-видимому, совершенно верную характеристику положения дела, когда писал: «В толикие лета, что живут [в Москве], довелось было им иметь учеников многих и учити бы грамматику и иные учения, а они забавляются около физики и философии». Тем не менее историк академии (С. Смирнов) не без удовлетворения заключил: «Цели образования достигнуты с вожделенным успехом: русские примирились [!] с мыслью о пользе науки...» (68).
К концу века академия совсем падает. Назначение во главе академии Палладия Роговского, несмотря на кратковременное пребывание его на этом посту (~|~ 1703), восстанавливает школу, но уже в новом направлении. Сам Палладий, по-видимому, не знал греческого языка, но много учился за границей, получил там даже степень доктора философии и богословия – первый у нас доктор – и, естественно, направил академию путем ему хоропк знакомым. Симпатии первого протектора академии Сте фана Яворского были также недвусмысленны. По его предложению Петр издал указ: «завесть в Академии учения латинские». Из Киева были вызваны не только учителя, но и ученики, и академия Московская теперь и по форме и по духу становится копией академии Киевской.
3– г Г. Шпет
Философия переживает судьбу также аналогичную. Сперва опыты составления собственных руководств применительно к западным и киевским аристотеле-схоласти-ческим учебникам – примеры которых мы видим в оставшихся в рукописях руководствах префектов академии: Феофилакта Лопатинского (учился в Киеве и за границей), Стефана Прибыловича (К<иевская> ак<адеми-я>), Гедеона Вишневского (К<иевская> ак<адемия>; загран < ичный > доктор философии), Иоанна Козловича (К<иевская> ак<адемия>), Владимира Каллиграфа («перекрещенец из евреев», из учителей К<иевской> ак<адемии>). Сочинения последнего относятся к середине 50-х годов и носят на себе уже печать лейбнице-вольфианского духа. Затем воцаряется Баумейстер. Вместе с тем во вторую половину века Московская академия берет явно перевес над Киевскою. Она успела за это время подготовить собственных профессоров, так что почти все преподаватели философии теперь – бывшие воспитанники самой же академии. Многие из ее питомцев выделились впоследствии на ученом поприще и в литературе. Она дала ряд профессоров Академии наук, в том числе Ломоносова, и Московскому университету. Среди последних был и первый профессор философии Ник. Никит. Поповский, и профессор логики и метафизики уже в конце века (с 1795 г.) Андр. Мих. Брянцев.
Когда при митрополите Платоне (Левшин) академия вступает в новый период развития (с 1775 г.), вызов ученых из Киева окончательно прекращается. Академия стала на собственные ноги, ее работа становится и интенсивнее, и экстенсивнее. Усиливается преподавание языков русского и греческого, вводится преподавание еврейского и новых языков и целого ряда образовательных предметов, между прочим, истории философии, мифологии, истории и др., даже «медицины». Основным руководством по философии оставался по-прежнему один из сотен серых последователей Вольфа, скучный и ограниченный Баумейстер. Этот выбор показателен: как увидим ниже, под влиянием условий, отчасти упомянутых, а отчасти просто вследствие дурного философского вкуса, а может быть, и сознания собственной философской незрелости, в нашей академической философии (духовных академий, а частью и университетов) заметную роль играет выбор образцов для подражания не из крупнейших, самостоятельных и ярких представителей философии, а из второ
Очерк развития русской философии
степенных, подражателей, популяризаторов. Так, сперва Баумейстеры, Винклеры, Карпе и под<обные>, затем какой-нибудь Шулыде, Круг, Вейс и под<обные>, но не сами Кант, Шеллинг, Гегель. Нужно считать значительным прогрессом переход к их учительству.
Баумейстер был так популярен, что был даже переиздан в Москве на латинском языке (1777), как позже Карпе (Institutiones philosophiae dogmatkae. Mosquae, ex officina Vsevolojsky, 1815) и Брукер (в Петербурге). Развития науки, конечно, никакого не было, но, видно, и обучение шло неважно, если после восьми лет своего управления Платон в резолюции на списке студентов философии констатировал, что за это время он «не встречал между учениками достойного имени студента философии». Ни одного деятеля в области философии за это время —т. е. до преобразования и перевода в Троицкую лавру (1814)—академия не дала. В этот третий период своего существования она становится исключительно профессиональным, духовно-учебным учреждением. Если в средине XVIII века ее образовательная роль была шире, то это объясняется, по всей вероятности, тем, что со стороны общества в ту пору стали предъявляться к образованию новые требования. Эти требования возрастали, и едва ли богословская академия могла их удовлетворить, даже если бы хотела. Нужен был университет.
Пушкин назвал Ломоносова первым русским университетом. Бестужев-Рюмин1 применяет это определение к Вас. Никит. Татищеву (1686—1750). Исследователи единодушно сходятся в признании Татищева высшим и типическим представителем образованности Петровской эпохи и полным выражением того наивно-варварского утилитарного понимания задач и ценности образования, которое так характерно для самого Петра. Татищев изложил свое мировоззрение в Разговоре о пользе наук и училищ1, начало составления которого историки относят к 1733 Г0ду. Как показано историками (Н. Попов, Милюков), сколько-нибудь общие, философские взгляды Татищева – прямо заимствованы (преиму-
1 Биографии и характеристики.—Спб., 1882. С. М. Соловьев уделяет Татищеву наряду с Ломоносовым «самое почетное место в истории русской науки, как науки в эпоху начальных трудов».
2 Впервые Разговор издан Нилом Поповым в 1887 г. в Чт<ениях> Общества > Ист<ории> и Др<евностей> Р < оссийских >.– Ср., кро-ПклТ (пеРвон < ачально > 1875 г.) Бестужева-Рюмина, ст. Нила Попова livMHn.—1886, июнь), издавшего еще в 1861 г. исследование: Татищев
его время (Москва), и: Милюков П. Главн<ое> течен<ие русской ис-Т0Рич. мысли.-Спб., 1913.>-С. 20 <и> сл.; 122 <и> сл.
щественно по Философскому Лексикону эклектика вольфианского направления Вальха). Поэтому, если не касаться его историографических заслуг, Татищев интересен только для истории самой образованности. Для истории философии он лишь показатель условий для нее неблагоприятных
«Главною наукой» Татищев почитает, «чтоб человек мог себя познать» (Вопр. 3), каковое познание, по его убеждению, «ведет к будущему и настоящему благополучию» (10). Изложив по Вальху учение о человеческом организме, душе, ее силах и способностях, Татищев приходит к заключению о необходимости обучения и воспитания, соответственного возрастам человека (29—33). Как совершенствуются с ростом человека его знания, так совершенствуется и знание человечества вместе с его возрастом. В усовершенствовании научных познаний человечество прошло три возраста и находится в четвертом: «первое просвещению ума подавало обретение письма, другое великое применение учинило пришествие и учение Христово; третие обретение тиснения книг» (36), в последний возраст «тиснение книг великой свет миру открыло и неописанную пользу приносит» (43). Только назвав деление наук по предмету или по «свойствам» – «душевное Богословия и телесное филозс-фия»,– он останавливается на разделении, которое сам обозначает как «моральное»: «которое различествует в качестве, яко 1) нужныя, 2) полезный, 3) щегольския или увеселяющия, 4) любопытныя или тщетныя, 5) вредительныя» (49). Так как основною целью Разговора является доказательство мысли с необходимости посылать молодых людей обучаться нужным и полезньш наукам за границею, Татищев останавливается на изображении состояния училищ в России. «Желание и надежда» на учреждаемые Петром школы оказались, по наблюдению Татищева, обманутыми. Ибо «хотя люди в науках преславны скоро съехались и академию основали», но по епархиям не только не устрояли школ, но «и нача-тыя оставлены и разорены, а вместо того архиереи конские и денежные заводы созидать прилежали» (75). Академия с ее гимназией, по мнению Татищева, в силу разных соображений, для русского шляхетства не подходит (76). То же он утверждает относительно и других школ: шляхетского корпуса и школ математических (адмиралтейской, артиллерийской, инженерной) (77—78). Любопытна характеристика преподавания философии в Московской академии: «Филозофы их ни куда лучше, как в лекарские, а по нужде в аптекарские ученики, но и учители сами математики, которое основанием есть филозофии, не знают и по их разделению за часть филозофии не исчисляют. Физика их состоит в одних званиях или имянах; новой же и довольной, как Картезий, Малебранжь и другие преизрядно изъяснили, не знают. Не лучше их логика в пустых и не всегда правильных силлогисмах состоит. Равно тому юриспруденция, или законоучение, в ней же и нравоучение свое основание имеет, не токмо правильно и порядочно с основания права естественнаго не учат, но и книг Гроциевых, Пуфендоровых и тому подобных, которыя за лучших во всей Европе почитаются, не имеют. О гистории же с хронологи-
1 Для исследователя русской философской терминологии Разговор Татищева дал бы весьма ценный материал.
Очерк развития русской философии
ею и географиею, врачестве и проч., что к филозофии принадлежит, про то и не слыхали. И тако в сем училище не токмо шляхтичу, но и подлому научиться нечего; паче же что во оной более подлости, то шляхетству и учиться не безвредно» (79, С. 116—117). Кончается Разговор указаниями об учреждении новых и о средствах исправления существующих училищ. Проникнутый идеями утилитарного значения науки и оценкою их исключительно с точки зрения пользы государственной и шляхетства, как руководящего в государстве сословия, Татищев не подходит к мысли об учреждении университета как источника и распространителя «незаинтересованного» знания. Таким образом, не Татищев, а все-таки Ломоносов нашел себе и не метафорическое воплощение в первом русском университете.
12 января 1755 года состоялся указ об открытии университета в Москве. Шувалово-ломоносовский проект об учреждении университета мотивировал необходимость учреждения обещанием государственных выгод: «чрез науки Петр Великий совершил те подвиги, которыми вновь возвеличено было наше отечество, а именно: строение городов и крепостей, учреждение армии, заведение флота, исправление необитаемых земель, установление водяных путей и другие блага нашего общежития».
Университет был открыт в составе трех факультетов и десяти кафедр: факультет философский с кафедрами философии, красноречия, истории универсальной и российской, физики; факультет юридический с кафедрами натуральных и народных прав («вся юриспруденция»), юриспруденции российской и политики; факультет медицинский с кафедрами анатомии, химии физической, особенно аптекарской, и натуральной истории.
Дела университета пошли однако ж не шибко. Сперва дворянство отдавало детей в университет, так что одно время (1758 г.) число студентов доходило до 100. Но вскоре все пошло на убыль. На юридическом факультете все науки читал один профессор (Дильтей), то же —на медицинском (Керштенс); число студентов упало до того, что иногда было по одному студенту на факультет; лекции не посещались, и иногда в течение года занятия осуществлялись не более 30 дней.
Профессор философии на философском факультете Должен был обучать логике, метафизике и нравоучению, ервым профессором был назначен бывший воспитанник Московской академии, а затем Академии наук и непосредственно самого Ломоносова, приобретший извест-ность переводом (с франц. перевода) Опыта о человеке