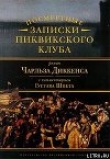Текст книги "Сочинения"
Автор книги: Густав Шпет
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 43 (всего у книги 46 страниц)
Г. Г. Ulnem
gstheorie. Это и было бы установлением общих законов психологии1, психологическое объяснение, скажем, в этнологии или социологии. Оно было бы принято теми, кто не заметил бы в этом ошибки психологизма. При принципиальной методологической предпосылке оно так же неприемлемо, как неприемлемо и обратное – этнологическое объяснение в психологии2. Но можно видеть перед собою и другую цель: изображение психологии общества самого, его душевной и духовной жизни, эвентуально и в специальном случае, изображение (описание и характеристику) душевной жизни общества (народа и пр<оч.>) в его развитии, то, что по-немецки называется Entwicklungsgeschichte.
Чтобы покончить с «генетическим объяснением», укажу еще на одно недоразумение, которое может толкать к нему. Оно также проистекает из неправильной дилем
1 Крюгер упрекает в этом Вундта, когда говорит, что его Volkerpsychologie есть психологическая интерпретация этнологических фактов, поскольку он смотрит на нее лишь как на расширение «общей психологии», лишь как на «применение» ее к фактам культуры (Ор. cit.–
2 И то и другое, однако, допустимо применительно к отдельным случаям в эмпирической практике науки. Этнолог в отдельных случаях может обратиться к психологии за нужным ему объяснением, как и психолог должен обратиться к этнологии за разъяснением особых (этнических) условий, в которые он может поставить изучаемый объект. От этой практической взаимопомощи наук психология не становится частью этнологии и этнология не становится частью психологии, одна не смотрит на другую как на свое основание. Впрочем, нельзя отрицать, что этнологическое объяснение в психологии и фактически, и методологически менее одиозно, чем психологическое в этнологии. Происходит это оттого, что материально-этнологическое объяснение, обращающееся к «условиям», не есть объяснение в собственном смысле, но все же есть «дополнительное» (к установленному внутреннему объяснению) правомерное обоснование. Оно таково в широком смысле реальной детерминации, но именно потому оно не просто акцидентально, каковым по существу является психологическое объяснение в этнологии. Так, когда мы «объясняем» быстрый и энергичный рост злака наличностью подходящего удобрения, это объяснение действительно лишь при предпосылке, что действующие «силы» роста растения – в нем самом, но они (дополнительно) поставлены в благоприятные для их обнаружения или актуализации условия; если бы мы, в отдельных случаях, объясняли состояние почвы (напр<имер>, сырость ее наличием растения, предохраняющего ее от высыхания), такое объяснение было бы акцидентальным.
Введение в этническую психологию
мы. К генетическому объяснению психической жизни обращаются тогда, когда считают единственным ему противопоставлением объяснение механическое1. Успехи психологии иллюстрируются иногда ссылкою на факт, что она наконец освободилась от идеала механического естествознания и становится на путь естествознания органического. Однако откуда известно, что есть только эти два типа объяснения? В общей форме вопрос о видах действительности, о действующих в них причинах и о соответствующих видах объяснения здесь решать не место, но априорно ясно, что указанная дилемма устанавливается произвольно. Точно так же ясно и то, что если бы даже она была обоснована, можно было бы, поскольку объяснение вообще противополагается описанию, отрицать оба ее члена. Такова именно защищаемая на этих страницах позиция – в пользу описания на основе интерпретации. Вследствие этого у нас и получилось, что объективность, по которой направляются вопросы социальной психологии, дается социологией и вообще так называемыми общественными науками, а этническая и, ее «продолжение», историческая психология направляются соответственно этнологией и историей вещей и идей, учреждений и культуры. Этим самим по себе уже достаточно обосновывается и то, что этническая психология не превратится в законоустанавливающую психологию, отвлеченную от всего конкретного и живого. Напротив, во всех вопросах и ответах она должна быть конкретною, приуроченною к определенному коллективу, народу, определенному времени, определенной культуре.
XV
Невыясненным остается еще вопрос, почему и при каком ограничении коллективных типов психология может быть называема этнической психологией. Но прежде чем перейти к разрешению этого последнего вопроса, нужно остановиться еще на некоторых затруднениях в нашей проблеме, на которые мы натолкнулись при рассмотрении определений этнической психологии и которые, быть может, еще не вполне устранены данными мною разъяснениями. Главные трудности, кажется мне, лежат в вопросе: откуда мы берем материал для этнической психологии и какими принципиальными основаниями
1 Ср.: Kriiger. Op. cit.—S. 50.
пользуемся в разработке его? Как я уже указывал, этот материал не доставляется нам ни самонаблюдением, как в общей психологии, ни наблюдением и опытом, как в науках о природе. Он состоит из знаков и выражений, которые нуждаются в интерпретации для того, чтобы в значении или в связи с анализом значения их найти предмет этнической психологии.
В этом отношении этническая психология сопоставляется, с одной стороны, снова с психологией, поскольку и последняя пользуется косвенным наблюдением, и, с другой стороны, с науками о культуре, с историей, этнологией и т. п. Но, в сущности, и то и другое сопоставление исходит не из непосредственного анализа предмета, а из некоторых догматических предпосылок о том, что такое само «значение». Первое сопоставление можно назвать психологическим, оно исходит из предположения, будто значения выражений суть представления и переживания выражающего субъекта. Не только односторонность, но и прямая ложность такой предпосылки теперь достаточно установлена, и вообще она могла бы поддерживаться только при еще новой предпосылке философского иллюзионизма. Но мысль, что мир есть представление,– какую бы она ни имела философскую ценность – не может служить основанием реальных наук, и поэтому так понятна и убедительна критика, с которой Пауль выступал против Вундта. Пауль, следовательно, является представителем второго сопоставления, которое можно назвать номиналистическим, так как оно исходит из предпосылки, что значением слов является действительное многообразие единичных вещей, процессов и отношений. Но противоречие номинализма в том и состоит, что, утверждая реальность единичных вещей, он для общих наименований не оставляет самостоятельного предмета, так что действительным орудием познания у него остается одно nomen. Однако номинализм, как я указывал при анализе взглядов Пауля, обнаруживая недостатки в понимании «принципов» и характера «учения о принципах», имеет все преимущества перед психологизмом для догматического реализма специальных наук, ибо, в самом деле, «значения» не суть представления, а «лежат в вещах» с их содержанием. Это заключение нуждается в некоторых разъяснениях.
Когда мы раскрываем «значения» таких выражений, как язык, миф, искусство, мы находим определенные социальные отношения и явления, которые можно называть
Введение в этническую психологию
«вещами». И если бы наука оперировала собственными именами, значение их исчерпывалось бы подразумеваемой «вещью», но как раз общие имена, эти – действительные орудия науки, оказались бы без «значений». Между тем их действительные значения, «идеи», составляют вполне устойчивый и надежный предмет изучения. Сколько бы ни говорили о частных и индивидуальных формах языка, мифа и пр < оч. >, в основу, сознавая это или не сознавая, мы кладем законченную в себе идеальную систему единств, по которой и располагаем эмпирическое многообразие фактов. Значение этой системы вполне предметно, и принципиальное обоснование ее есть единственный не догматический фундамент всего дальнейшего научного построения. Вот почему в основу науки о языке должна быть положена не психология и не история, а только философия языка, а в основу всех наук о культуре или духе – философия культуры или духа. В целом, следовательно, «вещь» может быть значением, поскольку речь идет о терминах единичных (номенклатура) или именах собственных, в остальных же случаях «значение» есть «идея». Но стоит вспомнить, во-первых, роль общих имен в науке, во-вторых, условность термина «единичный», предполагающего для своего хотя бы интенсивного объединения также некоторую «идею», чтобы согласиться, что любая наука о «вещах», в том числе и история, предполагает свое идеальное основание, что, следовательно, «идея» не рядом с «вещью» есть значение, а в ней же значение самой вещи, что, поэтому, «идея» есть значение Х'ОХЛ-Здесь не место входить в рассмотрение вопросов, что есть «идея», как мы приходим к ней и др., здесь достаточно признать, что какое бы она ни имела содержание, ее «носитель» – предмет есть подлинное дело, epyov того, кто занят раскрытием «значения» в выражениях.
Но выражение выражает не только «дело». Возьмем в пример для наглядности опять язык. Уже невольные и импульсивные восклицания и возгласы выполняют два ряда функций: изумление, негодование, восторг, гнев, с одной стороны, но они же обращают наше внимание и на предмет изумления, гнева и пр<оч. >. Выражения же намеренные еще сложнее, и в них-то на первом плане и стоит «дело», о котором нужно дать знать, сообщить сведения, которое нужно описать, растолковать, объяснить, а равным образом, при случае исказить, извратить
жем, первого порядка, прямое и предметное значение;
и многое
значение выражений, ска-
здесь «выражение» выполняет свою прямую собственно значащую функцию. Эта функция слова или выражения вообще только тогда выполняется надлежащим образом, когда она находится в необходимых для этого условиях. Слово должно быть «артикулированным» словом, выражение должно иметь ту или иную форму, оно должно быть так или иначе «организовано». Формативная функция слова может быть, таким образом, предметом специального внимания и изучения. Так, мы говорим о формах слова грамматических, стилистических, эстетических, логических. Можно высказывать гипотезы о психологическом происхождении такого рода форм, и мы, действительно, говорим об этом в психологии, но, как уже указывалось, в психологии они не могут иметь самодовлеющего значения и их изучение подчиняется общим задачам психологии. Они могут изучаться также в «формальных» дисциплинах, как грамматика, логика. Но в своем эмпирическом и самодовлеющем развитии они изучаются именно в истории языка и пр<оч. >. Наконец, если мы обратимся в сторону самих желаний или намерений «выражающего», мы приходим к новому порядку «значений», если угодно, значений «второго порядка». Тут, собственно, имеет место выражательная функция слова, в узком смысле «выражения» как «обнаружения» или «проявления» экспрессии. Мы начинаем строить догадки о том, как переживает сам выражающий содержание своих выражений. Для нас выступает здесь как оы новый ряд значений: дело идет не только о настроении данного момента у выражающего, а обо всем, что обусловливает этот момент, о его склонностях вообще, привычках, вкусах, о том, что немцы называют Gesinnung, и вообще обо всем укладе его души, представляющем собою весьма сложный динамический коллектив переживаний. Это последнее «значение» выражения и есть то, что я выше обозначил не как epyov, а как ттареруоу выражения. Профессор, например, с кафедры в тридцать пятый раз скучно и вяло, в несколько старомодной речи «доказывает» великие достоинства своей науки. Было бы печально, если бы мы не различали в такой речи разных порядков «значений» в его выражениях и смешивали бы их между собою. Между тем на таком смешении сплошь и рядом покоятся определения предмета этнической психологии1.
1 К вопросу о внутренней структуре слова, его моментах и функциях последних ср. II вып. моих Эстетических фрагментов, 1923, а также упомянутую работу о «внутренней форме».
Введение в этническую психологию
Но мало еще просто различать порядки «значения» в выражении, нужно еще отдать себе отчет в их взаимном отношении. Совершенно противоестественно, например, было бы искать предметного «объяснения» или «обоснования» науки нашего профессора в «вялости», с которой он излагает свой предмет. Натуральные отношения ясны: предметом определяются прежде всего его собственные действия, переживания идут, так сказать, параллельно раскрытию самого предмета как в своем действии, так и во всем своем содержании. Этот параллелизм не всегда есть даже причинная или функциональная связь, но в первоначальной основе ее можно найти. В общем, как бы ни усложнялись здесь отношения в частных примерах, в целом все же контуры принципиальных зависимостей «значений» остаются ясными. Между тем и здесь в этнической психологии приходится констатировать факты установления «неестественных» отношений. Наиболее опасным здесь является то смешение понятий, в силу которого «дух» как значение, с которым мы имеем дело в анализе социально-исторического процесса, понимается психологически. Это смешение – вредно не только потому, что оно само по себе ошибочно, но и потому, что оно ошибочно направляет внимание исследователя: ему кажется, что и предмет психологического изучения процесса тожествен с этим «психологическим» предметом. Действительно, психологическое как реакция на этот предмет со стороны переживающего коллектива либо «впутывается» в «дух», либо не вмещается ни в какую специальную научную проблему, а остается достоянием романистов и дилетантствующих фантазеров.
Применительно к этнической психологии все сказанное можно представить себе следующим образом. В разнообразнейших формах выражения, в словах, рисунке, постройке, костюме, в учреждениях, актах, документах, словом, во всем, что мы называем «продуктами культуры», мы различаем как их действительное значение некоторое предметное содержание. Мы усматриваем в этих предметах их коллективную природу, состоящую из сложной системы организации, раскрытие которой и составляет задачу философской онтологической науки об этих значениях, основной для всех остальных наук об них. Поскольку система «идей», составляющая содержание этой науки, осуществляется в своих реальных формах, мы имеем дело прежде всего с общей наукой об них как
о формах социальных, с социологией, и затем с системой специальных наук, обнимающих различные конкретные сферы или области социального. Материально «овеществленное» содержание социальной жизни распределяется между «историями» этих областей, в идее составляющими общую историю, к которой тесно примыкает этнология, первоначально ограниченная «доисторическим», а теперь в некоторых отношениях соперничающая с самой историей; возможно, что их различие – преимущественно методологическое.
Переживание свидетелем проходящих перед его глазами социальных событий как непосредственный ряд реакций на эти последние составляет второй порядок «значений». В силу особенностей этого вида коллективности, как я уже говорил, мы не можем иначе их фиксировать, как только связывая их с развертывающимися перед переживающим субъектом событиями, соотнося их к этим последним. Вот почему здесь и получается группировка содержания под «объективными» заголовками: язык, миф, рыцарство, эпоха Возрождения, культ, война и т. п. Эти заголовки суть указания на «идеи», объединяющие не только «объективированное» содержание, но и психологическую реакцию на него. Это суть истинные и действительные единства коллективной душевной жизни, а отнюдь не сходство психофизических организмов народов, эпох или групп населения. Функциональное или морфологическое сходство организмов или его особенности сказываются на самой реакции человека, и они – предмет общей объяснительной, в частности генетической, психологии. Здесь же речь идет о самих переживаниях, сходных у наблюдателей происходящего перед ними. Как бы эти наблюдатели ни были индивидуально различны по отношению к определенному событию или порядку событий, можно найти общное в их реакциях на него. Это общное мы составляем по признакам, принадлежащим разным индивидам, но по отношению к данной сфере событий – языковых, религиозных, политически и пр<оч. > – каждый из них является репрезентантом всей реагирующей группы. И каждый отражает в себе коллективность самой группы, так как с каждым членом ее он находится в более или менее близком контакте, испытывает на себе его влияние, внушение, подражает ему, сочувствует и т. п. Мало того, каждый член группы, опять в большей или меньшей степени, носит в себе духовную коллективность, известную под названием традиции, преданий, ко
Введение в этническую психологию
торые также можно рассматривать как систему духовных сил, определяющих настоящие переживания, впечатления и реакции индивида. Каждый живой индивид поэтому есть sui generis коллектив переживаний, где его личные переживания предопределяются всей массою апперцепции, составляющей коллективность переживаний его рода, т. е. как его современников, так и его предков. В целом коллектив переживаний, носимый в себе индивидом, можно обозначить как его духовный уклад, и вот в чем мы ищем «значений второго порядка». Но обычно в изображениях духовного состояния группы данного места и времени мы берем даже не отдельных индивидов, а из «фрагментов» различных индивидов составляем цельный идеальный образ, тип эпохи, народа и пр < оч. >. Эти типы суть типы духовных укладов. Как предмет изучения они составляют предмет психологии, которой правильное название, по предмету, определяющему душевные переживания, есть социальная психология («статическая»). Только в отношении к ней определяется точное место и предмет психологии «динамической»: и исторической, и этнической, так точно, как в отношении к социологии определяется место и предмет истории и этнологии.
Резкое разграничение наук социологии и социальной психологии, этнологии и этнической психологии не следует принимать как отнесение предметов и содержания этих наук к несравнимо разным сферам реального. Напротив, как я неоднократно подчеркивал, реально мы имеем дело с жизненным конкретным единством, проникнутым реальным же взаимодействием, и это кардинальное единство жизни нисколько не уничтожается распределением его для цели изучения по разным научным областям. Мало того, вышеназванная основная философская наука только на это единство, в его сущности и идее, и направляется, т. е., след < овательно >, она одинаково основная и для социологии, и для социальной психологии, а сами эти науки находятся между собою в отношении взаимодействия и взаимной помощи. Сколь опасно для научной работы смешение таких взаимодействующих задач, столько же бесполезно для нее возведение абстрактных «частей» в реально самостоятельные области бытия. Представление, будто эти две раздельные области действительности изучаются двумя рядом стоящими науками-половинками, напр<имер>, этнологией и этнической психологией, так что стоит потом эти половинки «сложить» и получится «целое»,– это представление так же мало соот
ветствует действительности, как и то представление, которое так настойчиво выдвигает Вундт, будто мы имеем дело с двумя подходами к одному и тому же, с двумя «точками зрения»1. В сущности это – отражение одного из предрассудков натуралистической психологии, будто «человек состоит из души и тела»,– любимая сентенция моралистов всех времен – как будто это – две части, так прилаженные друг к другу, как прилажено перо к ручке или руль к лодке.
Человек есть человек, и в своих переживаниях он переживает – воспринимает, ненавидит, любит, боится, помнит, и пр<оч. >, и пр<оч. > —или природу, или себя, или других – это и есть его психология. Этническая психология в этом смысле не ограничена по объекту: отноше-
ние человека к природе, себе или культуре – все равно ее объект. Поэтому-то совокупность переживаний и может быть делима соответственно объекту их; частных вопросов здесь может быть бесконечное число; как человек переживает бога, семью, грозу, войну и т. д. Этническая психология с пользой может, след < овательно >, заимствовать из этнологии классификацию объектов последней и только спрашивать: как это переживается человеком? Напротив, ее относительная самостоятельность как психологии скажется в том, что она спрашивает: как переживает первобытный человек или человек данной эпохи, любовь, страх, наслаждение и пр<оч. >—т. е. что он любит, чего боится, чему поклоняется и т. п.?
Обобщая все сказанное в определение этнической психологии, мы приходим к результату: этническая психология имеет предметом второй порядок «значений» в анализе «выражения или конкретный духовный уклад человека.
«Духовный уклад» человека, народа, группы в своем реальном бытии своеобразно сочетается и переплетается с другими реальными «силами» исторической действи-
1 Так, между прочим, представляет дело и Мюнстерберг – одна и та же действительность изучается с двух различных точек зрения: это – социальная психология и социальная физиология; стоит их сложить вместе, и получится социология!.. (Munsterberg Н. Grundzuge der Psychologic—В. I.—Lpz., 1900.—S. 133). Будто науки —книги, которые можно переплести в один переплет... Вообще, нужно отметить, что нередко «точка зрения» – только refugium ignaviae в области мысли. Или «точка зрения» имеет какое-нибудь предметное основание, и тогда надо его раскрыть, или она – порождение каприза, с которым нужно считаться, быть может, в любовном, но не в научном порядке.
XVI
Введение в этническую психологию
тельности и составляет, бесспорно, фактор среди других факторов ее. Дело историка или социолога – учесть значение этого фактора и при случае воспользоваться им для объяснения того или иного события исторической жизни. Но было бы совершенно превратным пониманием этнической психологии, если бы мы из этого сделали заключение, что этническая психология вообще призвана быть объяснительной наукой по отношению к истории. С своей стороны история также только «случайно» может объяснять те или иные явления народного духа, хотя, несомненно, именно история создает предметную ориентировку душевных переживаний человечества, она устанавливает вехи, обозначающие путь «духа». Но, во всяком случае, мне представляется менее односторонним и менее ошибочным утверждение, что «развитие духа» «объясняется» его историей,—несмотря на тавтологичность такого утверждения – чем провозглашение общей (индивидуальной) психологии «основою» этнической психологии, которая, таким образом, является «продолжением и расширением» индивидуальной психологии и, следовательно, должна быть сводима к психофизическим законам и объяснениям.
В требовании, чтобы этническая психология была объяснительной наукой, сказывается ряд методологических предрассудков логики XIX века. Прежде всего, это – предрассудок, будто «образцом» для всякой науки является «математическое естествознание», а затем – будто психология в каком-нибудь смысле является «основною наукой». В особенности последнее убеждение мало способствовало уяснению смысла естественных наук и оказало роковое, до сих пор длящееся отрицательное влияние на уразумение так наз<ываемых> «наук о духе». Наконец, в частности для этнической психологии, оказалось вредным предубеждение о мнимом параллелизме методов этнологии и этнической психологии. Из того, что есть постоянное и во всяком пункте соответствие между социальными процессами и их переживанием у человека, никак нельзя делать вывода, что обе «стороны» должны изучаться аналогичными методами. Не может быть сомнения, что идея этого параллелизма внушена идеей психофизического параллелизма, в сущности не нужного метафизически и неприемлемого эмпирически. Эмпирически душевная жизнь человека представляет ни к чему не сводимое и ни с чем не сравнимое своеобразие; «параллелизм», прилагаемый к объяснению душевных явлений, да
ет только лишний повод к их «овеществлению» и, след-<овательно>, к затемнению их своеобразия. История только в том смысле может быть сопоставлена с развитием «духа», что по богатству ее содержания мы узнаем богатство человеческого духа: эксперимент, самонаблюдение суть методы психологического изучения, а не источники знаний, и их не к чему было бы прилагать, если бы не было истории,– только в истории человек узнает самого себя.
Однако этим не может быть оправдано и то утзержде-ние, будто история является основою этнической психологии. Но об этом уже была речь, и мы пришли к выводу, что единственным основанием этнической психологии должна быть признана «чистая» и всеобщая семасиология. После разъяснений, сделанных о предмете этнической психологии как о значениях второго порядка, мне хотелось бы только добавить несколько замечаний в предупреждение возможных недоразумений, повод к которым может дать двойственное размещение учения о языке, с одной стороны, в «основе» этнической психологии, а с другой стороны, в качестве одной из ее собственных проблем.
Во вступительной статье к своему журналу, на которой мы уже останавливались, Лацарус и Штейнталь, перечисляя вопросы этнической психологии, характеризуют свои задачи по отношению к ним. В идее их журнала—связать изучение этнической психологии и науки о языке – как бы провиденциально заключается действительно замечательная мысль, полный отчет в которой авторы себе не отдавали, но которая сделала тем не менее их работу весьма продуктивною1. Как ясно из всего мною изложенного, изучение языка представляет особое значение для этнической психологии, так как оно прежде всего дает образец для изучения всех других форм «выражения». «Язык» есть проблема в этом смысле хат'ОХЛ
1 Общая мысль авторов этнической психологии о языке как выражении и даже признаке нации стала популярна в XIX в. под влиянием Гердера и в особенности со времени известных Речей к немецкой нации Фихте. Научное значение эта мысль приобрела в трудах В. Гумбольдта. Но как наблюдение, эта мысль – весьма старая. В Строматах Климента Александрийского я нашел след<ующую> отметку: «Язык определяют так, что «это де есть способ выражения мыслей, отлитой соответственно характеру народа» (рус. пер. <1892.> —Кн. VI.—Гл. 15.—Стлб. 747).
Введение в этническую психологию
философская; философское изучение «языка» есть основа изучения всех выражений со значениями. Но рядом с этим «язык» как продукт культуры, как сама культура, как одна из форм социального взаимодействия есть проблема эмпирических наук, в том числе и этнологии, в том числе и этнической психологии. Философский способ изучения языка имеет всеобщее значение; языкознание, т<ак> наз<ываемое> сравнительное, или история языка имеют уже более ограниченное значение, так как здесь изучаются эмпирические формы языков и их «законы»; задачи этнологии еще уже: в сущности – доставлять материал для специальной науки о языке. Но в чем же задачи этнической психологии? Если я прав, то как раз в сфере изучения языка этническая психология покажется самой бедной по содержанию,– весь вопрос сводится к тому, как переживается язык как социальное явление данным народом в данное время? Может показаться, что тут и материала для ответа нет, особенно по сравнению с тем, как переживаются, например, религиозные движения, смерть близких, войны, политические революции и т. п. Что на деле все же материал есть, нетрудно видеть из исторических примеров, где «возрождение» нации всегда связывается с особенно любовными заботами о своем языке, о его чистоте и пр < оч. >. Стоит вспомнить борьбу за свой язык в немецком ученом мире XVIII века или заботы о своем языке польского народа с конца XIX века, украинцев – в настоящее время и т. п., чтобы увидеть, что здесь есть интересный материал для социальной психологии. Но само собою разумеется, что сюда же относится и та смена «представлений» и чувств, связанных просто со словом и его значением, которая совершается вместе со сменой поколений и которая так неточно обозначается часто как «изменение значения». Именно здесь язык из частного предмета, из повода к переживанию становится уже «образцом», основою и источником этнической психологии.
Рядом с проблемой языка в этом смысле встают и другие проблемы этнической психологии. Мысль, будто таких проблем еще две – мифы и обычаи, как думает Вундт, не имеет за собой и тени основания, ибо исходит из совершенно наивной аналогии между индивидуальной и народной душой. Описательная этническая психология может выделить любой тип «переживания» и сделать его объектом своего изучения и как совершенно «отдельный» факт, и как член какой угодно сложной классификации.
Типологические построения этнической психологии, разумеется, должны подчиняться методологии «типа», т. е. она не ограничивается классификацией, а от простых и отдельно взятых типов переходит к сложным формам, корреляциям и структурам конкретных отношений, берет их не только в систематически классификационном делении, но также в делении по эпохам и периодам и пр<оч. >. При всей систематичности этого метода, однако, остается большая свобода в составлении самих типов, а равным образом и в изучении непосредственно данных единичных фактов.
Эта свобода этнической психологии в конструкции ее «типов» объясняет и тот факт, что та явно несостоятельная аналогия между группировкой ее проблем и случайной классификацией отвлеченно-общей психологии, которую поддерживает Вундт, тем не менее должна же была иметь по крайней мере повод в действительности. Показательно, что и критики Вундта отмечали не столько методологическую абсурдность этой аналогии, сколько ее ограниченность. Дело в том, что как ни старается иногда психология уподобиться естествознанию в собственном смысле, создавая отвлеченно-общие объяснения и законы, по самому существу ее материала всякое ее понятие не есть логическая абстракция, а есть типическая черта, которая естественно и легко превращается в обозначение «характера». Так, «рассудочный», «эмоциональный» и «волевой» характеры легко понимаются нами как определения «типов» совершенно конкретных и полных. Эта полнота типа никак не зависит от места соответствующего «характера» в классификациях общей психологии. Так, возникающие, с точки зрения общей психологии, от более «частных» классов душевных явлений типы «религиозный», «эстетический», «моральный» не суть как характеры «проще» или «отвлеченнее» других «типов». Методологические особенности этнической психологии в этом направлении можно сопоставлять с особенностями «дифференциальной» психологии, с той разницей, что дифференциальная психология строит свои типы по самим душевным качествам, а этническая психология по их историческим детерминантам; что, затем, «типы» дифференциальной психологии суть все же типы психофизические, а типы этнической психологии – чисто психологические; что, наконец, «диспозиции» дифференциальной психологии – индивидуальны, а «духовный уклад» в этнической психоло