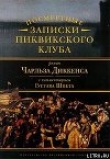Текст книги "Сочинения"
Автор книги: Густав Шпет
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 46 страниц)
мог внушить к себе доверие общества. Чем откровеннее этот авторитет обличал свою санкт-петербургскую инспирацию, тем более компрометировались его московские проводники в глазах нового «общества».
При таких обстоятельствах факт, что Московский университет в области философии не мог дать даже того, что давал Петербург или Киев, оказался фактом для развития философии литературным путем только благоприятным. Пресловутый «допожарный» Брянцев продолжал свое преподавание до самой своей смерти в 1821 году, оставляя у слушателей впечатление, что он состоит профессором в университете со дня основания этого последнего,– и это было самое сильное впечатление от его философского преподавания... В последние четыре года его жизни Давыдов, в качестве адъюнкта, помогал ему в преподавании, но чему собственно и как он учил в университете, мы в точности не знаем. Меньше всего об этом говорит официальная история университета. Но лишь только мы подойдем к этому времени с другой стороны – со стороны интересов образованного общества, – мы видим очень яркую картину загорающейся умственной жизни и увлечения философией, эстетикою, поэзией, вообще свободным и бесполезным творчеством. Во всем этом чувствуется, и историей уже раскрыто, влияние западноевропейских идей и идейных течений. Влияние проникало и ширилось без правительственного руководства и поощрения, иногда, может быть, против его желаний. Среда, в которую по преимуществу проникал дух времени, была близкою правительству дворянскою средою, и на первых порах казалось, нет надобности принимать специальных мер ограждения – лишь бы это не выходило, действительно, за сферу «бесполезного». Однако, с точки зрения правительства, которое хотело сохранить за собою руководство всею умственною жизнью страны, это была ошибка. Те, кто не хотел ничего различать в новшествах, кто вооружался против них только потому, что это были новшества, были последовательнее. Общество, проникаясь новыми настроениями, считало себя вправе требовать от университета и науки ответов на свои запросы, а университет считал себя вправе, в меру своей компетентности, отвечать прямо, поскольку и пока это не было запрещено, и —в замаскированной форме, когда прямой ответ мог повлечь за собою начальственное осуждение.
В культурной истории этого времени достаточно внимания привлекали к себе кружки, связывавшие группы мо
лодежи по ее литературным и философским интересам. Существенно и показательно для кружков этой эпохи, что члены их объединялись не только потребностью собственного образования, но также стремлением перебросить увлекавшие их идеи в более широкие круги общества. Молодые люди искренне были убеждены, что являются вестниками новой образованности, не отменяющей официальное просвещение, но его дополняющей и вместе с тем увлекающей вперед, к более живому и жизненному развитию. Не беда, что здесь учителями иногда хотели выступить те, кто сам не доучился. Они не брались учить больше того, что сами знали. Они собирались быть только пропагандистами чужого, но признанного уже в его всеобщей ценности. Они не отрекались от тех, у кого они сами учились. И нередко их вчерашние учителя становились их сотрудниками. А совсем юная учащаяся молодежь охотнее шла за свежим словом неофициальных учителей, на них же полагаясь и в своей оценке официальной науки. Впоследствии это привело ко многим и печальным извращениям. Теперь это было рождением нового духа умственной культуры. Можно говорить о большей или меньшей любви нового поколения к старшему, но еще не было большей или меньшей степени слепой ненависти, не было характеризующей следующее поколение (60-х годов) самодовольной насмешки трезвых детей над охмелевшими от идей отцами. Новое честно шло на смену старому, и только когда последнее силою не уступало своего места, началась борьба. Взаимная ненависть выросла лишь, когда стало ясно, что победит не убеждение, а физическая сила. За это время обе стороны истощились в духовной энергии и деморализовались.
Участники первых волнений и провозвестники первых веяний нового духа с благодарностью вспоминали тех из представителей казенной образованности, которые шли навстречу их юным увлечениям. А те и сами увлекались юными идеями европейского творчества, вдохновившегося как бы реабилитацией себя после тех разрушений и опустошений, которыми ознаменовалась история Европы в конце предыдущего века и которые все еще продолжали компрометировать ее. Увлечение официальных профессоров скоро остывало под влиянием вразумления свыше или собственного благоразумия. Вчерашние новаторы также «доучивались» и становились официальными. Время сохраняло лишь наиболее стойких. Но поток исто
рии, тихий или бурный, все равно – состоит из капель, а время распознается по смене моментов.
Новое течение пробилось наружу в литературе и журналистике, на страницах которой значились имена и официальных представителей науки. С новыми философскими исканиями сопрягались имена Павлова, Надеждина, Максимовича, даже Погодина и Шевырева и подобных >. Одни из них были только учителями нового поколения, другие —их сверстниками и сочленами кружков, следовательно, уже на университетскую кафедру несшими новую мысль. Но вдохновение свое они все-таки получали за стенами университета. Можно назвать лишь два имени среди профессоров Московского университета, которым приписывается инициатива пропаганды новых философских идей и которые не вышли ни из кружков, ни из журналов. Это – имена Давыдова и Павлова. Давыдов, по свидетельству его собственных учеников, вводил их в круг этих идей уже до < 18 > 20-го года, когда они были воспитанниками университетского благородного пансиона. Павлов в < 18 > 20-м году вернулся из-за границы с свежим запасом шеллингианского энтузиазма. Но уже в < 18 > 26-м году, когда Давыдов читал свою выше рассмотренную лекцию, он перестал быть только учителем и инициатором и должен был отвечать за возникавшие вне университета запросы. А Павлов еще в < 18 > 24-м году вступил на поприще свободного журнального писателя. Его статья появилась, впрочем, под псевдонимом тт. тт., в вольном полуальманахе, полужурнале «Мнемози-на», одним из руководителей которой был кн. В. Ф. Одоевский – воспитанник Давыдова и глава одного из «кружков» («Общества любомудрия»). В < 18 > 27 году во главе нового журнала становится университетский преподаватель Погодин («Московский Вестник».—1827—1830), также член одного из кружков (кружка С. Е. Раича), не чуждого и философии1. А в <18>31-м году только что добившийся профессуры, а до того бывший едва ли не единст-
1 Сам Погодин придавал большое значение также чисто студенческим собраниям. Он это отмечает в своей автобиографии (Биограф<иче-ский> Словарь М<осковского> Унив<ерситета>...– II.– <С. > 237): «Но кроме лекций всего важнее для образования в Университете было общество, где студенты взаимною беседою образовывались».—Раичу (брат киевск<ого> митр. Филарета), между прочим, принадлежит: Рассуждение о дидактической поэзии, сочиненное И < мператорского > М<осковско-го> Унив < ерситета > Кандидатом Слов<есных> Наук Семеном Амфитеатровым, для получения степени магистра.– M., 1822 (первоначально > в «В<естнике> Е<вропы>» за 1822 г.).
венным живым и смелым сотрудником (Надоумко) скучно-профессорского полуофициального «Вестника Европы» (Каченовского, в 1828 г.) Н. И. Надеждин основывает сыгравший исключительную роль также новый журнал «Телескоп» (1831—36).
Таково – начало взаимодействия университета и свободной журналистики, поскольку последняя через литературу вводила в умственный обиход русского общества европейские понятия о философии, независимо от учебных программ, предписывавшихся правительственным руководством. Что же прежде всего дали русской философии эти нового типа профессора и что затем сделала из этого литература? Были ли они только слепыми сеятелями, не видевшими, куда падает зерно и как оно прорастает, или они сознательно расстраивали ряды, которые были призваны вести в слепом повиновении команде высшего правительственного интереса? И другая сторона—сразу ли поняла, что, выступая на смену и занимая свой ответственный пост, она становится на tenia vigilia духовной культуры России? На два последние вопроса история отвечает отрицательно, ибо это есть история роста самосознания новой интеллигенции, а не констатирование скачка через пропасть. Сознание того, что пропасть существует,—хотя и не в хронологии идей, а в них самих,– пришло позднее. Оно вновь расслоило каждую из сторон и по-новому распределило эти слои. Как это произошло, видно из ответа на первый из поставленных вопросов.
Давыдов в первые годы своего преподавания удовлетворял новым запросам не потому, что сам понимал свое назначение как новатора и проповедника нового. Вернее всего, только потому, что он был более других подготовлен отвечать ученикам на внушенные временем вопросы. В ином свете обрисовывается роль проф. М. Г. Павлова (1793—1840), который в воспоминании своих слушателей выступает именно как новатор-проповедник, умевший заражать своим научным энтузиазмом. Равным образом, и его литературная философская деятельность – не отчет перед специалистами о самостоятельной работе, а вольное обращение ко всем желающим услышать о новых идеях времени. В обоих случаях Павлов – популяризатор и агитатор. Подобно Велланскому, Павлов —не философ по специальности. Его ближайшая специальность – агрономия. Но в ту пору энциклопедических профессоров ему приходилось читать теоретические курсы по есте-
Ю.
ствознанию, которые он и одушевлял шеллингианскою натурфилософией. Его Физика должна быть сопоставлена с сочинениями Велланского и других, отчасти уже упоминавшихся, натурфилософов-естественников, место которых– в истории нашей научной мысли.
Основания физики Павлова (Ч. I.—М., 1833; Изд. 2-ое.—1835; Ч. II.—М., 1836) встретили суровый отзыв со стороны известного Ленца, характеризовавшего книгу как поверхностную и ученическую, автор которой не осведомлен в экспериментировании и математике. Ленц указывает также ряд фактических ошибок Павлова. Свое неубедительное оправдание Павлов старается свести на разницу философских предпосылок (Ленц —в Dorpater Jahrbucher fur Litteratur usf. 1834; Павлов – Телескоп.– 1834.– Ч. XX; подробное изложение см.: Бобров. Философия > в России.—Вып. II.—С. 191—210).—Велланский также, по-видимому, невысоко ставил Павлова. В одном частном письме (к Розанову, 15 дек. 1833) он сообщает, что был в Москве, где Павлов его чествовал обедом и познакомил, между прочим, с Давыдовым, Надежди-ным и др. После обеда он часов восемь с ними беседовал в физическом кабинете Павлова. «Московские ученые,—утверждает он по поводу этой беседы, —чувствуют всю важность философского естествознания, хотя ни один из них не понял моей Физики». А самому Павлову Велланский писал (мая 29, 1834): «Мне крайне желательно иметь либо противников, либо сотрудников на поприще физических знаний. Но вот проходит тридцать лет, как я в российском ученом мире вопию, аки глас в пустыне!» (Письма перепечатаны у Боброва.– <Вып.>1.– С. 220—228). Во что же он ставил Павлова?
Бобров (вып. II и IV) собрал некоторые материалы о Павлове. Но способ изложения у этого автора вообще таков, как будто ему не о чем спросить излагаемого мыслителя и не о чем с ним поговорить. Для любителей скучного жанра литературы это – идеальное чтение; для исследователя же было бы приятнее найти в Материалах точную и исчерпывающую библиографию либо точную перепечатку цельных статей.
Некоторые подробности о Павлове см. в исследовании проф. Сакули-на: Из истории рус<ского> идеализма...—Гл. II.—С. 115—127.
Подобно Велланскому, Павлов привез новые идеи из заграничной командировки, но возможно, что первые семена шеллингианства были заброшены в его мысль уже в Харькове – Шадом или близкими ему по шеллинги-анству медицинскими профессорами,—где Павлов слушал лекции до переезда в Москву (1813—14). Но есть заметная разница в общем направлении Велланского и Павлова. Велланский, прежде всего, ученый, Павлов – профессор. Велланский усваивает принципы, чтобы из них развить новую науку, он хочет быть реформатором; Павлов популяризует и потому к существующей науке приделывает новые принципы. Велланский с планом
в голове углубляется в лесную чащу и силою прокладывает себе дорогу; Павлов чертит планы, оставаясь у опушки леса. Научное значение Велланского выше; значение Павлова– педагогическое. Вынося философию в литературу, Павлов ставит перед читателем в первой же своей статье, напечатанной в «Мнемозине» (1824),—О способах исследования природы – проблему, которой официозная философия долго не уделяла самостоятельного места, проблему знания как такого,– не в подчинении вере,—о его видах и их ценности. Скоро он сам убеждается, что его слушатели и читатели для такой проблемы не созрели. Он основывает собственный журнал, «Атеней» (1828—30), где рядом с разъяснением общего вопроса о знании помещает статьи, посвященные популяризации вопросов самого естествознания. Его Основания Физики в сущности служат той же цели, как и статьи, помещавшиеся им в «Телескопе» по прекращении «Атенея». Однако Павлов не мог не видеть, что больше, чем наука, говорила русскому читателю сама литература и поэзия и что, следовательно, философская постановка проблемы искусства и знания о нем для читателя есть вход более близкий и доступный в философию, чем проблема знания. Он воздействует на психологию читателя и с этой стороны – не только самим фактом издания «Атенея», но и собственными соответствующими статьями. Так, в «Атенее» он помещает
(1828.– V), а позже, основываясь на принципе этого различия, набрасывает общую классификацию знания – Общий чертеж наук (Отеч < ественные > Зап<иски>.—
Везде Павлов остается верен себе, симплифицирует, популяризует, набрасывает «планы» – философского или психологического анализа понятий у него нет и в зародыше. Шеллингианец он был, конечно, приблизительный. Общая черта истории шеллингианства – выделение какой-нибудь основной мысли Шеллинга и развитие ее в специальную научную область. Вне этого —лишь популяризация и посильное самостоятельное толкование принципа в его отношении к другим направлениям философии и другим видам знания. Не было того, что нормально создает философскую школу, – последовательного развития и углубления принципов путем приложения их к решению чисто философских проблем и конструирования системы. Это как бы предоставлялось самому Шеллингу, который, впрочем, во всякой попытке построить
статью
изящными искусствами и науками
1839).
систему так же уклонялся от самого себя, как и те, кто рисковал взять на себя эту задачу учителя, подобно, напр < имер >, Гегелю, Эшенмайеру, а затем и еще меньшим. Ближе всего к Шеллингу Павлов в Физике, т. е. именно при переходе к специальному знанию. В популярных же статьях общего характера можно говорить лишь об общем шеллингианском умонаклонении и о преобладающих в эту сторону симпатиях.
Логическим отправным пунктом для Павлова служит то разделение, которое ближе всего, пожалуй, подходит к разделению, открывающему Систему трансцендентального идеализма (1800) Но в то время как сам Шеллинг в этом наиболее философском из сочинений своих периодов натурфилософии и философии тожества уходит в сторону идеальную и трансцендентальную, наши шеллингианцы, как мы видели, зарываются в антропологизм и теизм2. Первому благоприятствуют симпатии кантианские, второму – якобианские. Павлов, сосредоточивая свой интерес на проблеме самого знания как такого, имеет характерное отличие в том, что не выходит из пределов собственно методологических. Методология всегда бывает проникнута некоторым позитивистическим духом. Не чужд последнему и Павлов. Павлов сразу ограничивает «подлежащее нашему исследованию» «сотворенным» и делит его природу: «познаваемое только» и «разумение» (intelligentia) т. е. «познаваемое и познающее вместе», которое «относится к познающему в человеке духу». Так начинается первая статья, и то же разделение, с пояснением, что природа – objectum, а разумение – subjectum, встречается и в последней его статье (06щ<ий> чертеж <наук.– С> 98)3. Но в то время как теисты обращались от
1 Тогда как в других произведениях времени до системы абсолютного тожества он исходит, напр < имер >, в Первом наброске (1789) из противопоставления вещи «самому бытию», как безусловности, а во Введении к наброску (1799)—из противопоставления интеллигенции бессознательной и сознательно продуктивной. С другой стороны, если сближать наше шеллингианство с изложением моей системы философии (1801) и последующими произведениями, к чему повод может дать апелляция к «самопознанию», то здесь отрицательной инстанцией, помимо прочего, всегда остается спинозизм и «разум».
2 Оставляя в стороне уход в «физику», как, по-настоящему, отход от философии.
3 В Физике Павлов пользуется и свойственными Шеллингу терминами: сознательное – бессознательное (Т. I.– <С. >5—6). Там род существующее имеет виды: Творец и творение. Природа, как сотворенное, есть природа сознательная, мир духовный, познающее и познаваемое вместе, и природа бессознательная, мир физический, только познаваемое.
сюда к Творцу и Вине, трактуя и субъект и объект соотносительно Ему, а Давыдов, как кантианец, сосредоточивается на субъекте и его функциях, Павлов прямо относится к теории научного познания, где его внимание привлекают не познавательные функции субъекта как такие, а само знание и его виды как продукты этих функций. Природа,– устанавливает он,– прежде всего, есть в своих продуктах; это – ее пребываемость. Но, кроме того, она изменяется, это —ее производимость, она живет В несметном многоразличии существующего и в бесчисленности действий и явлений, однако, наблюдается единство и гармония (О способ<ах исследования природы. – С. > 6—7). Цель исследования в том и состоит, чтобы «сорвать завесу, сокрывающую от нас пружины сей гармонической машины», найти главную причину всех движений, словом, «образовать общую теорию природы» и при ее свете погрузиться в дела Всесотворившего (7—8). Но вместо того, чтобы погрузиться в построение такой теории, Павлов пускается в исследование способов или методов самого построения.
Как есть два пункта, от которых направляется наше стремление к единству и теории,– опыт и умозрение,– так существует два способа исследования природы —аналитически-эмпирический и синтетически-умозрительный. По Павлову, получается соответствие между способом познания и предметом. Именно в области эмпирии —все случайно, само вещество в своих временных формах – случайность, поскольку оно может войти либо в ту, либо в иную форму и быть, следовательно, случайным отпечатком последней. Лишь сами эти формы, как нечто противоположное веществу и потому условно называемое идеальным, представляются нам как идеи, законы, заключающие в себе не случайное, не феномен, а существенное, ноумен. В этих двух предметах, направляющих наше исследование, природа раскрывает две свои стороны: внешнюю и внутреннюю. Разум силится свести чувственное многообразие в его видимости к безусловному, но располагает для этого только формальными средствами: составления понятий, суждений и умозаключений. Теория разума есть логика. Отвлеченное единство формы, к которому приходит разум, есть пустота, действительное в ней исчезает2. Для того чтобы найти единство не как
1 Это уже напоминает Введение к наброску системы натурфилософии (S. 284) и Первый набросок (S. 14 ff.).
2 Поскольку здесь Павлов не выходит за границы Шеллинга, он мог опираться на Лекции о методе академ< ических> занятий (1-ое изд. 1803 г., -ое-1813). Его разум есть, конечно, Verstand, и ум – Vernunft.
внешнюю форму, а как внутреннюю и существенную сторону вещи, т. е. идею, во внешней форме отражающуюся лишь как тень, надо обратиться к понятиям не разума, а ума, каковые понятия Павлов предлагает назвать мыслью, в противоположность понятию формальному. Мысль есть предмет философии. Мысль как произведение ума есть произведение «души, погруженной внутрь себя». Павлов исходит из противопоставления только познаваемого познаваемому и познающему вместе и ставит два вопроса: (1) что все это, что вне меня, что не я? и (2) что такое я сам? В статье О способах исследования природы он, натурально, решает только первый вопрос, другими словами, вопрос о природе как предмете естествознания или физики (в шеллинговском широком смысле). Ответ его: это есть нечто, что имеет две стороны – внешнюю и внутреннюю; это есть, говоря термином Шеллинга, субъект-объект. Способы познания природы отсюда ясны: эмпирический вместе с умозрительным; один эмпирический дает только внешнюю сторону с пустыми, отвлеченными формами. «Каждое явление, – умозаключает Павлов, – след < овательно >, и природа как совокупность явлений есть соединение противоположных (synthesis oppositorum) – совместность идеального с вещественным; посему, умозрительное познание и эмпирическое, каждое отдельно, как одностороннее—неполно». Из сказанного сама собою ясна ценность «умозрительного способа» для естествознания: «ежели теории в естественных науках необходимы,–; то умозрительный способ исследования заслуживает большее внимание ученых, нежели сколько обыкновенно удостаивается оного; мудрая древность не без причины в самопознании полагала начало всякого знания».
В познании природы мы, таким образом, имеем два вида знаний: только эмпирическое, неполное, внешнее, и соединение опыта, «доводящего до открытий», с умозрением, доставляющим теорию. Сам собою поднимается вопрос: возможно ли одно, или чистое, умозрительное знание? Из того способа, каким задает себе вопрос сам Павлов, следует, что нужно спросить себя: знание чего? Природы? На это, согласно всему сказанному, нужно дать отрицательный ответ. Может быть «чистое» (одностороннее) эмпирическое изучение природы, но чистого умозрительного быть не может. Его область – иная. Это —область одного ума и мыслей, предметом которого и содержанием которых могут быть, как очевидно, лишь мысли,
идеи, а не «вещественные» явления. Следовательно, как и указано, это есть область философии. В ней нужно искать ответа на второй из основных вопросов: что такое я сам? Это есть чистое самопознание. По терминологии Шеллинга, здесь нужно говорить, в отличие от натурфилософии, о трансцендентальной философии, о познании «субъекта» безусловного, обусловливающего всякое познание: одностороннего объекта, одностороннего субъекта1 и всей природы, как субъект-объекта. Разъяснению этих отношений посвящены статьи Павлова в его «Атенее».
Статьи Павлова в «Атенее»: О взаимном отношении сведений умозрительных и опытных (1828.– N5 1,2); Философия Трансцендентальная и натуральная (1830.—Февр. ); План (форма) науки (Там же.—Апр.).
Принимая во внимание приведенное различие, я не могу согласиться с заключением проф. Сакулина (ук. соч.– <С. > 122), (1) будто в статье, помещенной в «Мнемозине», «не делалось различие между философией и другими науками»,—предмет философии есть мысль, естествознания—природа как субъект-объект и (2) будто в статье О взаимном отношении и пр < оч. > признается, что «наука о природе может быть построена только на опыте, умозрению здесь нет места»,—эта наука «содержанием имеет сведения опытные» (Атеней, 12), а формы она все-таки почерпает из ума, в ней открытия совершаются «исключительно способом эмпирическим» (13), а теории все-таки построяются умом. Что касается, в порядке ттрос, гщас,, невозможности умозрения без опыта, то это, независимо от рассуждений Павлова, философский трюизм, доказать который как трюизм можно через простое reductio ad absurdum противоположного утверждения. Последнее эмпирически означало бы, что мы можем мыслить, «умозреть», не имея переживаний, т. е. не существуя.
Статьи в «Атенее» показывают способ, каким Павлов выходит из затруднения, получающегося от того, что трансцендентальная философия, или наука чистого умозрения, отожествляется с самопознанием. Выход по пути наименьшей траты умственных сил известен: торная до-
1 Ясное и недвусмысленное разъяснение Шеллинга об «одностороннем» *(= эмпирическом) характере субъекта как предмета психологии, т. е. эмпирической науки о части природы, см. в Лекциях о методе академических занятий (W
Psychologie bei der Physik die Rede sein,–:so da zwischen Physik und
Psychologie kein realer Gegensatz denkbar ist. Selbst aber wenn man diesen zugeben wollte, wurde man doch von der Psychologie so wenig als etwa von der Physik in derselben Entgegensetzung begreifen, wie die an die Stelle der Philosophic gesetzt werden konnte.– Da die Psychologie die Seele nicht in der Idee, sondern der Erscheinungweise nach und allein in Gegensatz gegen dasjenige kennt, womit sie in jener eins ist, so... usf.
рожка психологизма. У конца ее одни присаживаются в недоуменном раздумий на тему: как же так, пока не уснут над одним из «таков», а другие тут-то и узревают обетованную землю – философия есть психология, все цветочки —из одного корешка. Павлов от этой дорожки уклонился, невзирая на то, что в первой его статье у него замечается неясность в определении «идеального», которому приписывается, с одной стороны, ноуменальная деятельная сущность, а с другой стороны, оно же понимается как возможность (in potentia)1. В статье 0 взаимном отношении он в «возможном» находит более философский выход. Философия как чистое умозрение и есть «решение вопросов о возможности предметов нашего познания»2.
Таким образом, у Павлова получается отчетливое разделение видов знания по предмету и по способу познания. Усвоив, далее, хотя и в весьма упрощенном виде, шеллинговское противопоставление науки и искусства, он набрасывает в общем весьма остроумную и удачную классификацию наук. Она отличается такою же простотою построения, как и прозрачностью обоснования. То основное противоположение, которое разделяет природу и разумение, дает первую пару наук: науки физические, о природе, и науки психические, о человеке как существе мыслящем, одаренном разумом и волею. Условное и зависимое, к чему человек относит и себя, предполагает высшее, Творца. Стремясь его постигнуть и чувствуя свое бессилие, человек переходит от заблуждения к заблуждению, пока над ним не загорится заря Веры. Верование, приведенное в систему, составляет предмет наук богословских. Этими тремя группами не исчерпываются известные нам науки, следовательно, должны существовать еще другие предметы познания. Мы их найдем, когда всмотримся в деятельность самого мыслящего духа. Павлов теперь кратко резюмирует мысли, развитые им еще в 1828 г. в статье Различие между изящными науками и искусствами*
1 Но это – основная невозможность и Шеллинга – трясина, в которую он провалился и из которой выбраться можно только с божественной помощью.
2 Павлов сам ссылается при этом на Идеи по философии природы Шеллинга (1803; 1-ое изд. 1797), но ссылка эта носит характер случайный – контекст у Шеллинга иной, чем у Павлова. Вероятно, он просто вспоминал первоначальную канто-фихтевскую постановку вопроса Шеллинга.
3 Некоторые отступления, которые замечаются здесь, от его первой статьи едва ли стоят обсуждения, раз автор вообще не выходит из границ общих утверждений и не делает вывода из производимых им разграничений.
(Атеней.—V). Здесь ход его рассуждения таков. Для возможности науки необходимы: предмет, или понимаемое, разумение, или понимающее, т. е. объект и субъект, и содержание, или понятие. Понятие есть общее изображение предмета, отвлеченное от частных изображений особых (индивидуальных) предметов. Последние изменяются, исчезают, возрождаются, понятия же неизменны. Через понятия для человека образуется новый мир, где предметы превращаются в мысли, где действительное становится умственным. Этот мир есть область наук. Науки, следовательно, суть «списки» предметов, составляемые из понятий и мыслей. Обратно этому, изящные искусства выражают понятие, или мысль. В мраморе статуи, в красках картины, в звуках музыки, в словах поэзии общая мысль приобретает особное (индивидуальное) существование. В целом, это – особый мир понятий, обращенных в предметы, «новая Природа», где зиждитель – человек, отражение Зиждителя вселенной. С точки зрения основания изящных искусств (мысль) и цели (обращение мысли в предметы) искусства составляют один ряд, но с точки зрения средств (звуки, образы, слова) их три вида, как бы три царства новой природы: музыка, искусства изобразительные и словесность. Подобно природе Творческой, эта создаваемая человеком природа становится предметом исследования как действительный мир.
Напомню, что до Павлова в общем, смутном и неразвитом виде Давыдов высказал уже мысль: «Обратно осуществите мир идеальный – вы получите идею Словесности или искусства по преимуществу» (Вступ<и-телъная> лекц<ия>1826.– С. 40). С точки зрения Шеллинга, по его Системе трансцендентального идеализма, в этом нельзя не усмотреть заметной симплификации. Схема Шеллинга такова: представления по отношению к предметам суть или копии (отношение теоретическое, необходимость), или образцы (отношение практическое, свобода). Чтобы объяснить гармонию между ними, нужно допустить одну творческую деятельность: создающую объекты, копирующую их и дающую образцы им. В ней состоит тожество деятельности бессознательной и сознательной, природы и интеллекта, знания и хотения, вследствие чего она может быть названа также слепым интеллектом и бессознательною волею. Ее продукты в одно и то же время —слепой механизм и целесообразность, т. е. они целесообразно определяются, но целями не объясняются. Телеология в субъективном интеллекте, в сознании, и есть не что иное, как деятельность эстетическая или художественная. Реальный мир объектов природы и идеальный мир искусства – продукты одной деятельности. По Системе трансцендентальной философии теоретическая философия познает мир, практическая приводит его в порядок, а филосо
фия искусства творит его. Однако и симплифицированная схема Павлова воспроизводит Шеллинга не только по духу, но и по букве, как можно видеть, напр < имер >, из следующего заявления Шеллинга: «das Sub-jektive in ihm [dem Kunstler] tritt wieder zum Objektiven, wie im Philosop-hen stets das Objektive ins Subjective aufgenommen wird. Darum bleibt die Philosophic der inneren Identitat mit der Kunst ungeachtet, doch immer und nothwendig Kunst, d. h. real» (Vorles < ungen > ub