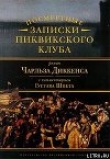Текст книги "Сочинения"
Автор книги: Густав Шпет
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 46 страниц)
Что касается специально самой работы как процесса, то, признаюсь, часто с досадою и раздражением останавливался я перед тем, что считал первоначально надежным пособием и руководством. Досадно было, что приходилось терять время на розыски и исследования, которые давным-давно должны были бы быть произведены, если бы мы серьезнее и культурнее относились к своему прошлому. Говорю о «потере времени» не из высокомерия и высокой оценки своего труда, а с точки зрения своих задач. Для синтезирующего очерка мне приходилось пускаться в исследования, результаты которых в таком очерке могли быть отмечены подчас лишь одною строкою, словом-эпитетом или даже просто пройдены молчанием. Раздражало, когда приходилось наталкиваться на ложные указания и поспешно-легкие выводы, выбрасывавшиеся без всяких поводов и мотивов, заимствовавшиеся из популярных компиляций популярных дилетантов и случайных суждений случайных авторитетов, повторявшиеся без проверки от автора к автору, от книги к книге и только сбивавшие с правильного пути, спять-таки заставлявшие терять силы и время на поиски в направлении, не ведущем к цели, а удаляющем от нее. Некоторые отступления в тексте, изыскательного и полемического свойства, которые могут показаться излишними,—хотя я и сам очень от них воздерживался – есть дань этой моей неудовлетворенности, а полемические, кроме того, и дань, по большей части, моего уважения к соответствующим авторам. Впрочем, эти отступления выделены отступлением и сжатием набора.
Но теперь, когда я обозреваю затраченную работу в целом, сгладилась досада, спало раздражение, и я не мо
гу не благодарить, хотя и немногочисленных, своих предшественников. Я вижу, что без их работы мне было бы еще труднее, а многое и вовсе укрылось бы от меня. В особенности не могу без благодарности вспомнить о работах по истории русской философии Я. Н. Колубоеского и Э. А. Радлова, а отчасти и о Материалах проф. Е. А. Боброва. Еще полезнее, конечно, монографические и специальные работы кн. Е. Н. Трубецкого (о Вл. Соловьеве), С. А. Аскольдова (о Козлове), Н. А. Бердяева (о Хомякове), В. Ф. Эрна (о Сковороде), И. И. Лапшина (о Радищеве), Д П. Миртова (о Каринском) и др. Не меньше, а подчас и еще больше я обязан историкам нашей литературы, в особенности авторам таких исследований, как исследования Н. К. Козмина (о Надеждине), П. Н. Сакули-на (о кн. Одоевском), М. О. Гершензона (о Чаадаеве), А. А. Корнилова (о Бакунине) и под<обных>.
Из друзей, сочувствовавших моей работе и помогавших мне, не могу не назвать Е. Н. Коншину, чья помощь, давшая возможность пользоваться труднодоступными книгами в наиболее для меня благоприятных условиях, сберегла мне много времени и сил.
Н. П. Сидорову, предоставившему в мое пользование свою ценную библиотеку и передавшему некоторые из своих книг в мое полное владение, выражаю также особую благодарность.
Исключительною благодарностью считаю себя обязанным книгоиздательству «Колос». Когда мы убедились, что затеянная нами многотомная коллективная История русской философии по обстоятельствам времени надолго откладывается, был задуман мой «Очерк» в размере 10—15 листов. Написав только первую главу, я просил уже о 20 листах, которые очень скоро перешли в план двух выпусков, каждый по 15 листов. Мы уже приступили к набору, когда стали рассчитывать на два выпуска по 20 листов. С единицами и нулями мы теперь легко умеем справляться, и мы заговорили о 30 листах каждого выпуска. Лежащая перед читателем Первая часть есть первый выпуск из предполагаемых уже трех. Невзирая на возраставшие таким образом технические трудности и материальные затраты, издательство, в лице преимущественно Ф. И. Ви-тязева, неизменно выражало сочувствие и ободрение моей работе. Я уж не говорю о том, что, несмотря на некоторые идейные расхождения с общим направлением «Колоса», мне даже и намека не приходилось слышать, ко
Очерк развития русской философии
торый мог бы оказать давление на свободу моих убеждений, взглядов или на мою научную совесть, я хочу только подчеркнуть, что и со стороны чисто «издательского» отношения и материальных условий, в которые я был поставлен, «Колос» обнаружил предельную liberalitatem. Это выручило меня в тягчайшие дни нашего тяжкого времени и сохранило во мне много душевной бодрости. Припоминая, в какие тиски попадали иногда мои друзья писатели и мои ученые коллеги, и зная, как берег и спасал меня от этих тисков «Колос», не могу не чувствовать, что я ему обязан жизненно. Могу только пожалеть, что не все наши писатели нашли таких друзей-издателей. В особенности мне хочется назвать из членов издательства ставшие для меня дружескими имена Ф. И. Витязева-Седенка, А. И. Доброхотовой, В. П. Бровкина.
Индекс к этой книге составлен моей дочерью, Л. Г. Шпет.
Москва,
1922 г. 17 авг.
НЕВЕГЛАСИЕ
I
Говоря о периодах русской истории, проф. Е. Голу-бинский замечает: «Периоды Киевский и Московский собственно представляют собою одно целое, характеризуемое отсутствием действительного просвещения, которого мы не усвоили с принятием христианства и без которого оставались до самого Петра Великого». Нельзя признать это суждение ни крайним, ни преувеличенным, если только под просвещением, под образованностью и под наукою понимать не отвлеченные обозначения, а конкретные категории европейской истории. Несомненно, что константинопольские священники, сделавшиеся первыми русскими духовными пастырями, ввели грамотность в церковные и государственные дела. Но также несомненно, что вплоть до образования Московского государства, как и долгое время после этого, русская элементарная грамотность не далеко выходила за пределы самой церкви, двора и государственных канцелярий.
Другой русский историк, В. Иконников, в следующих словах резюмирует положение вещей: «В строгом смысле слова, до XVII века [надо полагать, включительно] у нас не было науки; наша литературная деятельность того времени верно характеризуется названием книжность. Она стояла в самом тесном отношении к религии и была ее результатом; книжность должна была удовлетворять только религиозным потребностям. Это подтверждают характер школ, содержание книг и общий уровень знания».
Широкой образованности и тем более науки, хотя бы богословской, при таких условиях ждать не приходится. Духовенство и знать не только не имели представления
даже, как то было в новой западной истории, прочного образованного слоя нации. Сколько древние русские поучения и слова говорят о низком культурном уровне, о дикости нравов и об отсутствии умственных вдохновений у тех, к кому они обращались, столько же они свидетель
о научных
интересах, но не составляли
Очерк развития русской философии
ствуют об отсутствии понимания задач истинной умственной культуры у тех, от кого они исходили. Не видно, чтобы и нравственный уровень руководителей христианским духом народа всегда находился на должной высоте. В той же преданности, какую поучители видели у народа, обычаям треклятых еллинов, бесовским позорищам язычников и прочим деяниям, вызывавшим негодование поучений, изобличает Владимирский собор (1274 г.) духовенство en masse. И даже больше, он к этому присоединяет еще целый ряд пороков не еллинского и не языческого, а чисто христианского происхождения.
Жестокие последствия монгольского нашествия показали и внешнюю, и внутреннюю слабость складывавшегося в Киеве государства. Церковь в такой же мере не была в состоянии оправдать возможных надежд государства, как государство не было в состоянии организовать ее в качестве своего орудия. Заявленное в Правиле (Владимирский собор 1274 г.) митрополита Кирилла желание упорядочить церковь не показывает стремления достигнуть этого путем просвещения. Жалкая наша письменность и зачатки школ, подготовлявших к ней в XIII, XIV, XV веках, сосредоточиваются в монастырях. И если к концу этого периода письменность выходит за пределы монастыря в борьбе с еретиками – коих «вся сожещи достоит»,—то готовая скорее отнести к еретичеству всякое проявление ищущей мысли, чем поддержать и удовлетворить духовное искание. Между тем умственный и культурный уровень низшего духовенства неуклонно опускался до полной безграмотности и нравственной распущенности, вызывавших серьезное беспокойство в верхах церкви (напр<имер>, Геннадий Новгородский), впрочем, также иногда попрекаемых в «ненаказании и небрежении и лености и пьянстве».
Соборы нового государства, поскольку они не заняты только проклятием еретиков (напр<имер>, Собор 1490 г., соборы 1553—1554 гг.), также не идут дальше административных предположений и исправления некоторых формальных сторон чина богослужения (соборы 1503—4 гг. и в царствование Грозного, включая и собор Стоглавый), да поучений «попам-невегласам», культурному развитию которых Стоглав подводит знаменательный итог: ставленники, хотящие в дьяконы и в попы ста-витися, грамоте мало умеют, «а попы и церковные причетники в церкви всегда пьяни и без страха стоят, и бранятся, и всякие речи неподобные всегда исходят из уст их.–попы же в церквах бьются и дерутся про
меж себя, а в монастырех тако же творят...». Одно с другим, императив с фактом,—«поучение иноком» (XIV века) гласит: «книгам не учи», и факт: среди игуменов, чернецов и мирских попов «пьянственное питие безмерное».
Правда, именно Стоглавый собор завершил ожесточенную брань двух церковных идеологий, но опять-таки в порядке управления, а не решения принципиального. Борьба заволжских старцев с «презлыми осифлянами», несомненно, имела значение для развития национально-государственного сознания, а не только для монастырской идеологии. Но в ней так же не было научной или наукообразной аргументации, как не было и философского обоснования. Начетничество осифлян, с одной стороны, псевдорационализм и умное делание «нестяжателей», прямо доставленное к нам с Афона, с другой стороны, были двумя выражениями одной – всецело восточной – психологии.
Незадачливый Максим Грек со своею – действительною или мнимою – ученостью поддержал направление Востока более просвещенного против Востока варварского. Его выступление было неудачно и в сущности нетактично, как ему мог на это раскрыть глаза, если он этого раньше не видел, Стоглавый собор, санкционировавший осифлянскую идеологию. Существует мнение, что «в лице Максима Грека в первый раз проникло к нам европейское просвещение, тогда уже зачинавшееся, и бросило, хотя еще слабые, лучи свои на густой мрак невежества и суеверий, облегавший Россию» (митроп. Макарий). Сообразно этому некоторые считают, что Максим Грек послужил первым звеном, соединяющим русскую «книжность» с западною научною школою (Пыпин). Символично, что это «звено» было прикреплено в темнице Волоколамского монастыря. Реально же – сомнительно, чтобы Максим Грек обладал европейским просвещением и мог быть проводником европейской науки и философии. Во время посещения им Италии Европа сама была лишь накануне своей новой науки. Если судить по его мнениям о еретиках, кончине мира и т. п., а также по тому, что в вопросах космологии для него авторитетом остается Козьма Индикоплов, то он не весьма возвышался над господствовавшими в Москве представлениями и над воззрениями судей, обвинявших его в «волшебных хитростях еллинских». Лишь нравственный уровень грека бесконечно возвышался над средним уровнем московского варварства, в котором господствовала, по злому выражению
Очерк развития русской философии
1Ъ
преосвященного Макария, «почти совершенная безнравственность».
Князь Курбский, первый наш «западник», хотел видеть в Максиме Греке своего учителя. Ученик вышел находчивее учителя, найдя для себя более удобное местопребывание—на западе «от земли божия»,—откуда ему можно было безопасно поучать соотечественников. Непосредственным объектом своего поучения он избрал само царское место, но, по-видимому, его державный корреспондент лучше понимал, что соответствует духу московского народа. Царь, можно думать, воплощал в себе этот дух и прекрасно сознавал это. Люблинская уния должна была бы не только задеть патриотические и религиозные чувства Курбского, но и доказать ему, что царь твердо стоял на почве нового царства. Ни интриги итальянско-византийских сватов, ни безответственные слова псковского инока не составляли еще новой идеологии, но творили уже легенду, которая превращалась в идеологию непосредственно на глазах Курбского. Факт завершавшегося образования государства идеологически запечатлелся принятием идеи третьего Рима, как официального мировоззрения уже ответственных руководителей царства. Венчание Ивана на царство и победа осифлян на Стоглавом соборе ставили точки над «i» государственной и церковной политики царя Ивана и митрополита Макария.
Нужна ли была для всего этого наука и философия? Нужно было то, что и было: Четьи-Минеи и Степенная книга митрополита Макария, с одной стороны, Домострой попа Сильвестра, с другой.
Кое за какими справками, правда, еще посылали на византийский Восток, но со времени Флорентийской унии доверие к нему было подорвано так основательно, что новое государство, желавшее теперь идти путем совершенно самобытным и самостоятельным, могло только бояться его знаний и содержания. Нужные же для собственного оформления схемы уже были им усвоены и осуществляемы.
Между тем не только на отдаленном, но и на ближайшем Западе совершалось культурное движение, которое могло быть серьезною угрозою для восточного варварства и которое этим последним должно было отражаться уже за собственный страх и собственными силами. Значительная часть исконной Руси, Литовская Русь, подпадала под политическое и культурное влияние латинского Запада. Старому Киеву с конца XVI века, после Люблинской, но в особенности со времени Брестской унии пришлось стать аре
ною ожесточенной борьбы с латинством и энергично отбивать его натиск на Восток. Киев мог, насколько мог, устоять в этой борьбе, лишь перенимая, по крайней мере, формы западного влияния. Возникшая в начале XVII века Киево-братская школа (1615), затем Могилянская коллегия (1631), копировала свою организацию с готовых образцов, но ставила перед собою задачи научного охранения своей традиции, своего мировоззрения. Впервые философия проникает к нам, хотя и в скромной, на Западе,отжитой, роли служанки богословия. Большего русский Восток в то время не мог бы вместить. Само возникновение наукообразного богословия уже должно считаться свежим веянием в душном тумане всеобщего невегласия.
Смуты и разруха междуцарствия отвлекли было Москву от положительного строительства. Но когда миновала болезнь и государство вернулось к органической жизни, его идеология осталась прежнею, и психологически окрепшей, пустившей более глубокие корни в национальном сознании. Принципиальной почвы, однако, оно по-прежнему не имело, и по-прежнему казалось, что достаточно только оторваться окончательно от старой связи с греками, чтобы обнаружилось и восторжествовало свое, самобытное. Русский народ оставался благочестивым, но невежественным: «Таково невежество русского народа,– пишет иностранный свидетель и участник Смуты,—что не найдется и трети, которая знала бы Отче наш и Верую во единого. Можно сказать, что невежество народа есть мать его благочестия; он ненавидит науки и особенно язык латинский; не знает ни школ, ни университетов. Одни священники наставляют юношество чтению и письму, чем немногие, впрочем, занимаются» (Маржерет). Сами наставники для серьезной умственной работы также не имели ни школ, ни университетов.
Пришло время, однако, поставить благочестие под опасность. С недоверием и неохотою вызывала учеников
надеявшаяся простым исправлением книг и обрядов обрести почву для государственного мировоззрения. Стало, во всяком случае, ясно, что для выполнения даже этой скромной цели своего доморощенного «наставления» было мало. Один за другим стали в Москве появляться киевские ученые иноки. «И это было весьма кстати,—констатирует историк русского просвещения (Пекарский),—для просвещения в России, но не вовремя для них лично. В ту пору невежество доходило там до того, что ни одной книги не могли напечатать, не наделав тьму
киевской школы
своем темном невежестве
Очерк развития русской философии
ошибок, не повредив самого простого смысла текста, а в заключении не попросив смиренно отпущения ошибок. Но последнее было только на бумаге...»1
В сущности, Москве все еще предстояло сделать то, что должен был совершить Стоглавый собор: нужно было осуществить в порядке культуры то, что выполнялось лишь в порядке управления. Для этого нужно было отказаться от специфически восточной мысли, будто правительство может управлять всем, в том числе духовным творчеством. Уничтожить свою аристократию московскому правительству удалось, но выполнить за нее ее культурную миссию оно было, конечно, не в силах. Реформа все-таки была произведена. Она была произведена в духе того же Стоглавого собора. Зато нарушение буквы Стоглава вызвало раскол. Фатальным образом, однако, раскол претендовал и претендует на сохранение народной самобытности. Старообрядческие историки нашли за «буквою» живую идею об участии самого народа в церковной жизни. И на деле старообрядчество осуществило свою нравственную и свою духовную культуру, истинное значение которой не раскрылось и пропало для истории, потому что культура эта не была принята в государственные формы. А реформа Никона, если и носит на себе едва заметные блики западного влияния, все же, каково бы ни было ее государственное значение, в культурном отношении оставалась бесплодною. Ее культурно-просветительная деятельность сводилась силою вещей к борьбе с расколом.
XVII век в Западной Европе —век великих научных открытий, свободного движения философской мысли и широкого разлива всей культурной жизни. Последний не мог не докатиться и до Москвы – против ее собственной воли. Блестящее одиночество в Европе восточного варварства начинало быть препятствием для развития самой Европы. Со второй половины века западное влияние пробивается в Москву все глубже с каждым десятилетием, если не с каждым годом. В ночной московской тьме стали зажигаться грезы о свете и знании. Одних, как Ко-тошихина, эти грезы выгоняли из Москвы на Запад, дру-
1 Существуют попытки смягчить впечатление, вызываемое необразованностью Московского государства. Так, акад. А. И. Соболевский в интересной актовой речи Образованность Московской Руси XV—XVII веков (Изд. 2-е.-Спб., 1894) считает, что «жалобы Геннадия, отцов Стоглавого собора и Посошкова должно принимать с большими ограничениями». Но собственная «статистика» автора – если даже согласиться, что она методологически безупречна,—доказывает, что можно, пожалуй, говорить о некоторой относительной, «с ограничениями», грамотности, но тем меньше остается оснований говорить об образованности Москвы.
гие, подобно Ртищеву, пытались как-то воплотить эти грезы на месте, но, признанные «злотворцами», они жестоко платились за «рушение» веры православной. Уделом культурных усилий и тех и других одинаково было ничтожество. Народ русский охранял свое невежество за непроницаемой бронею и умел заставить молчать мечтателей. Государственные верхи все больше уходили от народа, и если не хотели уберечь своих, то зато и не могли уберечься от чужих. Окцидентированные греки, как братья Лихуды, и славяне, как Крижанич, или киевские выученики, как Симеон Полоцкий, были в Москве не случайными и сходного типа гостями, хотя принимали их здесь по-разному. Можно сказать даже, между ними и под их влиянием в Москве образовалось нечто вроде борьбы культурных мнений, как оы в результате которой получилось своеобразное их объединение в Спасском монастыре за Иконным рядом.
В £лавяно-греко-латинскую академию, действительно, выливаются вместе и училище добродетельного Ртищева, куда он из Киева призвал «иноков изящных в учении грамматики словенской и греческой, даже до риторики и философии», и педагогическая пропаганда ораций схоластического Симеона Полоцкого, требовавшего от царя «взыскати премудрости», и от начала до конца враждебная латинству деловитость первых заправил академии, ке-фалонийских братьев. Как оы ни оценивать преподавательскую деятельность их в свете науки, факт организации первого в Великой России учреждения, откуда могло бы произрасти научное просвещение страны, мог бы открыть в истории этой страны новую эпоху. Если этого не случилось, то, вероятно, потому, что все же это учреждение было для Москвы «привозным» и могло интересовать только верхи, заправлявшие государственною и церков-ною жизнью народа. Оно не выросло из потребностей, сознанных нацией в целом.
Академия примиряла славянство, эллинство и латинство в обезличенной, давно умершей и высохшей схоластике. Пока во главе академии стояли Лихуды и их ближайшие, уже из русских, ученики (Феодор Поликарпов и Николай Семенов), в ней преобладали тенденции ви-зантийско-схоластические; академия и называлась Элли-но-греческою (sic!) школою. Но лишь она перешла в новое ведение (Палладия Роговского), она повлеклась к западному просвещению в его латинско-схоластической форме; тут и именоваться она стала Латинскою или Славяно-латинскою, и только к концу века она оформилась
Очерк развития русской философии
как академия Славяно-греко-латинская. Новое царствование в новом веке, сперва по безразличию к этому делу, а затем по сочувствию, благоприятствовало повороту в сторону «латинства». Что касается отношения к новому источнику просвещения самого народа, то народ московский по своему культурному сознанию едва ли стоял теперь выше того уровня, на котором он был за сто лет до этого, когда он разрушал первую московскую типографию, открытую при Грозном, спустя сто лет по изобретении книгопечатания. Народ просто молчал —может быть, потому, что ему нечего было сказать, ибо, выделив в раскол наименее равнодушных, он в своей массе стал более равнодушным, а может быть, и потому, что в Москве научились заставлять его молчать. Важнее всего, что пришел Великий Петр и заставил замолчать и народ, и остатки знати. Вместе с ним началась действительно новая эпоха.
К южному источнику культурных веяний присоединен был Петром источник северный. Если там дуло латинством и средневековым католицизмом, то с севера пахнуло реформаторством и новою Европою. Сквозной ветер должен был освежить невежественный покой России, прежде чем можно было приступить к какой бы то ни было культурной работе. Киев оказал Петру безмерную поддержку. По пути, проложенному Симеоном Полоцким и Дмитрием Ростовским, пошли вперед такие ученики киевской школы, как Стефан Яворский, Гавриил Бужинский, Феофан Прокопович. По доброй их воле или против воли Петр заставил всех действовать, как ему нужно было. Московская академия продолжала выполнять свое назначение в новом духе, но только до поры до времени, и в суживавшихся пределах она оставалась источником образования деятелей культуры, церковной и светской вместе. Задачи последней Петром сознавались как задачи независимые, и приходилось думать о новых средствах их разрешения. Ясно одно, что роль духовенства как источника просвещения, как интеллигенции русского народа кончилась. Интеллигенцией русскою с Петра становится правительство и остается в этой роли больше ста лет. «Власть архиерейская» должна была подчиниться «власти царской» и стать ее покорным органом. Устарел прежний, выдающий авторов своим стилем принцип: «Господь Бог всесильный, когда небо и землю сотворил, тогда двум светилам, солнцу и месяцу, светить повелел, и через них показал нам власть архиерейскую и царскую. Архиерейская власть сияет днем; власть эта над душами.
Царская власть в вещах мира сего». Новый принцип требовал нового стиля, краткого, властного. Речевитие заменялось приказанием. «Власть архиерейская», говорили теперь, должна подчиниться, ибо она «не есть иное государство». Перед духовенством встали новые задачи образования. Однако в одном, по крайней мере, тенденции светской образованности все же сошлись с тенденциями новой духовной образованности: с византиизмом было кончено и по форме и по содержанию. Зато положительно—спор вроде того, что имел место между Стефаном Яворским и Феофаном Прокоповичем, не вызывал теперь общего интереса и не имел ни государственного, ни решающего практического значения. Возникала специальная богословская наука, интересная для немногих.
Россия вошла в семью европейскую. Но вошла как сирота. Константинополь был ей крестным отцом, родного не было. В хвастливом наименовании себя третьим Римом она подчеркивала свое безотчество, но не сознавала его. Она стала христианскою, но без античной традиции и без исторического культуропреемства. Балканские горы не дали излиться истокам древней европейской культуры на русские равнины. Тем не менее в наше время произносятся слова, будто Россия более непосредственно, чем Запад, восприяла античную культуру, так как-де она почерпала ее прямо из Греции. Если бы это было так, то пришлось бы признать, что Россия эту культуру безжалостно загубила. Россия могла взять античную культуру прямо из Греции, но этого не сделала.
Варварский Запад принял христианство на языке античном и сохранил его надолго. С самого начала его истории, благодаря знанию латинского языка, по крайней мере в более образованных слоях духовенства и знати, античная культура была открытою книгою для западного человека. Каждый для себя в минуты утомления новою христианскою культурою мог отдохнуть на творчестве античных предков и в минуты сомнения в ценности новой культуры мог спасти себя от отчаяния в ценности всей культуры, обратившись непосредственно к внесомненно-му первоисточнику. И когда настала пора всеобщего утомления, сомнения и разочарованности, всеобщее обращение к языческим предкам возродило Европу.
Совсем не то было у нас. Нас крестили по-гречески, но язык нам дали болгарский. Что мог принести с собой язык народа, лишенного культурных традиций, литературы, истории? Солунские братья сыграли для России фатальную роль... И что могло бы быть, если бы, как Запад
Очерк развития русской философии
на латинском, мы усвоили христианство на греческом языке? Византия не устояла под напором дикого Востока и отнесла свои наследственные действительные сокровища туда же, на Запад, а нам отдала лишь собственного производства суррогаты, придуманные в эпоху ее морального и интеллектуального вырождения. Мы, напротив, выдержали натиск монголов, и какое у нас могло бы быть Возрождение, если бы наша интеллигенция московского периода так же знала греческий, как Запад – латинский язык, если бы наши московские и киевские предки читали хотя бы то, что христианство не успело спрятать и уничтожить из наследия Платона, Фукидида и Софокла... Вместо того открывший собою наш московский «Ренессанс» первым провозглашением идеи третьего Рима старец Елизарова монастыря похвалялся: «Аз —сельский человек, учился буквам, а еллинских борзостей не текох, а риторских астроном не читах, ни с мудрыми философы в беседе не бывал,—учюся книгам благодатнаго закона, аще бы мощно моя грешная душа очистити от греха». Это – просвещенный представитель века, в нем уничижение паче гордости. А современная ему непритязательная приходская паства формулировала просветительные итоги восточного православия прямее и общее: «земля, господин, такова: не можем найти, кто бы горазд был грамоте». Это вполне соответствует восточному идеалу, как показывает аргументация, развитая по поводу того, что в «стране, глаголемой казацкая земля, суть неции, иже в Риме и Польше от латинов научени», и отправленная в Москву со священного Востока в конце XVII века (1686): «довольна бо есть православная вера ко спасению и не подобает верным прельщатися чрез философию и суетную прелесть» (иерусалимский патриарх Досифей).
Патриарх боялся соблазна западной «прелести», но не догадывался противопоставить ей дух живой веры в ее действительном источнике. Он не догадывался, хотя бы с опозданием, присоветовать Руси обратиться к языку живого церковного предания и святоотеческих писаний. Он не понимал, что русская мысль, оторвавшись от источника, беспомощно барахталась в буквенных сетях «болгарского» перевода. При общем невежестве его доступность с течением времени не росла, а уменьшалась. Но и в самых пределах доступности – как он мог служить на пользу духа и веры? Его жалкий объем исчерпывался и тогда нередко пополнялся «писанием», которое признавалось божественным, потому что было освящено языком, но которое в действительности было подлогом под «боговдохно
венность» и даже иногда пародией. Невежество дорожило им как подлинной ценностью и запутывалось, дрожа над каждою буквою и каждым знаком, в безнадежном буквализме. Восточный патриарх не предвидел, что истинная опасность —в соблазне, для первого сколько-нибудь свободного ума, подвергнуть сомнению неизменность и неприкосновенность йоты. Если бы он все это видел и понимал, он, может быть, ужаснулся бы перед судьбою народа, Ренессанс которого должен был свестись к грамматическому исправлению отравившей его буквы другою, столь же ему чужеродною буквою. Само слово для Руси так и не стало плотью.
В общем итоге московской истории получилось, что всю культуру, а потому и философию и науку России не пришлось почерпать из эллинских и римских источников. Творение же в истории, как и в природе, бывает только один раз. Поэтому, когда созрело время для рождения русской культуры, пришлось русскому народу отсутствовавшее у него слово заимствовать у тех, кто от предков не отрекался, соблазна их не страшился и буквою не прикрывал своей духовной наготы. Еще раз чужой язык стал посредником между источником духа и русскою душою. Россия начала свою культуру с немецких переводов. И это есть новая Россия – Россия Петра —вторая Россия.
В начале XVIII века «Europaische Fama» писала: «Из европейцев, к которым медленнее прочих прививается просвещение, татары и русские находились в самом лучшем положении. Первые и доныне остаются еще в неописанном невежестве, напротив, последние постоянно преобразовывают себя по образцу немцев и при помощи несравненных учреждений ныне царствующего государя начинают смотреть не одним, но обоими глазами» (цит. у Пекарского).
Этим констатировалось, как совершённое, то, что предвиделось некоторыми еще в средине XVII века. Сравнительно медленно латинство овладевало западною окраиною России, Литовскою Русью. Обходным путем, через Киев, оно стало, наконец, просачиваться в Москву, пока не схватилось в ожесточенной схватке с восточною ортодоксией в самом Кремле. Не самобытное славянство победило, а тот tertius gaudens, который под шумок конфессиональных и обрядовых споров прямо проник к царскому двору с полезным товаром в одной руке и с полезным знанием в другой. Действительная ересь укреплялась на окраинах Ивангорода, и аккуратно-трудо