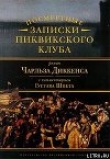Текст книги "Сочинения"
Автор книги: Густав Шпет
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 46 страниц)
1 Против которой возражал у нас А. А. Фишер, см. выше.
отличается своею непосредственностью, не может быть почерпнуто из чувственного наблюдения или фантазии, не посредствуется понятиями, не выводится из начал и не нуждается в доводах, как знание рассудочное. Разум есть духовное око, его созерцания – особый духовный опыт, непосредственно вводящий нас в реальную жизнь духа. Главные идеи разума суть идея истинного, того, что в мире духовном есть, идея доброго, того, что должно быть в мире явлений по отношению к миру высшему, и идея прекрасно-го, созерцание в мире явлений того, что может быть, при отношении этого мира к высшему порядку вещей. Процесс раскрытия идей совершается по степеням: от первоначальной неясности и неопределенности до ясного сознания, (а) Воспринимаемые сердцем идеи разума превращаются в чувствования истинного, доброго и прекрасного, которые сами у разных людей имеют разные степени. Здесь всегда вера совпадает со знанием. Всматриваясь ближе в эти чувствования, мы различаем, как модифицируются основные идеи в зависимости от предметов созерцания: души, вселенной и Бога. Они даются в идее истинного, как созерцание того, что есть, в идее добра, как созерцание того, что должно быть, под формою идей физического совершенства, нравственного добра и верховного блага, и в идее прекрасного, как то, что может быть, под формою идей красоты природы, духа и лепоты бесконечной, (б) Из области чувствований идеи переходят в фантазию, оплодотворяемую идеями сердца. Здесь они составляют содержание естественной религии, и как предмет религиозного созерцания идея истины есть предмет верования, идея добра – предмет религиозной деятельности и чаяния, идея красоты – предмет религиозной символики и сердечного стремления, (в) Рассудок открывает несообразность между сверхчувственным содержанием представлений фантазии и их формою предметов внешнего мира, и фантазия начинает перерабатывать эти формы в формы противоположные чувственным формам пространства и времени, так что идея вселенной созерцается в форме измеримости, идея души – в форме вечности, и идея Бога в форме бесконечности. Далее, рассудок с помощью анализа раздробляет эти непонятные для нас формы и преобразу-ет раздробленные идеи в понятия (которые называются Умственными, идеальными или просто умопонятиями, иногда также идеями, каковые идеи суть уже идеи тре-тьей степени), из понятий образует суждения и составляет
умозаключения. Рассудок, таким образом, сообщает идеям вразумительность, «но вместе с этим унижает их сущность, их беспредельность». С помощью синтеза рассудок восстанавливает порядок, но тут обнаруживается расхождение и противоположность обыкновенных понятий и умопонятий. Относительно идеи истинного: рассудок замечает во внешнем мире лишь ограниченные порядки явлений, а идея вселенной указывает на беспредельную цельность; во внутреннем мире рассудок замечает одно временное бытие, а идея души напоминает о бессмертии; рассудок познает зависимые причины, а идея Бога извещает о бытии безусловном. Аналогичные противоречия раскрываются по отношению к идеям прекрасного и доброго. При таком распадении рассудок попадает в антиномии, что приводит к скептицизму, или выходит из противоречий односторонним путем натурализма, материализма, рационализма, спиритуализма, пантеизма и проч. Правильный выход один: рассудок должен признать реальность идей, как и собственных понятий, и, подчинившись разуму, отказаться от окончательного суда в познании мира сверхчувственного. Тогда идеи сообщают полноту, гармонию и жизнь понятиям рассудка, и из надлежащего синтеза их разовьются Закон, примиряющий свободу и необходимость, счастье и добродетель, как средство и цель, Искусство, сближающее конечное с бесконечным, как форму и содержание, Наука, сочетающая условное с безусловным, как действие с причиною, (г) Развиваясь в Закон, Искусство и Науку, идеи переходят из внутреннего мира во внешний и осуществляются в жизни человека и человечества. Закон, как выражение добра, развивается законодательством, Искусство, как выражение идеи красоты, раскрывает ее богатство в созданиях изящных, Наука, как выражение истины, в системах науки наук —в философии. Закон, Наука и Искусство – еще не последнее развитие наших духовных сил и не вполне удовлетворяют идеальным стремлениям сердца. Безусловное остается необъятным для знания, не-земное, верховное благо нам еще не дается законом, и бесконечное в искусстве соединяется с вещественною формою, но не с нашим сердцем. Этот недостаток восполняется в Откровенной религии. Она восполняет недостаток идеального знания верою, ведет к блаженству путем несомненной надежды и связует нас с Богом живым союзом любви. Религия есть высочайший синтез Закона, Искусства и Науки.
Своей теорией разума Новицкий отвечает на наш вопрос, но в значительной степени и разочаровывает. Он спустился к психологии, но в действительности дал только схему. Схема может быть первым шагом к анализу, и психологическому, и философскому, но может быть принята или не принята и независимо от последнего. Несомненно, в схеме Новицкого немало остроумия, но и большие уступки той принципиальной позиции, которую он занял в Речи. Здесь можно заметить одновременное возвращение от Гегеля и к догматическому рационализму, и к Эшенмайеру, и даже к Канту. Догматическое разделение предметов сверхчувственных – вполне воль-фианское. Игра «сердца» остается фактором еще более неопределенным, чем вера-разум Якоби и Эшенмайера. В праве рассудка на суд над разумным познанием сверхчувственного отказывает и Кант. Наконец, все в целом не есть ли пример того «формализма», который бичевался Гегелем у Шеллинга и его последователей и которым тем не менее злоупотребляли многие поклонники самого Гегеля. Что касается Откровения, как «синтеза» Закона, Искусства и Науки, то этот синтез появляется подлинно как deus ex machina. Изображение функций разума уже исчерпано; ясно, что к Откровению они не имеют отношения. В лучшем случае, как говорил Новицкий раньше, это —свет со стороны, сверху, но не от самого предмета разума, и только на худший конец можно было придумать то, что получилось у Новицкого: начертал схемы, разместил по ним все, что ему было нужно, и опрокинул на все чернильницу... Едва ли это объясняется только тем, что автор свою теорию излагает в русском учебнике; вернее это —ratio ignava самой его философии.
Якобиевская неопределенность теизма, которую, таким образом, Новицкий перенес из духовной академии в университет, здесь уже не является серьезным упреком. Серьезнее то, что, прикоснувшись как-то Гегеля, Новицкий все-таки не сумел или не захотел провести ясное разграничение между верою-разумом (Якоби) и чистым спекулятивным разумом (Гегель). Гегель, как известно, и сам признавал у себя некоторые точки соприкосновения с Якоби, но резко подчеркнув и продолжая подчеркивать пункты различия. Осмысленное усвоение Гегеля русской академической философии было еще не по плечу. Эпоха е1Це не созрела. Основные тенденции Гегеля: научность, Методическое развитие процесса, имманентизм, критиче
ский рационализм – оставались ей недоступны. Неоткуда было взяться нужной для этой философии серьезности. Место научности занимали потребности сердца; процесс не интересовал, а усваивались только результаты; имма-нентизм был непонятен в корне, и не столько по причине враждебности трансцендентизму, сколько по антипсихо-логичности. Но есть еще одна тенденция в Гегелевой философии, для которой наша мысль уже созревала и к которой она обнаружила такую исключительную способность,– как бы последняя ни объяснялась: врожденным предрасположением или жизненным воспитанием и культурным развитием русской мысли,—что, может быть, ее-то и следует считать одною из главных характеристик русской мысли. Эта тенденция – историзм.
История есть единственная наука, быстро ставшая у нас на собственные ноги и развивающаяся у нас с поразительной самостоятельностью. Сама жизнь требовала и требует, чтобы мы через историю решали проблемы своей культуры, и исторический метод этим как будто сам собою навязывается нам. Своим запоздалым вступлением в европейскую жизнь Россия более всего обязана тем, что ее история должна была стать сознательной историей, сознательно направляемой и руководимой. Все время отставая от европейских народов, мы не можем не смотреть на пройденное ими развитие как на некоторый образец – хотя и не идеал – для себя. Будет ли пониматься, дальше, задача этой сознательной истории как творческая задача русской культуры в европейском духе или как простое подражание европейским формам, или, наконец, как отказ от Европы и протест против нее в духе мечтательно-азиатском и в анархо-моралистическом бесфор-мии, это – уже разница направлений. Независимо же от направления, проблема самой России как материальная проблема и проблема истории и историзма как формальная и методологическая проблема не могли, силою вещей, не стать основными «национальными» проблемами русской философии.
Не усвоив других тенденций Гегелевой философии, Новицкий с полною отчетливостью усваивает труднейшую идею ее о том, что противоположность и борьба есть существо самого сознания, что каждая идея постижима только в своем исчерпывающем (во «всех изгибах идеи») развитии и в контексте целого (в «связном организме») и что это развитие внутренне необходимо, что филосо
фия – истинна в целом движении мысли, а не в какой-либо отдельной системе, какой бы широкой последняя ни казалась. Если Новицкий, тем не менее, в явном противоречии этой идее, повторяет пустые слова о «здравой философии» с ее здравою полезностью, то, быть может, это просто дань времени, которое он сам же в соответствующих чертах и характеризовал, а, быть может, и это также общая национальная особенность...
Литературная деятельность Новицкого началась раньше, чем Михневича. Можно бы предположить общий источник у них – в лице их общего учителя, но стоит только заглянуть в статью Скворцова о Канте или в Записки о нравственной философии, чтобы убедиться, что для «историзма» Скворцов далеко еще не созрел. Критика Авсенева не только «догматическая». Но наибольшая заслуга здесь, вероятно, принадлежит Иннокентию. Стоит отметить, что проф. Малышевский в цитированной выше юбилейной речи усиленно подчеркивает исторический дух, каким прониклась вся научная работа духовной академии за первую половину XIX в. (ср.: 97, 103, 120; 86), и также приписывает выдающуюся роль в этом Иннокентию. Свящ. Буткевич (см. его кн.: Иннокентий Борисов.—Спб., 1887.—С. 408) противопоставляет направление Киевской академии вообще (под влиянием Иннокентия и м<итр. > Евгения) как историческое московскому, (влияние м<итр. > Филарета) догматическому. Может ли это противопоставление умов Филарета и Иннокентия служить априорной характеристикой и научного направления двух академий, сомнительно. Вопрос может быть решен только сравнением фактической работы в той и другой академии. Это требует специального исследования. (Книга свящ. Буткевича никак авторитетом служить не может; в ее составлении больше участвовали ножницы и клей, чем даже чернильница и перо, и выводы автора поэтому «случайны».)
В порядке чистой мысли тема «истории» выдвинута была, как известно, Шеллингом, который несколько раз возвращался к вопросам о возможности истории как науки, о возможности философии истории и вообще о возможности философского трактования исторического (о первой постановке вопроса у Шеллинга см. в моей книге: История как проблема логики). Быть может, некоторым отражением шеллингиан-ского интереса к теме вызвана ст. О связи философии с историей (ЖМНП.– 1837.– IX). Автор начинает с констатирования факта: кажется, что между философией как наукою об идеях и историей общего нет: «Философия стремится к идеальному, История представляет существенное [существующее?]. Идеальное возможно для мысли, существенное Для жизни. Чтобы, возносясь духом в области идеального, не потеряться среди воздушных образов и мечтаний, должно с основательностью исследовать область существенного, где нас удерживает жизнь 11 Действительность». Одна из точек зрения, раскрывающих связь истории с философией, есть история самой мысли философской, тут исто
рия – вспомогательная наука любомудрия. Общее заключение гласит: «Итак, история и философия должны искать точку соединения в человеческом духе, который есть единое великое целое.–ход исторических событий дает главное направление философии, и каждый период истории обязывает своих философов к разрешению новых вопросов». Из этого прямо вытекает требование формулировать «новый вопрос» своего времени. Автор ограничивается, однако, лишь изображением самого исторического момента, который даст, очевидно, новое «главное направление философии», предоставляя, по-видимому, самое проблему формулировать читателю. «Настоящий век имеет свои задачи, и мы видим с утешением то время, в которое страна, счастливая своим положением, патриархальными нравами народа, героическою храбростию войска, отеческим правлением самодержцев, благоразумною системою законов, пламенным стремлением к наукам, неизменная уставам вселенской церкви и следственно не имевшая нужды в реформации, сильная верою в Промысл, вступает на первый план картины современного быта семейственного, гражданского и религиозного». Это-то благополучие вскоре, действительно, и стало проблемою.
Понимание историзма как метода можно приписать и Михневичу, потому что едва ли было простою случайностью, что Михневич, столь близкий к Новицкому, для решения теоретического вопроса, в чем сила ума, воспользовался таким блестящим приемом, как сопоставление философии языческой (греческой) и христианской. Сильвестр Сильвестрович Тогоцкий (1813—1889), третий из перешедших в университет магистров Киевской академии, ученик, главным образом, Авсенева', еще в большей мере проникается историзмом, хотя также не выходит из колеи теистического трансцендентизма, и вопрос о «разуме» и «вере» принимает в постановке и решении Новицкого, т. е. как вопрос о «разуме» или «вере»2. Кто сравнит его
1 Авсенев сам совмещал одно время (1838—44) преподавание в духовной академии и в университете. По сообщению Колубовского (Материалы для ист<ории> филос<офии> в России... – С. 12.– < Вопросы философии и психологии.– М., 1890>.—I, 4), Гогоцкий слушал философию у Карпова, но Карпов ушел из Киева в 1833 г., а Гогоцкий поступил в академию в 1833-м. Учеником А нет пива Гогоцкий сам себя называет {Словарь Иконникова).
2 См. в особ < епности > его в Философском Лексиконе (Т. I—IV.—К<иев>, 1857—1873): Разум, Идея, Вера,—К рассматриваемому периоду (до < 18 > 50-го г.) относятся: Критический взгляд на философию Канта. Рассуждение, написанное магистром философии Сильвестром Гогоцким, для получения звания доцента философии в И<мпера-торском> Ун < иверситете > св. Владимира.– К<иев>, 1847; и Тогоцкий С. О характере философии средних веков.– Современник.-1849.-VI (Т. XV).
работу о Канте со статьей о Канте Скворцова, тот наглядно убедится, какие успехи были сделаны в Киеве в течение всего десяти лет. Это уже не резонирующее противоположение взглядам философа суждений «здравого» смысла и восклицаний об «высших» истинах, а проба через историю добиться положительных ответов на свои положительные запросы.
С Канта, по толкованию Гогоцкого, начинается новая эпоха, потому что Кант, признав, что дело философии заключается в уразумении сущего через мышление, направил философию на само мышление. Гогоцкий понимает Канта антропологически, и направление философии на мышление поэтому не может понимать иначе, как в виде самонаблюдения. Тут – наибольшая заслуга, но с этим же связана и коренная ошибка философии Канта. Раз он признал, что не мышление вращается около вещей, но вещи около мышления, то это значит, «что вещи знать нас не могут, что они не в состоянии сообщить нам и знания, потому что не сами вещи познают себя в нас, но мы познаем вещи». Поэтому, заключает Гогоцкий, Кант впадает в противоречие, когда говорит, что именно потому мы не знаем внутренних законов бытия, что созерцаем их в формах мышления. Но все же и «самое свойство отрицания критической философии» таково, что ею возбуждается деятельность самопознания, и она вызывает противоположное себе положительное направление. Оставляя в стороне историческую и по существу правильность такого толкования Канта, нетрудно видеть, что Гогоцкий, спасаясь от отрицания и скептицизма Канта, впадает сам в типичный для психологизма и спиритуализма скептицизм. Ведь если мы познаем вещи в нас самих, то это значит, что сами вещи познают себя в нас, и ровно настолько, насколько они могут проникать в себя. Для прочего остаются «явления» и «формы мышления», в которых единственно мы познаем, и значит, внутренние законы бытия, отличного от «нас», скрыты от нас. Таким образом, «положительное направление», о котором говорит Гогоцкий, есть тот же скептический психологизм, который был свойствен и остальным рассмотренным нами писателям, ато теизм Гогоцкого, строго говоря, уже не выводится Из «познания самого себя», а связывается с некоторою но-в°ю более интересною космологией, чем космология спиритуалистическая.
Частные заслуги Критики чистого разума Гогоцкий видит в том, что она твердо установила предопытность форм чувственного воззрения и рассудка, отличала разум от рассудка как по их предмету, так и по отправлениям, и что это различие она открыла в том, что рассудок имеет дело только с явлениями, тогда как разум – с безусловным. То ограничение прав разума, которое мы встречаем у Канта, Гогоцкий, понятно, не принимает, но интересно, что и здесь его внимание останавливает на себе не простое утверждение познавательных функций веры, а отмеченные самим Кантом противоречия и антиномии, требующие более высокого разрешения и приводящие «к признанию в противоречиях рассудка имманентного закона самого мышления». Это —то зерно, «из которого развилась потом блистательная система Гегеля и ее диалектический метод». Еще выше заслуга Канта, по мнению Гогоцкого, в практической философии. Возвращая здесь разуму то, что отняла у него Критика чистого разума, Кант тем самым утверждает первенство духа над природою и открывает его свободную и разумную самостоятельность внутри самого человека. Наконец, заслуга Критики способности суждения в том, что она связывает безусловное с явлениями и раскрывает, во-1-х, истинное значение изящного и, во-2-х, целесообразное развитие духа по свободным целям, а не по механическому процессу причинной связи. Этому последнему факту Гогоцкий придает исключительное значение, побуждающее и всю Критику способности суждения рассматривать как высшее достижение Канта, как «фокус, в котором сходятся все части философии Канта и заменяют у него прежнюю метафизику». Он называет учение Канта о телеологическом суждении «почти пророчественной мыслью», так как в нем предуказывается, какова должна быть «метафизика, или в собственном смысле философия». Понятие цели ведет к единству всех частей целого, и весь ряд явлений развертывается в стройную, органическую, замкнутую в себе целость, «где разум выражается в явлениях, а явления проникнуты разумом». Ясно, что это уже не спиритуалистическая проза и что мысль Гогоцкого устремляется в направлении того созерцания мира, которое видит идею Бога во «всесовершенном разуме» и которое послужило вдохновением Шеллинга и Гегеля. Их Гогоцкий считает непосредственными продолжателями Канта, расширившими Канта еще в том отношении, что у них идея Безу
словного Существа устанавливается не на основании только требования нравственной природы человека, а значительно шире, особенно у Гегеля, который старается сообщить ей полную действительность*.
«Несообразности», которые Гогоцкий открывает у Канта, по сравнению со всем сказанным кажутся частными и формальными. Все они вытекают из отмеченного коренного противоречия, разорвавшего разум как мыслящее начало с сущностью предметов познания,—«разум остается без способности проникнуть в сущность вещей, а сущность вещей без возможности быть понятою». От этого, напр < имер >, пространство и время суть только субъективные формы, а с другой стороны, практический разум, составляющий одно с теоретическим, резко от него оторван. Последствием этого уже является то, что нравственная деятельность у Канта отрешается не только от представлений блага и счастья, но даже от представления Бога как законодателя и мздовоздателя. Когда, наконец, к этому еще присовокупляется упрек Канту в вытекающем отсюда «рационализме», то это уже возвращает нас к Скворцову, т. е. к неразличению рационализма философского и богословского.
«Критический взгляд» Тогоцкого, таким образом, не есть догматическое противопоставление заученных утверждений и не есть та пресловутая quasi-имманентная критика —удел бездарности,—которая по отсутствию самостоятельной мысли вылавливает в разбираемом учении одни формальные противоречия и словесную несогласованность. Критика Гогоцкого проникнута историзмом в хорошем философском смысле. Ее дух в еще большей степени сказывается во второй философской работе Гогоцкого – О характере философии средних веков2. Средневековая философия оценивается им по ее месту в общей истории философии и затем сопоставляется с общею культурною характеристикою средних веков. Каждая эпоха философии, думает Гогоцкий, характеризуется отношени-J*jcoTopoe ставит себя мыслящий дух к бытию. В фи-
1 Позже, однако, основной недостаток Гегеля Гогоцкий видит в его *повсржДении имманентности Бога, но Критике способности суждения прсжнему уделяется самое высокое место. См. в Философ<ском> Аек-<«*оне ст. Гегель, Кант.
Ск Д° своих философских работ Гогоцкий написал выдержавшее не-• ько изданий Критическое обозрение учения римской церкви о видимой главе Изд. 2-ое.-К<иев>, 1841.
лософии древнеклассического мира это отношение еще не могло быть сознательным, и в ней преобладает безотчетное признание гармонии между мышлением и его предметом. Христианство нарушило эту гармонию, оно подорвало уважение к природе и направило все к религиозному авторитету. Новая философия сознает эту противоположность миросозерцания и природы, ставя своей задачей примирить их. Этим определяется положение средневековой философии: она – вступительный период новой. Но она отрицает самостоятельное отношение мышления познающего духа к своему предмету и вносит в человеческое существо раздвоение и вражду. Философии средних веков недоставало того возведения мышления к высшему сознательному, духовному бытию, которое могло бы заменить прежнюю непосредственную гармонию природы и духа. Эта философия оставалась вне сознания, вне психологического основания своих исследований. Потеряв неограниченную самостоятельность, наука средних веков не могла в самом духе человека указать путь к познанию истины и на место разумного усвоения ее открыла доступ произвольным мечтаниям или одному рабскому, механическому принятию буквы. Будучи по отношению к вероучению чем-то лишь вспомогательным и склоняясь к занятиям исключительно предметами веры, став, другими словами, чем-то для себя беспредметным, не имея действительного содержания, философия не имела и соответствующей философскому исследованию формы, не имела метода. Она не имела ни своих вопросов, ни сознания места и важности в общей философской системе тех вопросов, которыми она занималась. От этого у нее не могло быть последовательного развития, не было внутреннего и самостоятельного движения.
Гогоцкий, в отличие от своих коллег, воздержался от преждевременного суждения о русской философии, иначе ему пришлось бы сделать применительные выводы из собственной, только что приведенной, характеристики философии средневековой и противопоставить их оптимизму апологетов: вспомогательность, беспредметность, отсутствие метода и своих вопросов, последовательного развития и внутреннего, самостоятельного движения. Это было, во всяком случае, приложимо к официальным представителям философии его времени. Гогоцкий первый делает попытку сознательно выйти из этого состояния философского покоя.
В статье Гогоцкого видно не только удачное применение исторического метода для уяснения существенного характера самой философии, но видно также, что исследование производится по продуманным предпосылкам. Принципиальная самостоятельность философии и независимая методичность, при несомненной связи постановок вопросов с общими требованиями времени,– это такое понимание, которое выгодно отличает Гогоцкого от его предшественников. В его подходе к делу —новый тон и новый способ держать философскую речь. Союз философии с университетскою наукою выгодно отражался на философской работе, и можно было ожидать, что дальнейшее непредвзятое исследование принесло бы свои плоды. Но, может быть, именно потому, что этого можно было ожидать, потому, что философия освобождалась от того подчиненного положения, в которое она ставилась преподаванием в духовных академиях, потому, след < овательно >, что она переставала «служить людям» и «приносить пользу», стоявшие на вахте русского просвещения забили тревогу. В панической растерянности приказано было рубить мачты, ослепленные страхом несчастные люди не видели, что руль давно не повинуется рукам сумасшедшего рулевого...
ПЕРВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
XI
Третья эпоха в развитии русской культурной мысли и просвещения началась раньше, чем кончилось господство правительственной интеллигенции. Новое развитие не ждет последнего конца умирающей эпохи, чтобы то-рЦа только засвидетельствовать о своем существовании. ино рождается в недрах умирающего, когда последнее, по-видимому, еще живет полною жизнью, оно питается им и в нем самом находит необходимые условия своего Р°ста. Скорее можно сказать, что рост нового истощает перезревший уже организм и прямо способствует его Умиранию. Отсюда неизбежные внутренние противоре-Ия так называемых переходных периодов, когда старое ге Не отмерло, а новое не стало на самостоятельные но-го вый период ясно обнаруживается уже в конце 30-х Аов, когда все громче заявляет о себе свободная интел-
Г. Г.
лигенция, скоро разбившаяся на партии и тем внесшая в руководительство просвещением, в противоположность прежним, менявшимся, но единым началам, начала разрозненные, иногда противно противоположные. Возникает некоторая необходимая для духа анархия, а вместе с тем и оживленное разнообразие и свободная борьба—впредь до нового насилия, до новой монополии на просвещение, в случае победы одной из борющихся партий, впредь до новой национализации просвещения, преодолевающей и покоряющей партийность.
Новое бывает реально обусловлено всем наследием прошлого, но психологически всякое развитие играет противоречиями и отрицаниями. Новое психологически претендует на безусловное и всеобщее отрицание и уничтожение старого. Следует отдать себе отчет, во-первых, в той идеологии, которая отживала уже собственные реальные (государственно-организационные) условия и вызывала всестороннюю оппозицию со стороны новой интеллигенции, а во-вторых, в той реальной наследственности, которая обновляющимся обществом впитывалась вместе с кровью и реальным характером предков и которая может быть модифицирована, но не может быть уничтожена, пока существует самый субъект культуры.
После Петра ни одно событие не имело такого значения для культурной истории России, как Отечественная война и походы в Европу < 18 > 13-го и < 18 > 14-го года. До этого времени мы смотрели на Европу сквозь петровское окно, царицы наши заигрывали иногда с европейцами, живущими «через дорогу», иногда мы выскакивали и принимали участие в потасовках, происходивших на этой дороге, били других и были биты сами, посылали отдельных мальчиков туда на учебу, но лишь в Отечественной войне впервые Россия, в лице своей военной делегации, совершила широкое образовательное путешествие по Европе. До этого времени – худо ли, хорошо – старались вести самостоятельную политику и за собственный страх, отгораживаясь от соседских влияний. Теперь, именно потому, что так старательно отгораживались, простое вхождение в общую связь, желание играть роль в международной политике заставляло нас и свою внутреннюю политику делать международной. Перед другими не возникало такого требования, потому что внутренняя жизнь каждого давно была налажена и согласована с жизнью соседей. Мы вошли с сознанием каких-то свыше
нам данных прав и преимуществ, учредили интернациональный реакционный заговор против свободы и стали распоряжаться сперва во Франции, а после в Швеции, Польше, Венгрии, пока нам в собственном Севастополе не напомнили о добродетели скромности. Началось запоздалое и против воли равнение на соседей. Однако даже в пору самозабвенного упоения своими преимуществами мы не могли не видеть —хотя и не понимали причин – культурного первенства Европы. Правительство хотело оставить за собою насаждение культуры, придав ей то направление, какое, по его понятию, более соответствовало нашему духу. Оно не замечало, что ее семена, помимо его самого, уже были заброшены на нашу почву, а если и замечало, то не верило ни в их спонтанную силу развития, ни в пригодность почвы для их восприятия. Между тем они были брошены, дали всходы, и интеллигентная монополия правительства приходила к концу, но, слабоумное, оно успело причинить много зла и оставило порочную наследственность.
«Во имя Пресвятой и Нераздельной Троицы Их Величества –объявляют торжественно, что предмет настоящего акта есть открыть перед лицем вселенныя их
непоколебимую решимость–руководствоваться–
заповедями сея святыя веры, заповедями любви, правды и мира–», —так начиналась декларация, предложенная русским царем в качестве договора, связывавшего христианских монархов в Священный союз, и подписанная тремя из них уже в сентябре 1815 года. «Единое преобладающее правило» договора требовало приносить друг другу услуги и почитать себя как бы членами единого народа христианского, «поелику союзные государи почитают себя аки поставленными от Провидения для управления единого семейства отраслями–исповедуя таким образом, что Самодержец народа христианского–
не иной подлинно есть, как Тот, кому собственно принадлежит держава, поелику в нем едином обретаются сокровища любви, ведения и премудрости безконечныя–».
Таким образом, в лице La Sainte Alliance сам Христос поставлялся во главе европейской реакции.
Печальнее всего влияние этого кощунственного учреждения отозвалось на высшем образовании. Пресловутые карлсбадские конференции вводили в германских уни-верситетах институт попечителей, на которых, между пРочим, возлагалась обязанность следить за тем, чтобы