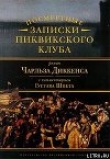Текст книги "Сочинения"
Автор книги: Густав Шпет
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 46 страниц)
IX
Итак, некоторый общий тон был задан Петербургской академией, и его, в общем, держалась вся духовно-академическая философия. Единство тона, отчасти по крайней мере, обусловливалось генетическим единством нового периода в истории духовных академий. Кутневич, профессор Московской академии, учитель Голубинского1, и Скворцов, профессор Киевской академии, учитель Карпова, Авсенева, Михневича, Новицкого, Гогоцкого,—оба были воспитанниками Петербургской академии. И в этот, и в более поздние периоды можно встретить среди ду-
1 Из Московской академии – архим. Гавриил и непосредственный ученик Голубинского – Кудрявцев-Платонов; непосредственным учеником Голубинского были также его адъюнкты Д Г. Левицкий (с 1844 г. бакалавр, с <18>54 г. экстраорд < инарный > профессор, ум. в 1856 г.), автор труда: Премудрость и благодать Божия в судьбах мира и человека (M., *"57), который рассматривается как «продолжение» Письма Голубинско-го О конечных причинах (Приб <авления > к Твор<ениям> св. Отцов. ц. у.—1847; перепечатано в 3-м изд. (M., 1885) названного тру-Да). и И. М. Богословский-Платонов (бакалавр с 1844 г., в < 18 > 50 г. выпи"1 И3 акаДемии» Ум– в 1870), автор сочинения: Арабы и их философия (Москвит<янин>.– 1850.—Ч. III).—Заглавие ст. Голубинского: Содержание и история учения о конечных причинах или целях; напечатанное содер-жит только исторический материал; цель статьи – опровергнуть мысль возможности чисто механического объяснения жизни,– мысль, развитую в ст. Э. Литтре О важности и успехах физиологии (Соврем <ен-ник>._ 1847.-N5 2).
ховных философов людей, убежденно и искренне, не за страх только смотревших на философию как на средство христианского воспитания; были другие, уходившие из-под давления на их совесть в «беспристрастное» и бесстрастное изучение истории философии; были, наконец, и такие, которые бежали при первой возможности из академий на более все-таки свободные кафедры университетов1. Впечатления от целого это не меняет.
Искреннею теистическою убежденностью, насколько можно судить, отличался Феодор Александрович Голубинский (1797—1854). К сожалению, суждение о нем может быть скорее суждением впечатления, чем результатом изучения. Кроме незначительной и неоконченной статьи, он ничего не напечатал. Выпущенные его почитателями значительно спустя после его смерти записи его лекций, сделанные его слушателями, суть записи слушателей, отличаются всеми соответствующими качествами и источником для изучения философии учителя, разумеется, служить не могут. Общее впечатление, которое они дают о нем, есть впечатление ума настойчивого и углубленного, исторически хорошо подготовленного, в особенности в творениях отцов церкви и классиков философии, а потому добросовестного в изложении, твердо уверенного в истине христианства и потому чуждого как сервилизма мысли, так и натянутых «согласований» или заигрываний со светскою наукою. Все у него твердо и прочно; сторонних вопросов нет; и если преобладающая задача духовно-академической философии – апологетическая, то свою задачу Голубинский понимает как задачу честной, бескомпромиссно верующей догматики. Что касается его философского направления, то я решаюсь вопреки высказывавшимся суждениям утверждать, что Голубинский в своем преподавании прежде всего волъфианец. И опять производит впечатление, что он привержен вольфианскому рационализму не в силу простой преданности академической традиции и консерватизма, а в силу непорочного убеждения. Он прекрасно знаком с тонкими подчас оттенками между столь забытыми теперь оруженосцами славного марбургского философа. Не менее хорошо знаком он с критикою Канта, с обманчивым алогизмом Якоби, с пропитанными потом наукословиями Фихте, с паре-
1 Впрочем, большую роль играло и сравнительно лучшее материальное обеспечение профессоров университета.
ниями Шеллинга, но он твердо знает преимущества предметного рационализма Вольфа, и он убежденно и вполне оригинально отстаивает философию по его идее, хотя и рассматривает ее под исключительным углом богословского зрения.
Больше всего и яснее всего это сказывается в его учении о категориях1. Лишь в Лекциях по Умозрительной Психологии1 Голубинский как будто больше поддается – что вполне естественно, если иметь в виду развитие самой философии его времени,– новым веяниям и более независим от вольфовской психологии. Наибольшую симпатию он обнаруживает к Якоби —что покажется противоречием лишь тому, кто не свободен от традиционных схем немецкой истории философии,—затем к Платону, которого обильно цитирует, к некоторым отцам церкви и к позабытому уже Пуаре (1646—1719)– что, пожалуй, более неожиданно и что придает ему несколько мистический оттенок, прекрасно, однако, вяжущийся – и вообще, и у Голубинского – с рационализмом. Под умозрительной психологией Голубинский разумеет ту часть метафизики, которая исследует сходство, отношение и связь человеческого духа с Абсолютным Существом, возводя к идее о Бесконечном «наблюдения внутреннего чувства или акты нашего сознания». Неизвестно, насколько точно студенческая запись воспроизводит мысль профессора, но это отожествление «сознания» и «внутреннего чувства» уже дает право характеризовать его как психологиста. С другой стороны, однако, и метафизический спиритуализм (типа Лейбница) впадает иногда в ту же ошибку, и потому важнее подчеркнуть, что независимо от этого отожествления Голубинский излагает умозрительную психологию по идее не психологизма, а онтологизма. Его психология может быть прямо названа теистической онтологией души. Правильнее ее сопоставлять не с психологическим спиритуализмом, а с чисто метафизическим – лейбницевским, противопоставляя, напр < имер >, пантеистической онтологии души у Спинозы. Симпатии к Якоби, оказывается, не мешают Голубинскому, а Платон
1 Лекции философии проф. М<осковской> Д<уховной> А<каде-ии> ф д Голубинского. Из Чтений в Обществе любителей духовного "Росвещения.-Вып. III: Онтология.-М., 1884.
– МозРительная психология (Записаны со слов его студентом – Назаревским и другими).—M., 1871. В издании Чтений (с незначи-сльными дополнениями): M., 1898.
и отцы церкви, конечно, на его стороне – впрочем, и самого Якоби он, кажется, относит к философам, восстанавливавшим платонизм. Наиболее оригинальною у Голубинского мне представляется его попытка сопоставления человеческой души с Абсолютным сущим путем разбора свойств последнего и анализа того, какие из этих свойств могут быть сообщимы конечному духу, или, что то же, какие из них допускают степени. Необходимое существование («невозможность небытия»), существование от себя (независимое), полнота бытия и совершенств, неизмеримость и вездеприсутствие, отрешение от ограничений времени – эти качества конечному существу не могут быть свойственны. Но существование и самодеятельность, во-первых, и духовные совершенства, хотя бы в начатках и ограниченных степенях, во-вторых, могут и должны быть уделены существу конечному. Далее у Голубинского следует изложение учения о душе применительно к онтологическим категориям. Он признает, хотя и ограниченную, субстанциальность души, связь души и тела понимает, в согласии с «здравою философией», как причинное соотношение, в учении о силах души ближе всего подходит к Платону, происхождение души вообще понимает как творение «из ничего», в вопросе же, наконец, о происхождении души в каждом отдельном человеке он более склоняется к траду < к > ционизму, чем креацианизму, хотя и первым удовлетворяется не вполне. Таким образом, если не решения, то постановки вопроса, в общем, у него соответствуют католической схоластике.
Учение Якоби об источниках познания ложится в основу и общего понимания философии. Благодаря Якоби удалось составить формулу, как бы примирявшую в себе платонизм с Кантом, а также с идеализмом Фихте—Шеллинга и даже с Гегелем,—может быть, потому, что эта формула существенно правильно передавала действительное отношение познавательных сил в сознании. Она широко была воспринята нашей духовной философией, хотя отнюдь принципиально не связана ни с теизмом, ни со спиритуализмом. Философия, по Голу-бинскому, имеет своим предметом силы, законы и основания природы и духа человеческого, равно как и свойства Виновника их, Высочайшего Существа. Соответственно, как система познания, философия опирается на опыт внешний и внутренний, с одной стороны, и на идеи ума, которые направляются на порядок и красоту целого, но
также на предполагаемые невидимые силы, скрытые под видимою оболочкою чувственных явлений. Функция интеллекта (рассудка) при этом остается исключительно формальной, его дело – вносить единство в разнообразие, распределяя последнее по родам и видам. Однако это все —лишь естественные источники познания. Над ними – главный и первый источник, Откровение Единого, Истинного и Премудрого, которое, в свою очередь, есть откровение естественное, посредственное и непосредственное, само Слово Божие. Если понимание «естественного» познания, как откровения, вносит известный мистицизм в философию, то, очевидно, «Слово Божье» есть для философии источник принципиально гетерогенный, делу посторонний. Голубинский это выражает, запрещая философии выходить за пределы непосредственного откровения. Но так как сверхъестественное откровение для него несомненнейший источник несомненнейшего познания, то, разумеется, с точки зрения принципиально философской Голубинский должен быть квалифицирован как скептик.
Скептицизм духовной философии был, понятно, односторонен, и потому защита прав философии, как такой, необходимо носила двусмысленный характер. Отсюда колебания, оговорки, неизбежные «с одной стороны» и «с другой стороны». Ближайшим образом этот скептицизм определяется своим прямым направлением на рационализм. Его специфическое определение есть: антирационализм. Отсюда несколько, как может показаться, внезапные симпатии к «опыту». Их источники, однако, легко понять, если иметь в виду, что присущий истинно-религиозному сознанию мистицизм не мог служить убежищем для антирационалиста, потому что мистицизм необходимо допускает такую свободу религиозного переживания и выражения, которую церковно-организован-ное исповедание и более пытливое, чем восточное православие, выносить не могло бы или не должно бы. Требовалась какая-то особая «здравая философия», на задачи которой забрасывались какие-то невразумительные намеки и осуществление которой историк философии едва ли оы сумел разыскать в своих архивах, хотя к имени ее У нас взывали прилежно. Изобретение Якоби было бесценною находкою. «Вера», которая есть не что иное, как разум», с полным сохранением трансцендентности их °оъекта,—что могло быть лучше? Того ясного факта, что
«разум» в неискаженном рационализме издревле не смешивался с рассудком и сам становился источником мистического энтузиазма, не умели разглядеть – по причине коренной и неискоренимой путаницы, в которой вязла духовная философия. Рационализм деистический, исторически иногда соединявшийся с рационализмом философским, но существенно с ним не связанный, отпугивал от себя, как крест – Мефистофеля, робкую и прислужливую духовно-академическую философию нашу1. Не вникая в суть дела, она шарахалась в сторону от философского рационализма, за которым всегда ей чудились деизм или натурализм или открытый даже атеизм. Скептицизм, как антирационализм, был даже не убежищем, а смятенным бегством. Куда, однако? В какое убежище? Теизм и супранатурализм были уже чем-то вроде положительного утверждения, но крайне неопределенного. Якоби только приоткрывал это убежище,– внутри его царили потемки. Где в нем приютиться? Как бы не оказаться у ступеней кафедры протестантского проповедника или не склонить колени перед оконцем католической исповедальни...
Для дальнейших утверждений оставался свободный выход. Мы видели колебания Сидонского и его простодушную апелляцию к внутреннему опыту. Карпов, уже проникавшийся Платоном и уже христианизировавший его, смутно бродил между эпигонами Канта и тем же внутренним опытом. Голубинский выбрал философски и историко-философски, пожалуй, наиболее благородный путь восстановления философского догматизма, помятого критикою Канта, но ободренного изворотом Якоби и своей восстанавливавшейся платонической генеалогией. Другие выбирали иные пути. Значительное обогащение в наши философские построения внесла в этом смысле Киевская духовная академия, оживившаяся после преобразования 1819 года. До начала 30-х годов философское преподавание оставалось здесь на латинском языке и в обязательном вольфианском духе. По почину архим. Иннокентия, ректора академии, с < 18 > 31 года вводится преподавание на русском языке; обязательный (по предписанию Комиссии дух<овных> учил<ищ>
1 Ср. небезызвестные нашим духовным философам того времени книги: Staudlin С. Fr. Geschichte des Rationalismus u. Surepnaturalismus vor-nehmlich in Beziehung auf das Christenthum.—G
1826 г.) и для слушателей, и для профессоров Винклер мало-помалу оттесняется, профессора составляют собственные курсы. Как и в других академиях, они если не ставят своих оригинальных вопросов, то все же ищут более или менее самостоятельных ответов на кардинальный вопрос теистической философии об отношении веры и разумного знания. С < 18 > 19-го года (и по < 18 > 49) профессором философии в Киевской академии состоял воспитанник Петербургской академии протоиерей Иоанн Скворцов, философ малоодаренный и преподаватель, в содержание философских изысканий, видимо, не весьма любивший углубляться. Кроме официально одобренных вольфианцев, он рекомендовал студентам Круга, и, как мы видели, для Карпова, его ученика, это оказалось не без пользы. Круг был кантианцем весьма покладистым, да кроме того профессора сами умели соединять и плохо соединимое. Скворцов, одним выбором Круга уже ставивший себя между Кантом и теизмом, пошел по линии наиболее упрощенного действия. Он – «антирационалист» – невзирая на вольфианские дрожжи – и, по-видимому, больше верил Эшенмайеру, чем Якоби.
Скворцову принадлежит ст. О философии Плотина (ЖМНП.– 1835.—X,—схематическое изложение с резко отрицательным отношением). Статья приписывается Скворцову в Биограф <ическом> Словаре Иконникова. Она не подписана, но датирована: «Киев». В августовской > кн < ижке > журнала за тот же год помещена статья, так же датированная и, нужно думать, также принадлежащая Скворцову,– О философии Эшенмайера, содержащая в общем сочувственное, но до пустоты схематическое изложение взглядов этого философа. Ему же принадлежит ст. Критическое обозрение учения древних об истинном благе человека (ЖМНП.—1848.—III.—см.: Ященко. Указатель...—С. 32). Первою печат-ною работою Скворцова Ив. Малышевский (Т<руды> К<иевской> Д<уховной> А<кадемии>.– 1863.—Авг.—С. 438—9) называет его курсовое сочинение (1817 г.) О составе человека, написанное, по словам Малышевского, в духе тогдашней антропологии и рассматривающее «человека-христианина в цельности его жизни естественной, телесно-душевной и благодатно-духовной». По поводу источников философии
КВоРЦОва Малышевский здесь же (Ив. М. Скворцов, кафедральный протоиерей Киево-Софийского Собора... —С. 454, 453) сообщает, что Скворцов «особенно уважал Лейбница, Канта, также Шеллинга, Фихте и Гегель не нравились ему,–», а по поводу общего его направления, что «в воззрении его философские идеи стремились гармонироваться с началами °ткровения и сближаться с выводами наук естественных, с которыми, Особенно науками физико-математическими, он был очень знаком».
Личе Скворцова, таким образом, мы получаем один из первых образ
цов той безвкусной смеси текстов св. Писания и цитат из популярных естественнонаучных книжек, которая, в целях «гармонирования», до последнего времени пестрила произведения духовноакадемических писателей.
Скворцову удалось открыть способ обращения с философией, удовлетворявший идеальным требованиям духовно-академических программ. Он сделался образцом и авторитетом, которому предоставлено было только следовать и подражать. Может быть, самая тонкая вещь в нем – его уменье «философствовать» без содержания, ограничиваясь лишь формально-логическими сопоставлениями философских формул и положений. Еще яснее, чем в его статьях, печатавшихся в ЖМНП, эта манера проявляется в его незаконченной предсмертной статье-исповеди. И еще лучше она передана в изложении философских взглядов Скворцова, сделанном его учеником Д. П.1 [Поспелов].
Д. П. констатирует, что последний, предсмертный взгляд его учителя на философию не был благосклонен к последней, напротив, «был исполнен недоверия, сомнения...». Автор спешит отвергнуть возможное предположение, и совершенно естественное, что это – только разочарование старости философа, он категорически утверждает, что разочарования не было никакого «потому именно, что и в прежних его воззрениях на эту науку, насколько они нам известны, не было никаких следов очарования ею». Скворцов не был поклонником ни одной философской системы, «его в высшей степени строгий, математически точный, трезвый и последовательный ум не позволял себе ни на минуту увлечься каким-либо выспренним парением гениальной мысли,–если она в основаниях и выводах своих не согласовалась с истиною слова Божия и здравого разума, и любил одну только чистую, простую истину.....».—Едва ли можно найти другой пример
такого уничтожающего, уничижающего, унижающего отношения ученика к учителю! Зато сколько угодно в наших духовных академиях можно найти таких же примеров и учеников и учителей, выдающих уровень и тонкость ума духовно-академической философии.
1 Т<руды> К < невской > Д<уховной> А<кадемии>.– 1863.– Авг.– Последнее сочинение протоиерея Иоанна Mux. Скворцова ( < С. > 512—524) и Два слова по поводу этого сочинения. Д. П. (<С> 500—511)-
Из философских учений, продолжает Д. П., «заметно сильное впечатление» на Скворцова произвели учения картезианской и особенно лейбнице-вольфианской философии. «Но это более или менее полное успокоение его на скрижалях лейбнице-вольфианской философии во всяком разе продолжалось очень недолго и по всей вероятности было неглубоко. Проникший, наконец, и в пределы наших духовных школ холодный свет критической философии скоро заставил его воспрянуть от этого догматического сна...» Однако и к критической философии, как и ко всякой другой, Скворцов относился «критически».
Эту свою характеристику Д. П. оправдывает, далее, изложением учения Скворцова. Мыслящий дух человеческий не есть существо безусловное, его мышление не есть абсолютное и творческое. Истина есть данное, нами воспринимаемое и познаваемое. Первоначальное отношение духа к истине есть отношение восприятия, чувства. «Непосредственное чувство истины есть вера в обширном смысле». Тут —первая форма познания, основа всего умственного развития. Следующая ступень – стремление уразуметь непосредственное содержание веры, возвести веру на степень знания. Из этого стремления возникает наука и философия. Это знание не есть отрицание всего первоначально данного в сознании. «Философ, отвергающий всякую веру, и сам не заслуживает веры. Итак, философия должна основываться окончательно на вере, на признании некоторых положительных в самой разумной природе нашей положенных Богом истин, на непосредственном, так сказать, общем всем людям разуме.....»
Первая обязанность философии – путем анализа разумной природы нашего духа открыть в ней первоначальные основные элементы истины и, очистив их от посторонней примеси, изложить в ясных и точных понятиях. Совокупность этих истин составила бы то, что называется philosophia prima. Но философствующий ум человека не может довольствоваться этими первоначальными истинами» «он стремится к полному и всестороннему познанию Целости всех вещей —к полной, совершеннейшей истине». Это – philosophia secunda.—Под силу ли это челове-ческому уму, «создаст ли [он] одними усилиями своего гения такую систему знания, которая удовлетворяла [бы] врожденному нам стремлению к истине? Вот вопрос, на Кот°рый профессор философии не решался отвечать по
ложительно, или, лучше сказать, отвечал отрицательно». Но это стремление должно быть удовлетворено, душе должен быть дан покой и мир;—«и этот мир и дается ей, но не силою ума человеческого, а силою Духа Божия, и не в философии, а во Христе Иисусе, Источнике всякой истинной Мудрости и разума.–Истинная философия,
как говорили и отцы церкви, есть путеводительница ко Христу, и Христос есть и Путь и Истина и Живот наш. В этом-то посредничестве философии между естественным разумом и христианством и состоит ее истинное значение и достоинство».
Изложение Д. П., в общем, заслуживает доверия, так как согласуется с тем, что нам известно из печатных работ Скворцова,– все они проникнуты тем же скептическим разочарованием, которому не предшествовало искреннего очарования. С теоретической точки зрения может представить несомненный интерес вопрос о том, как связать философский скептицизм, порождаемый богословскою догматикою, с догматизмом вольфианства? Однако ответ на этот вопрос тотчас разочаровывает наше любопытство, лишь только мы подойдем к нему со стороны истории философии. Этот скептицизм просто включается в то пестрое и занимательное разнообразие восприятия, пониманий и интерпретаций кантовской философии, которое, как песком, засыпает пространства, отделяющие друг от друга вершины самого Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля, пока этот песок, в свою очередь, не покрылся разноцветным гравием фихтеанцев, шеллингианцев, гегельянцев. Скворцов интимнее всего себя чувствует с теми стихиями Канта, которые несут с собою именно скептицизм. Догматическая часть самого Канта, его утверждение творческой способности рассудка, просто, без труда, колебания и сожаления, обходится Скворцовым. Зато кантовское убеждение в импотенции разума весьма приветствуется. В недоконченном предсмертном сочинении Скворцов пишет: «Разум философский хочет быть творцом, и творение его едва ли не есть творение из ничего, то есть из одной возможности вывод всего существующего». Это —прямо против вольфианства. И в то же время Скворцов делает вид, что берет у Канта «непоколебимое» основание философии,– к декартовскому «самосознающий дух наш существует» он добавляет «с Кантом»: «существует нечто от вечности». Но как раз в таком положении на один гран Канта приходится, по крайней мере,
ведро Вольфа, потому что здесь та же «возможность», из которой нельзя вывести и зерна «существующего». Скворцов, таким образом, может быть признан «критицистом» лишь cum grano cantus.
В Критическом обозрении Клнтовой Религии в пределах одного разума (ЖМНП.– 1838.– Генв.– С. 44—99) Скворцов яснее показывает, что признается им у Канта и что отвергается. Три важные истины, по его суждению, открыл Кант в философии: 1) что разум наш недостаточен в познании вещей сверхчувственных, 2) что начала нравственности, основанные на понятиях удовольствия и неудовольствия, не нравственны и 3) что человек по природе поврежден или развращен. Приняв эти три отрицания Канта, автор воздвигает еще два —уже против самого Канта: против деизма Кантовой религии, отдаляющей Бога от человека и человека от Бога, и против натурализма, не допускающего ничего сверхъестественного и поклоняющегося одному практическому разуму. «Злонамеренным противником христианства», однако, сей натуралист не был. Он хотел согласить учение Откровения с учением своей философии, но опыт показал, что такой взгляд на религию ненадежен, ибо всякая философская система есть изобретение человеческое, всегда неполное и несовершенное. «К большей славе Откровения усматривается, что все лучшее в Кантовой религии заимствовано из Евангелия, а все худшее принадлежит собственно Кантовой философии». С этим собственно нужно согласиться, и это —более остроумно, чем полагал, вероятно, сам автор, ибо его аргументация против кантовского учения о роли разума в деле веры не столь остроумна и далеко не стоит на философской высоте того «худшего», что принадлежит Канту. Конспектируя трактат Канта, названный в заглавии статьи, автор время от времени прерывает свое занятие замечаниями, в которых философского содержания немного и тенденция которых наивно проста: мнимое совершенство разумного познания и полнота сверхразумного Откровения. Разум не в силах изъяснить того, что сверхразумно, и тут, кроме Откровения, обращаться не к чему – это тавтологически ясно. В самом же Откро-вении Скворцов проблемы уже не видел и видеть не смел. Его восклицания и вопрошания, направленные против слов и выражений Канта, никакой философской иДеей не одушевлены.
7 г– Г. Ц|пст
В изданном в 1869 г. по случаю 50-летнего юбилея академии Сборнике из Лекций бывших профессоров К<иевской> /<уховной> Л<кадемии> помещены Записки по нравственной философии протоиерея Иоанна Скворцова, отличающиеся совершенно притупляющим здравомыслием. У нас и это называют «философией»... Но тогда нужно вычеркнуть из философии имена Платона, Спинозы, Гегеля и под<обные>, а повести ее от Экклезиаста и Соломона премудрого, через семь греческих мудрецов и Цицерона, до Смайльса и нашего отечественного духовного учения о нравственности – с тем, однако, чтобы вынести социологическое обобщение о катастрофическом регрессе в истории философской мысли.– С 1850 г. Скворцов преподавал в университете, по выражению его слушателей, «божественную логику».
В общем, Скворцов, пожалуй, самый консервативный из духовно-академических философов, сознавших необходимость сдвинуться с мертвой точки вольфианской философии и в то же время хотевших сохранить уже установившуюся традицию, которая, надо думать, и разумелась под загадочным именем фигурирующей почти у всех официальных философов «здравой философии».
Приведу следующее, мне кажется, авторитетное заявление в подтверждение своей мысли, что, с одной стороны, в духовных академиях старались не нарушать связи с вольфианством и что, с другой стороны, может быть, под энигматическою «здравою философией» разумели именно привычное вольфианство. «Усвоив простые элементы здравой философии, определившиеся в прежнем догматико-логическом направлении, наука наша обнаруживает стремление к более свободному и самостоятельному философствованию, опирающемуся на более глубоком и многостороннем знакомстве с миром философской мысли». Так характеризовал проф. Малышевский развитие философии в Киевской духовной академии, но, очевидно, это – характеристика общая, тем более, что большинство духовных философов в рассматриваемую эпоху дано было именно этой академией. (Проф. Малышевский Ив. Историческая записка о состоянии академии в минувшее пятидесятилетие. Речь на торж < ественном > акте К < невской > Д<уховной> А<кадемии> в 1859 г. ... – С. 104.) На вольфианскую философию в духовных академиях смотрели как на здравую, 1) потому что уже было налажено согласование ее с догматикою, а 2) потому что к ней привыкли – привычное же, как известно, по логике здравого смысла, и есть здоровое. Отвергать «привычное» значит, по этой же логике, вырывать почву из-под всяческой истины. В обобщающем определении можно было бы сказать: краеугольным камнем здравой философии является положение, что есть истины, которых нельзя отвергать, иначе разрушится всякое знание и всяческая добродетель. Получается та самая здравая философия, которую Гегель высмеивал в лице Круга. Понятно, почему Круг пришелся по вкусу ДУ" ховным академиям, понятно, почему и всякое другое стерилизованное кантианство могло претендовать на место традиционного вольфианства.
Иначе отнесся к проблемам, заключенным в теизме, другой профессор Киевской академии, ее же воспитанник, Петр Семенович Авсенев, впоследствии архимандрит Феофан (род. 1810, преподавал философию с 1836 по 1850, а затем настоятель посольской церкви в Риме, ум. 1852). Неопределенность Якоби могла его так же мало удовлетворить, как и Голубинского. Но в то время как последний укреплялся на твердынях онтологизма, Авсенев ринулся в психологический водоворот «сверхчувственного», с искренним, видимо, сознанием и риска, и упоения риском. Но энтузиастическому профессору скоро было указано русло более гладкое и менее глубокое.
См.: Из Записок по психологии Архимандрита Феофана Авсенева в вы-шецитированном Сборнике. —С какою-то беззастенчивою наивностью редакция («Д. П.» —проф. Д. В. Поспелов) Сборника, перед тем поведавшая историю злоключений Авсенева в его поисках, сообщает, что в ее распоряжении «находится еще несколько статей, довольно значительных (напр < имер >, «о бесновании, магии и волшебстве», о языческих оракулах, символика природы и пр<оч. >), помещение коих в настоящем Сборнике признано, однако ж, неудобным...». Так как по некоторым нелепым причинам (С. 27, прим.) в этом издании выпущены и другие статьи автора, то его вообще нужно признать фальсифицированным источником для изучения воззрений Авсенева. К тому же некоторая часть Записок напечатана по студенческой записи, хотя просмотренной и одобренной к классному употреблению, но, разумеется, не имеющей значения аутентичности. Обо всем этом приходится только сожалеть, потому что сама личность Авсенева привлекает к себе внимание. Его репутация как философа ставилась высоко: «Его имя,—сообщает автор некролога, посвященного Авсеневу (ЖМНП. —1853.—Ч. LXXIL– С. 102),—долгое время во всех учебных округах духовного ведомства, после имени Ф. А. Голубинского, было синонимом философа».
Авсенев, мыслитель ума живого, может быть даже экзальтированного, но неподдельного религиозного чувства и искренних убеждений, не боялся, очевидно, того, что казалось страшным официальному надзору за верою. Авсенева тянуло к себе «сверхъестественное» в его ближайшем соприкосновении с жизнью человека во всех исключительных проявлениях нашей психики, как сомнамбулизм, ясновидение, лунатизм и всякого рода обнаружения «бессознательной» сферы души,– того, что Шуберт удачно назвал ее ночною стороною, Nachtseite. Психологи Шеллинговой школы, как Карус, Бурдах, Шуберт, и в особенности последний, обнаруживали ж::иоГ: и повышен
ный интерес к этим сумеречным состояниям души с их экстравагантными и фантастическими проявлениями. Естественно, что Авсенев нашел для себя в Шуберте излюбленного руководителя. Одно это должно было уже навлечь подозрение на Авсенева. Как истый шеллингианец Шуберт, а за ним и Авсенев, чувствует влечение к установлению таких параллелизмов двух порядков жизни, и в особенности в области указанных явлений, которые, несмотря на всю фантастичность, слишком сближают физическое и духовное, а равно земное и небесное и кажутся потому слишком эмпирическими. Ничего не говорящим, но привычным для христианской философии размышлениям о субстанциальности души, об отражении в ней божественного образа, о духовной испорченности ее и пр<оч. >, и пр<оч.>, всем таким размышлениям простое углубление в «ночную сторону» души, если оно не предваряется предохранительной прививкою какой-нибудь благонадежной гипотезы, грозит и в самом деле нарушением покоя и безмятежности. В наше время мы хорошо уже знаем, что подобного рода психологические экскурсы, сбивающие с толку недоучек, проливают иногда мягкий и теплый свет для людей подлинно религиозного вдохновения на их собственное сознание, а для науки могут служить источником поразительных открытий и разоблачений тайн человеческой души.