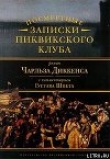Текст книги "Сочинения"
Автор книги: Густав Шпет
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 46 страниц)
С другой стороны, язык, наука, нравы, верования никак не представляют собою «сходств» в психологии индивидов, составляющих народ. Самое большее здесь можно было бы говорить о сходстве переживаний по поводу этих объективных социальных фактов, но 1) тогда наряду с ними нужно было бы поставить не только все другие социальные и этнические факты, но также природные, а равным образом и идей, ибо все эти объекты могут вызывать сходные и несходные переживания как у отдельных индивидов, так и у целых коллективов, а 2) именно об этом Лацарус и Штейнталь не говорят. Если мы сами непредвзято подойдем к отысканию сходств в психологических переживаниях индивидов, составляющих какую-либо естественную группу, то мы должны будем признать, что эти сходства отнюдь не составляют какого-либо особого «духа», а зависят прежде всего от сходств соответственных психофизических и антропологических организаций. Для иллюстрации этой мысли достаточно припомнить опыты классификаций человеческой психики по темпераментам, распределение предрасположений или непредрасположений к известного рода заболеваниям по
Введение в этническую психологию
расовым и антропологическим признакам и под-< обное >.
Наконец, отмечу еще один вопрос, который возникает при анализе понятий, определяющих предмет этнической психологии. Может быть, в конце концов, верно, что «дух» есть sui generis коллективное единство, и тем не менее из этого еще не следует, что он является предметом этнической психологии, так как понятие коллективности само по себе не включается в понятие народа и не тожественно ему. Коллективные соединения людей могут принимать самые разнообразные формы. Сословия, классы, группы, всякого рода «общества», армии, банды, разноплеменные орды, тайные и преступные организации, все это – коллективные единства. И как такие они, в свою очередь, могут составлять содержание особого научного предмета – социологии, социальной психологии, истории. Какие основания выделять этническую психологию, приписывать именно ей фундаментальное значение, а не считать ее частным вопросом, например, социологии или социальной психологии?
Лацарус и Штейнталь рассуждают следующим образом: этническая психология есть продолжение индивидуальной психологии в качестве психологии общественного человека или человеческого общества, так как для всякого индивида именно тот союз, который образует народ,– как нечто исторически всегда данное и отличающееся от всех свободных культурных обществ —и является абсолютно необходимым и в сравнении с ними самым существенным. «С одной стороны, человек никогда не принадлежит только к человеческому роду как общему виду, а с другой стороны, всякий иной общественный союз, в который он еще может входить, дается через посредство народа. Форма совместной жизни человечества есть именно его деление на народы, и развитие человеческого рода связано с различием народов» (I.–
да все же не следует, что это – принципиально необходимая основа всякого общества. Но, принимая эту аргументацию лишь как оправдание термина этническая в определении особого отдела психологии, ее можно признать удовлетворительною.
Новые сомнения являются, только если мы, вспомнив прежние определения, скажем, что народ, будучи предметом этнической психологии, подобно остальному ее содержанию, должен встать рядом с ним также как «результат» народного духа, взаимодействия индивидов, его же составляющих. Это сомнение вовсе не есть софистическая каверза, как может показаться; напротив, оно наводит на некоторые важные соображения, и на нем можно проверить ценность определений самой этнической психологии. Отделаться от него формальным указанием на то, что, мол, «народ» является родовым понятием этнической психологии, нельзя, так как никто не согласится признать, что «видовые» понятия ее, как верования, нравы, язык и пр < оч. >, подходят под такой род, а выходя в изучении этих категорий сразу же за пределы «народа», не дадим ли мы повода к новым сомнениям?
Я остановлюсь на некоторых в высокой степени интересных у Лацаруса и Штейнталя соображениях, воспользуюсь которыми впоследствии. Задавшись вопросом: что такое народ, Лацарус и Штейнталь не удовлетворяются ответом, который исходит из естественнонаучной генеалогии народов, так как, констатируют они, духовное родство и различие не зависит от генеалогии1 (I.–
1 Однако Шурц и теперь определяет: «...психология народов, занимающаяся душевной деятельностью более крупных групп, связанных общностью происхождения» (Народовед < ение > .– 74).
Введение в этническую психологию
ных, то естествоиспытатель распределяет их по видам на основании объективных признаков; о людях мы спрашиваем, к какому народу они себя причисляют. Расу и племя исследователь определяет и для человека объективно; народ определяет себе человек сам субъективно, он причисляет себя к нему» (I.–
V
В 1886 г. Вундт напечатал программную статью под заглавием: О целях и путях этнической психологии1. Статья имела в виду, главным образом, устранить возражения, которые делались Германом Паулем против этнической психологии. В то же время Вундт пытается внести некоторые поправки в определения Лацаруса и Штейнталя. Однако крайний эклектизм, присущий Вундту, и в особенности его исключительная манера полиграфа говорить много, расплывчато и недистинктно, делали на первых порах его разногласия с основателями этнической психологии едва уловимыми. Так, Штейнталь все отличие нового понимания этнической психологии увидел лишь в сужении содержания этой науки2. Он пространно спорит о третьестепенных темах – удваивает ли этническая психология решение научных вопросов, в каком отношении она стоит к истории и под <обное>, – уступает, как мы уже знаем, вторую часть этнической психологии этнологии и не видит оснований к ограничению содержания
1 С незначительными изменениями перепечатана в сборнике статей Вундта: Probleme der Volkerpsychologie.– Lpz., 1911, под заглавием Ziele und Wege der Volkerpsychologie. – S. 1—35. Цитирую по этому изданию. 2 Begriff der Volkerpsychologie.– Z
этнической психологии только вопросами языка, мифов и нравов, как того хочет Вундт. Между тем, как обнаруживается из дальнейших работ Вундта в этой области, его замечания, во-первых, весьма заметно уклоняют этническую психологию от того пути, который ей был намечен «Журналом этнической психологии», а во-вторых, не заметив и не поняв принципиальных затруднений, которые вызывались постановкою вопроса у Лацаруса и Штейнта-ля, Вундт нередко еще больше обостряет эти затруднения и тем самым еще больше обнажает слабые стороны теперешней этнической психологии.
Как и Лацарус со Штейнталем, Вундт исходит из аналогии между этнической психологией и индивидуальной, каковая предпосылка не становится ни умнее, ни прекраснее оттого, что Вундт на место гербартовской интеллек-туалистической психологии ставит вундтовскую волюнтаристическую. Гораздо существеннее для дела, что эта предпосылка обязывает Вундта признать, что логическая роль этнической психологии аналогична физиологии (Z
При неясности понятия «дух» у Лацаруса и Штейнталя этот вопрос оставался без определенного ответа. Вундт избегает термина «дух» и предпочитает говорить о «народной душе», и вот оказывается, что законы этнической психологии у него сводятся к общим законам психологии, т. е., в конце концов, к волюнтаристической психологии Вундта. Лацарус и Штейнталь думали, что в этнической психологии придется говорить о «задержках», «слияниях» и т. п., только в более сложном масштабе; Вундт думает, что в законах ассоциаций, апперцепции и пр<оч. > целиком содержатся законы «народной души». Но при всей неясности в определении основных понятий у Лацаруса и Штейнталя все же у них оставалось несомненным, что собственный предмет этнической психологии так или
Введение в этническую психологию
иначе должен быть предметом sui generis. У Вундта даже эта сторона затушевывается.
«Область психологических исследований,– рассуждает он1,—которая относится к тем психическим процессам, которые вследствие своих условий возникновения и развития связаны с духовными общежитиями (Gemein-schaften), мы обозначаем так этническую психологию». Так как индивид и общество взаимно предполагают друг друга, то это не есть область совершенно отдельная от индивидуальной психологии. Индивидуальная психология рассматривает индивидуальное сознание, не входя ближе в рассмотрение духовной среды, а предполагая ее как нечто само собою разумеющееся; напротив, этническая психология исследует общие явления духовной жизни, которые должны быть объяснены из связи духовного общежития (Gemeinschaft). Поэтому, в сущности, речь идет даже не о разных областях, а о различных сторонах духовной жизни, которые только вместе исчерпывают действительность духовной жизни.
Таким образом, Вундт 1) разделяет и другую предпосылку Лацаруса и Штейнталя – о том, что духовные явления суть психические явления и должны изучаться в психологии, 2) он, вводя весьма темный термин «духовного коммунитета»2 и делая его объектом психологии, только по видимости избегает противоречия, так как и у него не исчезнут затруднения, которые возникают, как только приходится признать, что «дух народа» есть объективный дух и что нет таких форм общественного взаимодействия, которые не были бы объективными3. Результат – тот, что, исходя из предрассудка, будто психология есть основная наука для «наук о духе», и не будучи в состоянии поэтому найти действительные принципы этих наук, Вундт
1 Logik. – B. III.—S. 226. Ср.: Volkerpsychologie... —2. Aufl.—В. I.—S. 1.
2 Термин Gemeinschaft весьма трудно поддается переводу, между тем в немецкой литературе противопоставлению Gemeinschaft и Gesell-schaft иногда придают большое значение (напр<имер>, у Тенниеса). Вундт также настаивает на различении этих терминов: Logik... – III.–
3 О понятии «die geistige Gemeinschaft» у Вундта см. его Logik...-\.– S. 291—296. Ср.: Grundriss der Psychologie...-% 21.
вынужден всякое объяснение «духовных» явлений сводить к индивидуальной психологии. «В особенности этническая психология,—говорит он (Log
Точно так же можно видеть последовательность и в его ограничении содержания этнической психологии. Если этническая психология есть только «продолжение» индивидуальной психологии, то довольно понятным является стремление перенести в это «продолжение» те основные результаты классификации и разделений психических процессов, которые были получены уже в «начале», т. е. в психологии индивидуальной. Приняв проблематическое разделение психических процессов на три группы: представление, чувство и воля, Вундт ограничивает содержание этнической психологии тремя проблемами: язык, мифы, нравы (Z
Volkerpsychologie... – I.– < S. > 4.
Введение в этническую психологию
ческой психологии этими тремя проблемами слишком явно не соответствует ее действительным запросам, но Вундт тем не менее желает отстоять его, давая ему совершенно несогласованные обоснования. Нет надобности входить в рассмотрение аргументации Вундта, тем более, что вопрос решается не ею, а принципиальным анализом понятия, определяющего предмет этнической психологии1.
В целом, у Вундта еще яснее выступает противоречие, отмеченное нами у Лацаруса и Штейнталя: с одной стороны, этническая психология изучает «продукты» взаимодействия или взаимоотношения, т. е. объективно данные «вещи»2, а с другой стороны, этническая психология, будучи наукой объяснительной, в то же время никаких общих психологических законов устанавливать не может, а таковыми законами являются только законы индивидуальной психологии. И это противоречие, обнаруживающееся в основных определениях Вундта, еще ярче сказывается в выполнении им своих задач: большая часть, например, его большого сочинения Volkerpsychologie состоит из лингвистического, исторического и этнографического материала; обобщения – суть применения и иллюстрации общих положений вундтовской психологии; и только незначительная часть – собственно материал этнической психологии3. Еще показательнее его книга Ele
1 Отмечу только, что провозглашенные в Z
2 Дюркгейм, на мой взгляд, совершенно основательно настаивает на том, чтобы социальные факты рассматривались как вещи: «La premiere regie et la plus fondamentale est de considerer les fails sociaux comme des cho-ses». – Les Regies de la Methode sociologique. – P. 20.
3 В пояснение сказанного ограничусь одним примером. Вундт посвящает языку два громадных тома своей Volkerpsychologie, но я решительно сомневаюсь, имел ли право Вундт называть это сочинение «этнической психологией». В нем очень много психофизических гипотез, много критики лингвистических теорий, есть собственные лингвистические теории и, наконец, некоторое количество этнографического и исторического материала, но этнической психологии нет. В первом томе собственно только 4-я и 5-я главы прямо заняты вопросами языка. Остановимся на 4-й, в ней речь идет об изменении звуков (Lautwandel). Наперед
mente der Volkerpsychologie (Lpz., 1912) – за исключением отдельных замечаний, разбросанных по всей книге, всего только два параграфа здесь посвящены собственно этнической психологии (Гл. I, 6 и 9); затем можно отыскать только некоторые «следы» общей психологии – но, разумеется, никаких «законов» —и все остальное содер
ясно, что этнической психологии здесь нечего делать. Как же поступает Вундт? Он ищет объяснений, и так как мало вероятности, чтобы такое сложное явление могло объясняться одной причиной, он рассчитывает объяснить его из «компликации причин» (I.–
Введение в этническую психологию
жание книги – чистая этнология. С таким же правом можно любой компендий этнологии или истории культуры озаглавить: этническая психология. И, напр<имер>, Лампрехт, действительно,– быть может, не без влияния Вундта – называл историю «прикладною психологией». Но даже Крюгер, приверженец Вундта, отказывается от понимания этнической психологии как простого «применения» общей психологии к интерпретации этнологических фактов1.
VI
Чтобы яснее представить себе, в чем, собственно, Вундт «оригинален» по сравнению с Лацарусом – Штейн-талем, необходимо остановиться на некоторых понятиях, введенных им отчасти в замену, отчасти в разъяснение понятий, легших в основу определения предмета этнической психологии у ее основоположников. Такими понятиями у Вундта являются, главным образом, понятия «народной души» и «духовного коммунитета».
Для Лацаруса и Штейнталя, как мы знаем, дух есть обидное произведение человеческого общества, а так как предполагается, что взаимодействие должно быть психологическим, то и продукты его считаются объектом психологии. Основная ошибка здесь именно в таком предположении. Во-первых, взаимодействие, о котором идет речь, имеет предмет приложения взаимного действия; как бы поэтому на нем ни отражалась психология «действующих», непонятно, как он сам превращается в объект психологии. Во-вторых, вся «материальная» культура есть предмет такого взаимодействия, и непонятно, где здесь кончается этнология и где начинается этническая психология, где «история» и где «психология»? Именно этих-то затруднений Вундт и не видит. Поэтому он почти полностью воспроизводит формулы Лацаруса и Штейнталя, и ему кажется, что недостатки, найденные у них критикой, проистекают из их общепсихологической позиции. В этом смысле он их и исправляет: на место гербартов-ской психологии вводит вундтовскую, чем, во-первых, нисколько не укрепляется положение этнической психологии, а во-вторых, в нее вводятся все недостатки вундтов-ской психологии.
1 Kriiger F. Uber Entwicklungspsychologie.– Lpz., 1915.– S. 157.
Г. Т. Ulnem
«Задача этнической психологии,– говорит Вундт',– дана нам во всех духовных порождениях (die geistige Ег-zeugnisse), возникающих из коммунитета человеческой жизни и не объяснимых только из свойств единичного сознания, так как они предполагают взаимодействие многих». Эту формулу признали бы и основатели этнической психологии, и Вундту поэтому можно возразить то же, что им: язык, миф, как и свайные постройки и Эйфелева башня, как автомобиль и кремневый топор, как то, что отношение окружности к диаметру =тт, и то, что земля и солнце движутся друг по отношению к другу, и многое другое – «необъяснимы только из свойств единичного сознания», потому что из последних вообще можно объяснять только явления этого сознания. Что изменится в объективных вещах и отношениях от «взаимодействия многих», если у них будет только сознание, но не будет рук, глаз, носоглотки, гортани, голосовых связок и т. д., и т. д.—предполагая при этом полное изобилие каменных пород, леса, металлов, органических веществ и пр<оч. > и предполагая во всем этом постоянные системы своих взаимоотношений и порядков? Придется, пожалуй, ждать, пока из самого сознания не вырастут руки, глотки и пр<оч.>... Не вернее ли допустить, что из «взаимодействия многих» объяснимы также только явления этого взаимодействия? Без сомнения, эти явления есть предмет sui generis, и он требует своей науки, но не видно, почему оы это была этническая психология. Чтобы ответить на это «почему», нужно показать, что названное взаимбдействие есть психическое, но так как непосредственное психическое взаимодействие в науке отрицается, то volens-nolens приходится обратиться к законам индивидуальной психологии. Такой путь для определения предмета этнической психологии есть путь в корне ложный, ложно само направление этого пути исследования. Вундту же кажется, что направление взято правильно, а нужно только подправить, отремонтировать дорогу. Но на деле даже к этой работе Вундт приступает с негодными средствами и плохим материалом.
1 Elementе der Volkerpsychologie,.. – S. 3; Ср.: Volkerpsychologie... —I.–
Введение в этническую психологию
Лацарус и Штейнталь под многими во «взаимодействии многих» понимали все-таки живых человеков, из коих у каждого была душа, т. е. это были до известной степени замкнутые в себе единицы действия, совокупное обнаружение которого в обществе называлось духом. Вундт производит следующий «ремонт»: душа у него —не источник, приводящий в жизнь «механику представлений», а совокупность волевых и волеподобных актов, каковую совокупность только условно уже можно называть душою; но то же условие, очевидно, позволяет называть душою и другие совокупности таких актов, в том числе совокупности, продуктом взаимодействия которых являются язык, мифы, нравы, следовательно, это условие позволяет говорить только о душе народа, а не о его «духе»; зато само «общество» перестает быть обществом живых, одушевленных тварей и становится духовным коммунитетом. О том же, что у живых членов живого общества могут быть свои личные переживания – в разные эпохи и в разном месте разные – по поводу как своего живого взаимодействия, так и по поводу своего воздействия на окружающую их природную обстановку, да и по поводу самой природы и ее явлений, и о том, что эти переживания как такие не изучаются индивидуальной или «общей» психологией,– об этом обо всем Вундт позабыл. Так мне представляется «исправление», предпринятое Вундтом в определении предмета этнической психологии, и поэтому-то я и считаю, что не шаг вперед он делает по сравнению с Лацарусом и Штейнталем, а скорее – шаг назад.
Вундт снисходительно относит, «конечно, простительный недостаток» «первого опыта» в области этнической психологии на «основные воззрения психологии Гербарта с ее односторонним индивидуализмом и интеллектуализмом, которые были связаны с метафизическим понятием простой души и с гипотезой механики представлений»1. Как бы ни уклонялись в частностях от Гербарта его последователи, в принципе всегда, по мнению Вундта, отношение между индивидуальной и этнической психологией оставалось отношением обосновывающей науки к ее применениям. Этнические психологи, далее, могли сколько угодно подчеркивать своеобразную природу «народного духа» и указывать на то, что он не есть простая сумма ин-
1 Volkerpsychologie. -1. – < S. > 23—24.
дивидуальных свойств, они не могли устранить принципиальных возражений. Индивидуалистическое направление психологии Гербарта сказывается в том, что «дух» мыслится по аналогии с отдельной душою: представлениям психологической «механики» в нем соответствуют индивидуальные сознания – вся разница только в том, что последние суть более сложные единства1.
Как же восстанавливается уничтоженная таким образом этническая психология? В чем здесь может помочь актуалистическая «динамика» души и обозначение «народного духа» через «народную душу»? В статье О целях и путях этнической психологии введение понятия «народной души» у Вундта носит совершенно невинный характер, и он, определяя ее вполне в духе Лацаруса и Штейнталя, защищает только это понятие против сомнений Пауля2. В дальнейшем, однако, оказывается, в этой замене скрыто большое коварство. Понятие души, утверждает Вундт, может иметь только эмпирическое значение связи непосредственных фактов сознания, «психических процессов». «Естественно, и этническая психология может пользоваться понятием души только в этом эмпирическом смысле; и ясно, что в нем «народная душа» с таким же правом обладает реальным значением, с каким индивидуальная душа претендует на это значение для себя. Духовные продукты, возникающие благодаря совместной жизни членов народного коммунитета, столь же фактические составные части действительности, как и психические процессы внутри единичного сознания... Таким образом, народная душа есть произведение единичных душ, из которых она состоит; последние же в не меньшей степени суть произведения народной души, в которой они участвуют»3.