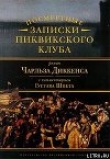Текст книги "Сочинения"
Автор книги: Густав Шпет
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 46 страниц)
Понять это можно так: мы имеем дело в индивидуальной психологии с единствами психических процессов, которые и называем душами; в этих единствах мы можем различать преимущественные направления или комбина-
1 Ibid. – S. 25. Ср. статью Вундта Der Einzelne und Volksgemeinschaft (Рго-bleme der Volkerpsychologie...—S. 57—58).
2 Z
3 Volkerpsychologie...-I.– 9—10.
Введение в этническую психологию
ции психических процессов, позволяющие нам их классифицировать,—например, процессы воли, чувств, представлений; затем всю «массу» психических процессов, стоящих перед нами в индивидуализованных единствах, мы можем также представить как единство, которое называем душою народа, различая теперь в нем направления и комбинации, классифицирующие эти процессы в группы,—язык, мифы, нравы. Отсюда нетрудно понять, что каждый психический процесс, относящийся к этнической психологии, совершается в индивидуальной душе, а кроме того есть индивидуальные «остатки» – которые всецело принадлежат только индивидуальным душам,—объединяемые по принципу последних как единств; они составляют предмет только индивидуальной психологии. С другой стороны, есть такие единства, которые определяются лишь при рассмотрении совместного и взаимного действия индивидуальных единств, и которых развитие может рассматриваться само по себе, как некоторая непрерывность, несмотря на то, что индивидуальные единства одно за другим вовсе исчезают (V
Если этим сколько-нибудь преодолевается «интеллектуализм и индивидуализм» гербартовской психологии, то зато совершенно затемняется различие единичного и множественного, т. е. затемняется основное для Лацаруса и Штейнталя понятие коллективного. Отсюда понятно и то утверждение Вундта, которое, на первый взгляд, может показаться парадоксальным: между индивидом и совокупностью– нет резкой грани! «Вследствие постоянных взаимодействий между индивидами и совокупностью – неизбежно, что границы между тем, что относится к целому, и тем, что составляет собственность индивида, отнюдь не могут быть резко проведены. Можно даже сказать: взаимное слияние обеих областей до такой степени лежит в природе предмета, что было бы ошибочно, если бы его хотели устранить искусственными различениями понятий в этой переходной области» (Ibid.). Предмет этнической психологии этим, однако, не спасен, так как все-таки остается неясным, как может психология изучать лук
бен якута или halala! зулуса, когда все это —не психиче
и стрелы таитянина, ожерелья
ские процессы... Вундт достиг только того, что неясное значение «коллективного» у Лацаруса и Штейнталя сделал еще более темным. Мы видели, что общное коллективного народного духа у Лацаруса и Штейнталя означало также общее членам народа и что поэтому именно этническая психология имеет право на свое наименование. Этот оттенок понятия коллективного остается и у Вундта, но он станет нам яснее, если мы воспроизведем еще его понятие «духовного коммунитета».
VII
Вундт различает два направления, по которым переживания единичного сознания выходят за пределы собственной причинности: естественную среду и духовную1. Отношение индивида к последней есть его отношение к «духовному коммунитету». Материалистическая и интеллек-туалистическая психология, по убеждению Вундта, разрешить проблемы этого отношения не могут. В другом положении находится психология волюнтаристическая. Точно так же и гипотеза субстанции тут бессильна, а только гипотеза актуальности разрешает проблему {Logik.– III.–
1 Logik.-111.– 291; ср. ibid.–
Введение в этническую психологию
Носитель такого «духовного коммунитета» с «тем же правом, что и психический индивид, может быть назван духовным организмом». Всякое фундаментальное жизнепро-явление такого совокупного организма, в свою очередь, есть органическая связь составных частей его. «Таким образом, жизненная область языка, искусства, мифа, нравов образует духовные организации, которые содержатся в более обширном органическом единстве народного коммунитета» (Ibid.–
Я не могу, разумеется, входить в рассмотрение вунд-товской волюнтаристической мифологии, а если ее оставить в стороне, то – что же он внес нового на место осужденной им у гербартианцев аналогии между механизмом представлений в индивиде и взаимодействием индивидов? – Опять-таки общность, воли на место общности представлений в коллективном духе. Но как же себе представлять эту общность, и притом так, чтобы здесь не было гипостазирования воли, а только эмпирические данные?..
Есть два признака, которые позволяют различить в совокупной жизни индивидуальных и общных духовных движений определенные факты как факты родовой (gene-reller) и как факты индивидуальной природы: 1) вмешательство отдельных лиц, индивидов (Einzelner), 2) область произвольных действий с сознательными мотивами. И то и другое лежит вне процессов этнопсихологических. «Для последних, напротив, сохраняет превалирующее значение область импульсивных волевых действий (die triebartigen Willenshandlungen)» (V< olkerpsychologie. > – I.– < S. > 12). Замечательно, что, исходя из этого разделения, Вундт проводит различие между «первобытным» (Naturvolk) и «культурным народом», тогда как для непредвзятого человека ясно, что последнее разделение может быть получено только путем обобщения чисто эмпирического материала, а предпосылки волюнтаристической метафизики так же мало могут решить вопрос, как и предпосылки любой иной метафизики. Но даже не на это сейчас я хотел бы обратить внимание, равно и не на то, что определение области этнической психологии как области импульсивных волевых действий нисколько не соответствует содержа
нию этой науки1,—хотя бы даже мы приняли исключение из ее содержания «науки» и «высших форм» коллективной жизни и ограничились только языком, мифом и нравами. Не в этом сейчас дело, тем более, что здесь Вундт уже получил ответ (в особенности со стороны Дельбрюка, что касается языка). Нас интересует только вопрос о характере «общности», на которую направляется, как на свой предмет, этническая психология. Неужели только в импульсивных актах и есть «общное» у единиц, составляющих «народную душу» или «духовный коммуни-тет»? Почему же этническая психология была названа у Вундта «продолжением и расширением» индивидуальной психологии? Не правильнее ли тогда было бы называть соответствующую науку не этнической психологией, а зоологической психологией?.. Но допустим, что дело так и обстоит, как учит нас волюнтарист Вундт, снисходительно простивший интеллектуалистический недостаток Лацаруса—Штейнталя. Как мы приходим к этому общему? Как и у основателей этнической психологии, ответ на этот вопрос в сущности предрешен признанием, что этническая психология есть объяснительная наука. Только теперь Вундт указывает и то «начало», из которого должно исходить в ее объяснениях. Едва ли при таких условиях нужно было так много рассуждений со стороны Вундта, чтобы убедить читателя, что все эти объяснения сводятся к самым элементарным индивидуально-психологическим обобщениям. Предмет этнической психологии растаял в разъяснениях Вундта.
Какое же основание имеет Вундт называть эту объяснительную науку, сводящуюся к законам импульсивных волевых действий, этнической психологией?
В статье о целях и путях этнической психологии Вундт мотивировал право на это название тем, что народ является «важнейшей» формой духовного общежития (
1 Из этого разделения волевых актов тем не менее исходит Фир-кандт в своей в других отношениях очень интересной книге: VierkandtА. Naturvolker und Kulturvolker.– Lpz, 1896. Шпанн, напротив, совершенно справедливо указывает, что это разделение как критерий социально-психологического неприемлемо, так как Вундт должен был бы, согласно своим определениям, отнести к области этнической психологии, между прочим, также хозяйство и семью. См.: Spann О. Wirtschaft und Gesell-schaft.—S. 114. Впрочем, сам Шпанн уделяет этнической психологии весьма скромное место (ср. его книгу Kurzgefates System der Gesellschaftsleh-re.-B., 1914).
Введение в этническую психологию
«несовершенным», так как осмысленнее было бы, по его мнению, противополагать индивидуальной психологии социальную (I.
В целом, я считаю, что вундтовские определения этнической психологии сами не возвышаются над уровнем «импульсивных» актов, и, имея в виду приведенное выше предсказание русского ученого (проф. Д. Кудрявского), согласен, что такая этническая психология недолговечна.
VIII
Как я уже мимоходом отмечал, язык, мифы, нравы, наука, учреждения и пр<оч.>, как вообще всякое «взаимодействие», поскольку оно есть не только акт, но и «результат» – действие как последствие деятельности,—поскольку оно, значит, есть социальный факт, есть не что иное, как «вещь». «Вещь» по существу не есть психологический процесс, и как такая она изучается и в некоторых «общих» науках – социологии, истории, этнологии,– и в специальных – о группах, областях или сферах известных «видов» этой вещи. Таким образом, у нас получаются специальные науки: языкознание, наука о религиях, история наук, история учреждений и различные «учения» о праве ит. п.; соответственно образуются и группы философских проблем: философия языка, религии, права и пр < оч. >. Среди названных специальных наук наибольшего развития в настоящее время достигла лингвистика, выступающая под разными названиями: наука о языке, языковедение, сравнительное языковедение, психология языка, история языка; иногда психология языка ставится рядом с историей языка, как две части одной науки, иногда у одной из этих частей вовсе отрицается право на существование. Как бы ни решались эти вопросы в интересах языковедения, вызываемые ими споры существенно интересны для психологии, поскольку в них уясняется ее роль в решении лингвистических проблем. К высказывающимся здесь суждениям психология должна прислушиваться с особенной чуткостью, так как вопрос о ее роли здесь решается обыкновенно на основании специальной работы над конкретным материалом науки. Как бы для психологии, в ее собственных интересах, ни казался ценен этот материал, из этого нельзя сделать вывода, что и сама психология нужна для этих работ. В подобного рода решениях психолог может встретить немало дилетантства и «психологической» наивности, но при серьезном отношении к науке и из уважения к научной работе другой специальности он обязан за приблизительными и, с его точки зрения, неточными выражениями услышать голос живых потребностей конкретной науки. Вполне понятно, что суждения специалистов-лингвистов о значении для них психологии и этнической психологии должны быть приняты во внимание со всем возможным беспристрастием, так как за их иногда случайными, иногда, может
Введение в этническую психологию
быть, и неудачными формулировками скрываются действительно принципиальные недоумения. Критиковать психологические теории и аргументы лингвистов, указывать на их научную «отсталость» – дело для психолога нетрудное, но это —не тот путь, каким можно достигнуть научного взаимодействия и взаимной помощи в решении научных вопросов. Разумеется, психолог – вправе ожидать такого же отношения к себе и со стороны лингвиста. К сожалению, в действительности редко осуществляются эти хорошие пожелания; и те затруднения, которые были замечены некоторыми лингвистами, когда им была предложена помощь этнической психологии, не встретили должного внимания.
Поэтому возражения, которые были сделаны Лацару-су—Штейнталю со стороны Пауля, до сих пор остались неопровергнутыми и не потеряли своего значения. Вундт, как легко понять из вышеизложенного, и по существу не был в состоянии их устранить, и свою полемику против Пауля повел в направлении, которое самому делу мало служило. Его нападки на гербартианство Пауля только показывают, что он не понял или не хотел понять смысла его возражений1. Вундтовские «исправления» в определении этнической психологии, как мы видели, ничего не исправляли, а положительные результаты исследований Вундта дали повод к новой полемике2, и если бы работы Вундта можно было признать действительным образцом этнопсихологического исследования, то после критики Дельбрюка, и в особенности после принципиальной критики Антона Марти, этническая психология была бы совершенно скомпрометирована. Правда, среди лингвистов нашлись защитники Вундта, как, например, О. Диттрих, но именно от него, как я еще покажу, вышел – или, во всяком случае, им был поддержан и развит —самый
1 Штейнталь и Мистели в своих репликах Паулю также, на мой взгляд, не уловили принципиального смысла возражений Пауля (Ste'tn-A&*/-Z
2 Любопытно, напр<имер>, след<ующее> заявление автора психологической лингвистики: «J'ai appris bien des choses dans l'ouvrage de Wundt, mais je n'hesite cependant pas a souscrire le jugement de Hales (Mind.—Tome XII.– 1903.—P. 239): There is far too much theory and too little fact to please us. The facts are quoted merely as illustrations of theories, not as proofs of them. C'est pourquoi j'estime qu'il est de toute necessite de faire de nouveau une revue universelle des faits et de rechercher поп pas ce que ces raits iilustrent. mais ce qu'ils prouvent» {Ginneken van. Principes de Linguiti-que psychologique. —1907).
lT Г Г. Шпет
513
убийственный аргумент против этнической психологии в понимании Вундта. Не следует преуменьшать значение аргументов, исходящих от лингвистов, на том основании, будто они являются только частными, касаются только одной частной проблемы этнической психологии, так как, по свойству проблем языковедения, его постановки вопроса приобретают для этнической психологии совершенно всеобщий характер. Чтобы не входить в частности и не слишком отступать от основной темы настоящей статьи, выскажу только следующие общие соображения.
Как бы мы ни определяли собственный предмет этнической психологии, ясно, что сфера этого предмета не есть ни область непосредственного наблюдения при помощи органов чувств, ни область самонаблюдения, ни, наконец, область идеальных конструкций. Сфера этнической психологии априорно намечается как сфера доступного нам через понимание некоторой системы знаков, следовательно, ее предмет постигается только путем расшифровки и интерпретации этих знаков. Что эти знаки являются не только приметами вещей, но и сообщениями о них, видно из того, что бытие соответственных вещей не ограничивается чистым явлением знаков. Другими словами, мы имеем дело со знаками, которые служат не только указаниями на вещи, но выражают также некоторое значение. Показать, в чем состоит это значение, и есть не что иное, как раскрыть соответствующий предмет с его содержанием, т. е. в нашем случае это есть путь уже к точному фиксированию предмета этнической психологии. Спор возникает не только из-за точности этого определения, но еще прежде требует разрешения принципиальный вопрос о том, что вообще выступает как значение, поскольку мы выделяем знаки и выражения в специфическую область источников познания. Таким образом, это предварительное и априорное указание сферы предмета этнической психологии не только ничего не говорит о его характере, но даже не предрешает вопрос о его существовании именно как психологического предмета. Значение может оказаться не только психологическим, но, например, также или только историческим, или тем и другим, но при разных отправных пунктах интерпретации.
Под эти общие определения, как легко видеть, подходят все области содержания, какие намечались для этнической психологии как Вундтом, так и Лацарусом– Штейнталем, т. е. не только язык, миф, нравы, но
Введение в этническую психологию
и науки, искусство, религия, профессии и мн. др.1 Сопоставляя эти различные области содержания или «отделы» этнической психологии в свете только что высказанных соображений и сравнивая их с языком как предметом языкознания, нетрудно видеть, что язык до известной – и притом глубокой – степени является естественным и наиболее близким для нас прототипом и репрезентантом всякого выражения, прикрывающего собою значение. В этом своем семантическом качестве язык и является таким объектом, принципиальное обсуждение которого a potiori имеет силу для других форм и видов выражения. За это говорит не только тенденция многих современных лингвистов видеть в семасиологии центральную и, может быть, основную задачу языкознания, но и простое указание на ее содержание, где за исключением собственно только фонетики, действительно и прямо связанной с явлениями психофизического характера, доступными нам путем прямого наблюдения и самонаблюдения, а не путем интерпретации, все остальное содержание или прямо входит в состав семасиологии, или тесно связано с последней2. Настоящие разногласия начинаются только
1 Ср. напр<имер>, такое определение мифа у Потебни: «Миф есть словесное выражение такого объяснения (апперцепции), при котором объясняющему образу, имеющему только субъективное значение, приписывается объективность, действительное бытие в объясняемом». (Из черновых заметок А. А. Потебни о мифе. – Вопросы теории и психологии творчества.—Хар < ьков>, 1914.—С. 503).
2 Сколько к языкознанию в полном смысле относится также грамматика, приведенные рассуждения не теряют своей силы. Так, по отношению к морфологии возможно только разногласие по вопросу о том, все ли формы слов и их части являются категорематическими или синкате-горематическими выражениями (или лучше: семантиками или синсе-мантиками, по терминологии Марти), но, мне кажется, нельзя спорить, что все они являются знаками, а только это для нас здесь существенно. Что касается синтаксиса, то он прямо имеет дело со значениями, либо с их формами, которые, в свою очередь, суть знаки отношений (по поводу такого определения синтаксиса см. интересную работу: Blumel R. Einfuh-rung in die Syntax. – Heidelberg, 1914; «Синтаксис, – говорит он, – изучает 1) известные значения, 2)формы, которые связаны с этими значениями. При этом он должен косвенно или непосредственно иметь дело с предложениями»). Ср. также общее положение Марти, к которому я здесь примыкаю: «Не подлежит спору, что познания теоретической философии языка в своей преимущественной и важнейшей части суть познания семасиологической природы и вполне могут носить имя «всеобщей семасиологии». Ведь семасиологическими являются в основе все рассмотрения о свойстве и генезисе средств языка как таких» (Marty A. Untersuc-hungen zur Crundlegung der allgemeinen Grammatik und Sprachphilo-sophie.-Halle a. S., 1908.-В. I.—S. 51; ср.: Funke 0. Innere Sprachform. Eine Einfiihrung in A. Martys Sprachphilosophie.– 1924.—S. 19—26).
с того момента, когда мы пытаемся дать общий ответ на вопрос, что такое значение, но дать ответ на такой общий вопрос призваны одинаково мало и лингвист и психолог, так как это уже —вопрос принципиально-философский.
Итак, в указанных пределах и принимая во внимание намеченное исключительное значение языка и науки о нем, замечания Пауля, направленные против этнической психологии, приобретают для нас особый интерес.
IX
Пауль совершенно основательно уклоняется от спора о преимуществах гербартианской или вундтовской психологии, так как его аргументы против этнической психологии, действительно, не зависят от метафизических или готовых психологических предпосылок. Он исходит из эмпирического констатирования взаимодействия всюду, где мы встречаемся с фактами или явлениями культурной и общественной жизни. Некоторая основная наука, которую он называет учением о принципах (Prinzipienlehre), имеет задачей всестороннее выяснение вопроса о взаимодействии индивидов, о факторах культуры и об отношении индивида в совокупности (S. 7)1.
Главный упрек, который Пауль делает Вундту, состоит в том, что этот центральный вопрос: как совершается взаимодействие индивидов, для Вундта вовсе не составляет проблемы (S. V). С этим связано ложное мнение Вундта, будто психология изучает «результаты» или «продукты», тогда как она может изучать только единичные процессы. Для себя психология может изучать язык, но для этого она не нуждается в истории языка, а опирается на непосредственное наблюдение. Для уразумения развития языка психология – неизбежное вспомогательное средство, но история языка не может вознаградить ее за эту службу. Тем более не может психология извлечь пользу из рассмотрения таких состояний языка, о доисторической стадии которых мы не имеем источников, хотя именно они с особенною любовью привлекаются Вундтом. В целом Пауль констатирует у себя впечатление, что Вундт с готовыми психологическими воззрениями приступил к рассмотрению языка. Нельзя не признать существенной правоты этих замечаний, и они, как увидим, in nuce со
Paul Н. Prinzipien des Sprachgeschichte.—4. Aufl– Lpz., 1909.
Введение в этническую психологию
держат все возражения Пауля против этнической психологии, хотя, разумеется, нельзя допустить, чтобы судьба этнической психологии определялась неудачами Вундта в выполнении задач этой науки.
Упрек в отсутствии проблемы взаимодействия индивидов и отношения индивида к обществу нельзя уже направлять по адресу Лацаруса и Штейнталя. В своем ответе Паулю Штейнталь (Z < eitschrift... > – XII.–
норировать, а нужно всегда иметь в виду, если хотят правильно судить об отношениях, которые исторически возникли благодаря взаимодействию индивидов» (S. 14, Anm.; Разрядка моя.) Должно быть, след < овательно >, ясно, что если это взаимодействие не может быть чисто психическим, то оно точно так же не может быть физическим, и тот вид причинной связи, иметь в виду который призывает Пауль, есть нечто новое, sui generis, что и должно быть определено в новых, ему присущих признаках. Если это – не чисто психические процессы, изучаемые нами путем самонаблюдения, и не вещи физического опыта, то, опять-таки, и метод их изучения должен быть самостоятельным новым методом. Поэтому-то вывод Пауля и не верен: если здесь нет места для этнический психологии, то точно так же его нет и для индивидуальной психологии.
Положительное учение Пауля о взаимодействии вследствие этого также в корне неверно. Его обращение здесь к помощи теории ассоциации идей, с точки зрения современной психологии, должно быть оставлено без внимания, именно как дилетантская попытка разрешения вопроса. Между тем под ее влиянием, к сожалению, Пауль впадает в психологизм там, где, по-видимому, хочет от него освободиться. «Само содержание представления,– говорит он,– следовательно, не переносимо. Все, что мы знаем, по нашему мнению, о содержании представления другого индивида, покоится только на выводах из нашего собственного содержания» (S. 15). Откуда же Паулю известно, что «только на выводах»? Едва ли этому могла его научить «история языка», а для психологии это – далеко не бесспорная истина. Между тем его утверждение, что содержание представлений не переносимо из одного индивида в другой, имеет большой принципиальный смысл. Не для одного Пауля оно затемняется «собственническими» теориями сознания1: содержание представления, как предмет восприятия, действительно, «не переносимо» из одного индивида в другой, но, прежде всего, потому, что оно ни в каком индивиде и не находится, оно —ни «мое», ни «его», оно – ничье, оно – трансцендентно. Индивиды – не сосуды, сообщающиеся между собою, но и действительность—природы ли или культуры – не жидкость, разлитая по сосудам...
1 См. мою статью Сознание и его собственник в юбилейном сборнике, посвященном проф. Г. И. Челпанову.
Введение в этническую психологию
Из этого уже достаточно виден и истинный смысл возражений Пауля, не устраненных до сих пор, и собственные промахи Пауля. Интереснее первое, и на некоторых сторонах его стоит еще остановиться. Пауль счастливо избегает влияния гипноза, под которым пребывает еще немало философов и людей науки, будто все науки удобно делятся на две группы: наук о природе и наук о духе. Для него поэтому ясно, что психология, а следовательно, и этническая психология не может быть основной наукой для наук о духе: последней приходится иметь слишком много дела с непсихологическим. Пауль различает, в общем, четыре категории влияний, которые испытывает индивид со стороны общества, и оказывается, что на долю психологических влияний здесь остается меньше всего. Индивид 1) получает от общества некоторые комплексы представлений, к которым один он пришел бы значительно медленнее или к которым он вовсе не пришел бы, 2) он научается у него известным целесообразным движениям,—здесь физиологическим факторам еще содействуют психологические, 3) он получает от него обработанные с помощью рук человеческих предметы природы (орудия, капиталы), которые передаются от индивида к индивиду и от поколения к поколению, так что они являются предметом общего участия различных индивидов, 4) он оказывает физическое принуждение на другого индивида и, в свою очередь, испытывает таковое (S. 8). Обращаю внимание на две последних категории: они прямо указывают на то, что здесь приходится иметь дело, действительно, с «непсихологическим», но и с «нефизическим», что здесь налицо – предмет нового порядка. Назовем его вместе с Паулем историческим – как предмет научного внимания, историческое прямо встает как нечто третье, рядом с предметами наук о физическом мире и психологии. Но как такое историческое не может быть предметом этнической психологии точно так же, как оно не может быть предметом индивидуальной психологии.