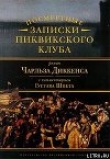Текст книги "Сочинения"
Автор книги: Густав Шпет
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 46 страниц)
поэтика требовала бы на место этих формалистических определений и эмпиристических разделений умозрительного анализа самой идеи «словесности» и конструкции или «развития» содержания этой идеи1. Лишь в Предисловии к книге и двух главах, открывающих как бы в форме введения второй и третий тома сочинения, автор намечает некоторые свои общие точки зрения. Во Введении ко всему курсу он противопоставляет историю словесности как действительное в мире словесного искусства философии словесности как изложению возможности творческих словесных произведений при известных условиях изящного. Согласно этому, цель философии словесности – открыть законы мысли в слове и через это застигнуть дух в самом творчестве. Это есть определение, основанное на противопоставлении постижения и творчества, науки и искусства,—противопоставлении, которое мы уже встречали у того же Давыдова и у Павлова, и хотя оно изложено теперь многословнее, но не глубже и не шире. Кое-где можно было бы также отметить отражение мыслей, заявленных в русской литературе,—Галича, Кронеберга. Встречающиеся в книге ссылки на немецкие авторитеты, в том числе, напр < имер >, на Золгера и Гегеля, не убеждают в том, что Давыдов изучал их и пользовался ими2. Самое его старание соединить всех в одно доказывает, что он плохо понимал современное ему эстетическое развитие, вся жизнь которого состояла именно в борьбе. Слабее всего он в попытке определить «идею изящного» (Чт<ения о словесности.—М., 1837—1838.> – Курс II.– Чт<ение> 16). Здесь он начинает как будто с Шеллинга и передает его точнее, чем в упомянутом противопоставлении, потому что теперь он противопоставляет «мысль» и «действие», а «изящное» выступает как третье их высшее
1 Сказанное не относится к Курсу IV (Поэзия драматическая), само-МУ ценному и интересному, так как он в значительной своей части есть ВОспроизведение Лекций Шлегеля.
2 Некоторый весьма упрощенный отголосок Золгера я еще готов признать, но все-таки сомневаюсь, чтобы Давыдов Золгера изучал. При сеи своей одаренности и разносторонности он не мог бы понять ни НилгеРа» ни Гегеля. И от обратного: если бы он затратил столько време-
' сколько нужно было для одоления их, он не преминул бы кричать и nMf+fTb ° этом– Вернее, он знал о них только по немецким рецензиям еш 1>атам' Один из таковых он перевел в «В<естнике> Е<вропы>» зии В Г' (июль)– Наиболее специфические мысли Эрвина – о фанта-и т' Значении религии, роли иронии, универсального значения «поэзии» вовсе не замечены и не оценены Давыдовым.
противопоставление. Но сейчас же следующее рассуждение о «вкусе» и «гении» подозрительно напоминает Батте, и лишь дальше становится ясно, что оно —от Канта1. «Бескорыстное удовольствие» прямо указывает на Канта, а еще дальше следующее утверждение о превосходстве изящного в искусстве над изящным в вещественной природе может быть отнесено, если угодно, и к Золгеру, и к Гегелю. Наоборот, противопоставление классической и романтической поэзии в III Курсе уклоняется от обоих и как будто идет в сторону Аста и Бахмана, а может быть, и Шлегелей. Изящное как выражение беспредельного духа в конечной форме возвращает нас к Шеллингу, но также воспроизводит и Аста, тем более что следующее затем различение высокого, прекрасного и прелестного как гармонии элементов прекрасного, идеи и формы или как преобладания одного из них уже прямо из Аста2. В целом, таким образом, к характеристике Давыдова следует прибавить еще одну черту, объясняющую несвоевременность его Чтений: он соединял и лишал определенности взгляды, которые высказывались как взгляды партийные. Эпохи партийности в литературе суть эпохи цвета или разложения. В первом случае всякий синтетизм и синкретизм преждевременны, во втором —они запаздывают, ибо распад потому и наступает, что синтез уже не удался. Поэтому-то синкретизм никогда и не бывает своевремен. Это только миг: как будто тело какое-то большое переворачивается с одного бока на другой, на мгновение замирает в неустойчивом равновесии на линии переворота и валится на другой бок —эта линия и есть линия синтетизма и синкретизма. В эпоху выхода Чтений Давыдова масса культуры уже заняла новое положение, резец, обделывавший ее, был в руке, водившейся вдохновением нового стиля. Давыдов был только профессор и ничего этого не понимал. Подводя на последних страницах своих Курсов общий итог, он в явном противоречии с действительностью говорит чуждым ей успокоенным тоном о самом тогда жизненном вопросе как о вопросе ака-
1 Впрочем, несомненно, сам Кант тут пользовался Батте, которого Les beaux arts reduits a un тёте principe (1746) были переведены (Адольфом Шлегелем) на немецкий язык уже в 1752 г. и затем выдержали несколько изданий.
2 (§ 19) У Аста: Erhabenes, Schones, Anmuth u. Reiz.—Разным отношением формы и идеи определяли род и направление искусства Шиллер, Ансильон, Авг. Шлегель, Пикте.
демическом. Он переносит себя воображением в старую борьбу опыта и умозрения и удовлетворенно констатирует мирную картину: они «рука об руку идут в святилище истины». Отвлеченным от жизни умозрением умы утомились и возвращаются к ней, умудренные опытом, «всех» убедившим, что «общее благоденствие зиждится единственно святою покорностью общественному порядку» (IV, 290). Такое спокойствие его академический взор видит в результате и новой борьбы: «Классицизм не почитается враждебным романтизму; словесность отличает красоты мировые от народных, согласует изящную форму древней поэзии с глубокою идеей новой. Отсюда господствующая мысль о словесности народной, созидаемой из отечественных элементов». Автор не видит или не хочет знать о том, что это народное как раз теперь упрямая загадка, что оно, вопреки профессорскому и министерскому синтезу, делается, уже сделалось, новым боевым лозунгом, не к миру зовущим, а к войне, что если сказанное примирение и состоялось, то состоялось перед лицом нового общего противника. Но если бы автор не был убаюкан своим спокойствием, он заметил бы, что его собственные слова таят загадку там, где он видел основание для мира. У него против классицизма стоит романтизм, против «мирового» – «народное». Но в его апелляциях к «новейшим», как и у других его официальных коллег, мы не видим обоснования предполагаемого здесь тожества между «романтическим», «новым» и «народным». Может быть, «народное» вытекает из «романтизма», порождается им – это официально, однако, не разъяснено. Между тем «порождение» не всегда бывает «мирно» и безопасно. История самих богов, как известно, начинается тем, что порождение, несмотря на всю предусмотрительность порождающего, обессиливает его и уничтожает. Давыдов был благополучен, потому что он верен – не народности в°все, а другу своему Уварову. То, что говорила народность сама о себе, звучало за замкнутым кругом его кафедры. Понятно, что, оставаясь на ней, он этого не слышал. Но чтобы и впредь на ней оставаться, он и тогда, когда схо-Дил с нее и возвращался в обыденную жизнь, продолжал Не слушать.
° том же < 18 > 38 г., в год выхода Чтений Давыдова, в Дерпте выло О Развитии изящного в искусствах и, особенно, в Словесности. Рассуждение, нное на степень Доктора Философского факультета Михаилом Розбергом,
Исправляющим должность Ординарного Профессора русского языка и Русской Словесности в Императорском Дерптском Университете. Рассуждение посвящено С. С. Уварову. Розберг (1804—1874) – воспитанник Московского университета, сотрудник павловского «Атенея»1. В 1832 г. Розберг выпустил в Одессе книжку О содержании, форме и значении изящно-образовательных искусств, в 1837 г., в Дерпте – Sur la signification historique de la Russie (этих книг я не видал). —В 1825 г. Розберг, будучи кандидатом Московского университета, принимал участие (вместе с Максимовичем, тогда также кандидатом, Погодиным, уже магистром, и др.) в кружке «Педагогических чтений» Мерзлякова. Будучи в Одессе, Розберг затевал литературный альманах «Евксинские Цветы», куда приглашал Погодина и Максимовича (Барсуков<Н. П. Жизнь и труды...—> III.– <С> 194—5). От литературы к профессуре он перешел... через плагиат!
В Предисловии к Рассуждению Розберг повествует: «Краткость времени не позволила мне распространяться, входить в подробности, иногда важные: оттого местами я [sic!] принужден был ограничивать одной страницей изложение мыслей, которые бы мог вполне удовлетворительно высказать и подтвердить множеством примеров на двадцати. –Причины сии, вероятно, сделали несколько неясными иные выводы моего [?] Рассуждения; но я готов дать обстоятельный отчет в каждом». Никаких источников и пособий «автор» не указывает. В книге имеется одна лишь «цитата» (С. 7) – из 4Платона», но я не взялся бы отыскать для нее платоновский контекст. В книге встречается только одно собственное имя эстетического теоретика – Винкельмана, но оно сопровождается такою тонкою характеристикою качеств этого писателя, что возбудило во мне сомнение: откуда такая тонкость суждения у русского профессора того времени? На этот раз моя добродетель была вознаграждена любезною прекрасноволосою Мнемосиною!.. (I) Из 71 параграфа Рассуждения первые §§ 1—9 составляют сокращенный перевод части знаменитой речи Шеллинга, произнесенной 12 окт. 1807 г. в мюнхенской Академии наук, Uber das Verhdltniss der bildenden Kunste zu der Natur (W < er-ke> —В. VII, cf.—S. 292—311). «Цитата» из Платона у Шеллинга фигурирует как его, Шеллинга, собственное рассуждение. (2) Остальные §§, 10—71, точка в точку соответствуют 63 параграфам (§§ 2—3 соединены у Розберга в один – И) книжечки Фридриха Аста Grundlinien der Aesthetik, той самой, которая еще в 1829 г. была переведена в «Московском Вестнике».
Принимая во внимание это последнее обстоятельство, нельзя не согласиться с проф. Сакулиным, когда он пишет: «Мысли автора никому не показались новыми. К средине тридцатых годов уже достаточно успели убедиться в истине тех положений, которые защищал Розберг» (Из истории русск<ого> идеализма... —Т. I. —Ч. I.—С. 515). Но в силу вышеуказанного нельзя согласиться с почтенным исследователем, когда он заключает изложение книжки «Розберга»: «Так понимает Розберг суЩ-
1 Если я правильно расшифровываю встречающуюся в «Атенее» подпись «М. Р-г». Этих статей не указывает проф. Петухов в Биогр<афи-ческом> Словаре проф<ессоров> Юрьевского Университета. —Т'. II.—Под ред. Г. В. Левицкого.—Юр <ьев>, 1903.—С. 355—7.
ность искусства, видимо, находясь под общим влиянием немецкой идеалистической школы и в частности под влиянием эстетики Гегеля» (517). И Шеллинг (1807), и Аст (1813) высказались задолго до того, как Гегель впервые изложил свои эстетические воззрения. Не могу согласиться и с тем, что «ничего яркого и оригинального эстетика Розберга, как видим, не представляет» (518),—если под «Розбергом» разуметь действительных авторов Рассуждения О развитии изящного. —Ъ официальном Обозрении деятельности второго Отделения Имп<ераторской> Академии Наук за 1874 г. (составленном А. В. Никитенком и напечатанном в ЖМНП.—1875.—Апр.) – сообщается о смерти экстраординарного академика М. П. Розберга и серьезно оценивается его «замечательный трактат» О развитии изящного и пр<оч. >. По словам автора Обозрения, «профессор обнаружил здесь много глубокомыслия и понимания высокой задачи искусства.–Если ему не удалось, как и немецким эстетикам, разъяснить сущность изящного, то он показал, что умеет чувствовать глубоко его обаятельную силу и влияние на образование человечества» (С. 88—89). Чересчур глубоко, пожалуй!..
В ином положении, чем Давыдов, оказался другой профессор Московского университета по кафедре изящных искусств, Николай Иванович Надеждин (1804—1856). Он слушал, слышал, сам заговорил и не по своей воле замолчал. Но его отличие —то, что на кафедру он взошел, уже получив литературное боевое крещение, и, заняв кафедру, литературного оружия он не сложил. С кафедры он сходил в редакторский кабинет и, входя вновь на кафедру, не мог забыть литературной жизни. Одновременно и покинул он литературу и кафедру. В итоге и его слушали и слышали. Он не опоздал, а пришел вовремя: и для того, чтобы громче всех сказать то, что говорилось всеми между собою, и для того, чтобы хронологически точно отметить день рождения нового духа русской умственной жизни, и для того, чтобы подготовить первого вождя этой жизни и первое воплощение этого духа. Разумеется, Надеждин так же мало хотел разрыва со старым, как мало отдавал себе отчет в последствиях своего выступления Чаадаев, как мало предвидел, куда он повернет, Белинский. Таков был каприз истории, а может быть, и та ананке, которой не в силах не повиноваться са-ми боги, что неудачный семинарский профессор с провиденциальным для последующей умственной истории России титлом экс-студента выступил в благонамеренно-профессорском органе в качестве первого русского свободного кРитика. Он так же мало думал об оппозиции государст-Венному руководительству правительства, как и аристо
кратический Пушкин. Даже меньше. Пушкин имел свои счеты кой с кем, в том числе с самим Уваровым; Надеждин нападал на Пушкина, но не «выше». Его «Телескоп» был вполне благонамерен. Когда Надеждин и его «Телескоп» говорили о народности и вооружались против «европеизма», Надеждин был уверен, что э*го – то самоед чего требует правительственная интеллигенция. И если Уваров терзался каким-то предчувствием, то только потому, что слышал в «Телескопе» еще один голос о народности: голос самой народности, так же натурально выходивший из уст Надеждина, как он сам натурально не принадлежал к правительственной интеллигенции. Белинский также говорил об народности и даже прямо отожествлял ее с «избранными», с elite, отнюдь не с плебсом, но ясно было, что недоучившийся студент говорит если не как власть имеющий, то как человек, готовый принять на себя эту власть. Надеждин оказался осью, но то, что завертелось вокруг него, было приведено в движение не им, а какою-то другою силою.
Конец части первой.
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ФРАГМЕНТЫ
I
СВОЕВРЕМЕННЫЕ ПОВТОРЕНИЯ
MISCELLANEA
КАЧЕЛИ
Едва ли найдется какой-нибудь предмет научного и философского внимания – кроме точнейших: арифметики и геометрии,—где бы так бессмысленно и некрасиво било в глаза противоречие между названием и сущностью, как в Эстетике. Стоит сказать себе, что эстетика имеет дело с красотою, т. е. с идеею, чтобы почувствовать, что эстетике нет дела до музыки. Музыка —колыбельное имя всякого художественного искусства – в эстетике делает эстетику насквозь чувственной, почти животно-чувственной, безыдейною, насильно чувственною. С этим, пожалуй, можно было бы помириться, если бы можно было рискнуть назвать все чувственное, без всякого исключения и ограничения, безобразным. Стало бы понятно, как оно может быть предметом эстетики рядом с красотою. Но кто теперь решится на это – в наше время благоразумных определений и гигиенических наименований? Бесчувственных не осталось ни одного – ни среди иудеев, ни среди христиан, ни среди мусульман.
Сказать, что эстетика не случайно носит свое имя, значит изгнать из эстетики поэзию. Для этого, пожалуй, не нужно ни смелости, ни решительности. Нужна, может быть, чуткость? Этим мы преизбыточествуем. Нужно мальчишество? Столичные мальчики громко заявляют 0 своем существовании. И так ли они глупы, как их изображают?
Чем больше вдумываться в «идею» поэтического творения, тем меньше от нее останется. В итоге – всегда какой-то сухой комочек, нимало не заслуживающий имени идеи. Остается один сюжетовый каркас, если и вызывающий какие-либо связанные с эстетикою переживания, то разве только несносное чувство банальности. Но не эстетика разъедает идейность сюжета, а само рассуждение, счет и расчет.
346
Так качается эстетика между сенсуализмом и логикою. Так точно бегал бы от верстового столба к верстовому столбу тот, кто захотел бы по столбам узнать, что такое верста. Самое серьезное, что он мог бы узнать, это то, что десять минус девять равняется единице. Больше этого не может и не желает качающаяся эстетика: ее предмет– какая-то единица.
Но если бы, по крайней мере, она это знала! Единица есть нечто бесформенное, единица есть нечто бессодержательное. Если бы эстетика об этом догадалась, она не перестала бы качаться между красотою и похотью, но перестала бы препираться о форме и содержании. Было бы трудно, и нудно, и тошно, но не вызывало бы у окружающих иронических замечаний. Разве не смешно: качаться с разинутым ртом и злобно, бранчливо твердить свое и свое – форма! – содержание! – содержание! – форма!..
Здравый смысл не качается, не мечется, подает советы, не сердится, не бранится. Здравый смысл знает, что предмет эстетики – искусство. Здравый смысл все знает. Но, как установлено было во времена до нас, здравый смысл не все понимает – он понимает только то, что здраво. А здравое искусство – все равно что тупой меч: можно колоть дрова и убить исподтишка, но нельзя рыцарски биться с равнорожденным другом.
Искусством ведает искусствоведение. И ничего нет обидного в том, что такая наука существует. Было искусство; и есть наука о нем. И если эта наука приходит к итогу, что искусство изучается не только эстетикою и не только эстетически, то это надо принять. Это значит, что, когда эстетика изучает искусство, она делает это под своим углом зрения. В предмете «искусство» есть нечто эстетическое. Но не может же положительная и серьезная наука поучать эстетику тому, что есть эстетическое. Ничего обидного в этом положении вещей нет, грустно только, что без ответа висит вопрос: где матернее лоно этой науки? Грустно, потому что совестно, скрупулезно, сказать: в подвале, за зашлепанным уличною грязью окном, там – в гнилом отрепье, в стыдном небрежении, мать – Философия искусства.
Для науки предмет ее – маска на балу, аноним, биография без собственного имени, отчества и дедовства героя. Наука может рассказать о своем предмете мало, много, все, но одного она никогда не знает и существенно знать не может – что такое ее предмет, его имя, отчество и семейство. Они – в запечатанном конверте, который
Эстетические фрагменты
347
хранится под тряпьем Философии. Искусствоведение – это одно, а философия искусства – совсем другое.
Много ли мы узнаем, раздобыв и распечатав конверт? – Имя, отчество и фамилию, всю по именам родню, генеалогию – и всякому свое место. Это ли эстетика? Искусствоведение и философия искусства проведут перед нами точно именуемое и величаемое искусство по рынкам, салонам, трактирам, дворцам и руинам храмов – мы узнаем его и о нем, но будем ли понимать? Узрим ли смысл? Уразумеем ли разум искусств? Не вернее ли, что только теперь и задумаемся над ними, их судьбою, уйдем в уединение для мысли о смысле?
Уединенность рождает грезы, фантазии, мечту – немые тени мысли, игра бесплотных миражей пустыни, утеха лишь для умирающего в корчах голода анахорета. Уединение – смерть творчеству: метафизика искусства! Благо тому, кто принес с собою в пустыню уединения из шума и сумятицы жизни достаточный запас живящего слова и может насыщать себя им, создавая себя, умерщвляя ту жизнь: смертию смерть попирая. Но это уже и не уединение. Это – беседа с другом и брань с врагом, молитва и песня, гимн и сатира, философия и звонкий детский лепет. Из Слова рождается миф, тени – тени созданий, мираж– отображенный Олимп, грезы —любовь и жертва. Игра и жизнь сознания – слово на слово, диалог. Диалектика сознания, сознающего и разумеющего смысл в игре и жизни искусства, в его беге через площади и рынки, в его прибежище в дворцах и трактирах, в чувственном осуществлении идеи,—эстетика не качающаяся, а стремительная, сама – искусство и творчество, осуществляющее смыслы.
Между ведением и сознанием, между знанием и совестью втирается оценка,– между искусством и эстетикою – критика. Она не творит, не знает, не сознает, она только оценивает. Идеальный критик – автоматический прибор, весы, чувствительный бесчувственный аппарат. Только фальшивый критик —живое существо. Критик Должен бы, как судья, изучить закон и уметь его применить, подавляя страстное и нетерпеливое сердце, защищая закон и право, но не интересы человека, внушая пра-восознание, но не благородство. Установленного закона Нет для судьи линчующего, судьи по совести. Критик тогда не автомат, когда судит по закону Линча и сам же осуществляет приговор: бессовестный приговор совести.
348
Иными словами: критика есть суд толпы, безотчетный, безответственный, немотивированный. Критик – палач при беззаконном суде. Критика – публичная казнь, как уединение было самоубийством. Но от уединения есть спасение в самом себе, публичная казнь – бесчестье казнящего, падающее на доброе имя казнимого.
За искусством забывается в эстетике «природа». Но, собственно говоря, так и должно быть. Здравый смысл делает здоровый прецедент и создает здоровую традицию. Было бы не только эмпирическим противоречием говорить об эстетическом сознании эр архейской, палеозойской, мезозойской. Культура – где-то в эре кайнозойской, когда началась аннигиляция природы. Поэтому-то «природа» прежде должна быть окультурена, охудожественна, чем восприниматься эстетически. «Природа» должна перестать быть естественною вещью, подобно тому, как она представляется чувственному сознанию неидеальною возможностью. Коротко: «природа» приобретает всякий смысл, в том числе и эстетический, как и все на свете, только в контексте – в контексте культуры. Природа для эстетики – фикция, ибо и культура для эстетики – не реальность. Эстетика не познает, а созерцает и фантазирует. Прекрасная культура – фиктивна; фиктивная культура – эстетична.
К этому же выводу можно прийти путем самого банального силлогизма, стоит только в его большей посылке провозгласить, что искусство есть творчество. Только искусственная природа может быть красивою природою. Зато, как музыка, природа может раздражать и тешить нервы, сохраняя в себе все свое естественное безобразие.
О СИНТЕЗЕ ИСКУССТВ
Дилетантизм рядом с искусством – idem с наукою, философией – флирт рядом с любовью. Кощунственная шутка над эросом! Дряблая бесстильность эпохи —в терпимом отношении к дилетантизму, когда дилетантизм становится бесстыден и вопреки правилам общественного приличия ведет жизнь публично открытую. По существу, дилетантизм – всегда непристойность. Цинизм достигает степени издевательства, когда с деланно невинным видом вопрошает: «но что такое дилетант?» Вопрос предполагает, что дилетантизм и искусство – степени одного. Тогда и флирт был бы степенью любви. Какой вздор!
Эстетические фрагменты
349
В искусстве есть степени: от учащегося до научившегося, до мастера. Дилетантизм – вне этих степеней; мастерство и дилетантизм – контрадикторны. Dilettante значит не «любящий», а развлекающийся (любовью), «сластолюбец». Поэтому также дилетантизм есть ложь. В нем то, что неискусно – (XTexvcoq,– лживо выдается за то, что должно быть безыскусственно – бстех&С– Наконец, только философ – cpi Xoaocpog = друг мастерства, – одержимый эросом, имеет привилегию понимать все, хотя он не все умеет. Привилегия же дилетанта – даже не в том, чтобы все знать, а только —быть со всем знакомым.
Только со всем знакомый и ничего не умеющий – cxaocpoq – дилетантизм мог породить самую вздорную во всемирной культуре идею синтеза искусств. Лишь теософия, синтез религий, есть пошлый вздор, равный этому. Искусство – как и религия – характерно, искусство – типично, искусство – стильно, искусство – единично, искусство – индивидуально, искусство – аристократично—и вдруг, «синтез»! Значит, искусство должно быть схематично, чертежно, кристаллографично? Над этим не ломает головы развлекающийся любовью к искусствам. И в самом деле, какое развлечение: на одной площадке Данте, Эсхил, Бетховен, Леонардо и Пракси-тель! Лучше бы: турецкий барабан, осел, Гете и сам мечтательный дилетант —но, к сожалению, не поможет, решительно не поможет...
Но если дилетанты виновны в том, что такой рассудочно-головной ублюдок, как «синтез искусств», появился на свет, то не одни уж дилетанты виною тому, что этот не-благороднорожденный и неаппетитный субъект получил доступ в эстетическое общество. Интересно не faux pas эстетики, а какая-то note fausse самого искусства.—Говорю не в назидание, а исключительно в порядке рефлексии.—Поражает один факт. Ведь картина на станке, партитура на пюпитре, рукопись на письменном столе – все-таки еще не реальность. Мало ли какие бывают «случаи»: пожар, революция, плохой характер, прогрессивный паралич, злая воля – не один Гоголь жег свои рукописи. Картина идет на выставку, рукопись —в печать. Зачем? – Чтобы реализоваться, осуществиться на деле.
Для искусства это и значит найти «применение», «приложение». Другой пользы из творчества красоты извлечь нельзя. Когда в публичный дом перевели из храма и Дворца музыку, живопись, поэзию, когда театры из все
350
народного празднества превратили в ежедневно открытую кассу, искусство лишилось своего «применения». Теперешние пинакотеки, лувры, национальные музеи, вообще «Третьяковки» – пошли на службу к педагогике. Как будто можно скрыть за этим безвкусие и государственное поощрение накопления в одном сарае – как вин в винных погребах – продуктов художественного творчества, не нашедших себе «применения» или, еще хуже, изъятых из «применения», «национализированных».
То же относится к томикам поэтов в публичных библиотеках и к музыке в музыкальных залах консерваторий. Везде и всюду консерватории – склады ломаного железа. Недаром они содержатся на государственный и общественный счет, вообще «содержатся». «Свободная» консерватория не просуществовала бы и пяти минут–была бы расхищена для «применения». Что бы сказали старые мастера, если бы им предложили писать картину не для храма, не для дворца, не для home —а, а... для музея общественного или для «частной» коллекции? Теперь пишут... Получается искусство не к месту, а «вообще себе». Нашли было путь к «применению» вновь: Рескины, Моррисы, кустари, «художественная промышленность». Но от искусства до кустарничества – расстояние примерно такое же, как от благородства до благонравия. В конце концов, в обе стороны прав художник, сам немало прокормивший кустарей: «Раб «художественной промышленности» настолько же нелеп и жалок, насколько некультурен художник, затворивший себе все двери выявлений творчества, кроме холста или глины» (Рерих). Но сердиться здесь не на что: промышленный стиль—такая же историческая необходимость, какою некогда был стиль «мещанский»: с цветочками и стишками на голубеньких подвязочках.
В итоге, как жизненный силлогизм самого искусства заключение дилетантизма о синтезе искусств: большой публичный дом, на стенах «вообще себе» картины, с «вообще себе» эстрад несутся звуки ораторий, симфоний, боевого марша, поэты читают стихи,-актеры воспроизводят самих зрителей, синтетических фантазеров... Можно было бы ограничиться одними последними для выполнения «синтеза»: оперную залу наполнить «соответствующими» звукам «световыми эффектами»; пожалуй, еще и вне-эстетическими раздражителями, вроде запахов, осязательных, тепловых, желудочных и др. возбудителей!.. Но пьяная идея такого синтеза —в противовес вышепредложенной
Эстетические фрагменты
351
«площадке»,– если бы была высказана, едва ли бы имела методологическое значение, а не только симптоматическое – для психопатологии.
Не припоминается, кто недавно, ужаснувшись перед нелепостью «общего синтеза» искусств, заявлял, что без всякого синтеза роль синтеза выполняет поэзия. Впрочем, слова: «без всякого синтеза», кажется, добавляю от себя, остальное, надо полагать, сказал поэт. Если живописец подумает, он вынужден будет сказать то же о живописи, музыкант – о музыке. И везде философствующий эстетик должен добавлять: «без всякого синтеза», ибо структурность каждого искусства, каждого художественного произведения, т. е. органичность его строения, есть признак конкретности эстетических объектов, но отнюдь не синтетичности. Структура потому только структура, что каждая ее часть есть также индивидуальная часть, а не «сторона», не «качество», вообще не субъект отвлеченной категоричности. «Синтез» поэзии имеет только то «преимущество», что он есть синтез слова, самый напряженный и самый конденсированный. Только в структуре слова налицо все конструктивные «части» эстетического предмета. В музыке отщепляется смысл, в живописи, скульптуре затемняется уразумеваемый предмет (слишком выступают «называемые» вещи).
Искусство насквозь конкретно – конкретно каждое воплощение его, каждый миг его, каждое творческое мгновение. Это для дилетанта невыносимо: как же со «всем» «познакомиться»?
Мастер, артист, художник, поэт – дробят. Их путь–от единичности к единственности. Долой синтезы, объединения, единства! Да здравствует разделение, дифференциация, разброд!
ИСКУССТВО И ЖИЗНЬ
Что искусство возникает из украшения, это – не только генетический факт, это также существенная функция искусства, раз искусство, так или иначе, целиком или частично, между прочим или всецело, представляет красоту– Поэтому-то и бессмысленно, неодушевленно, бессубстанциально искусство «вообще себе». Но нельзя обращать формулу, ибо это обращение есть извращение—нельзя сказать: всякое украшение есть искусство.
Украшение–только экспрессивность красоты, т. е. жест, мимика, слезы и улыбка, но еще не мысль, не идея.
352
Экспрессивность – вообще от избытка. Смысл, идея должны жить, т. е., во-первых, испытывать недостаток и потому, во-вторых, воплощаться, выражаться. Красота–от потребности выразить смысл. Realisez – tout est la (Сезанн). Потребность – пока она не успокоена – беспокойство, неутоленность. Творчество – беспокойная мука, пока не найдено выражение. Муки ученика – страшнее мук мастера: пока-то выражение не «удовлетворит», пока-то не выразишь волнующего. Поистине, пока оно не выражено, оно уничижает сознание, издевается над разумом. Волнует простор неба, грудь женщины, величие духа– художник пишет, рисует, высекает, пока не «снял» выражением беспокойной страсти. «Мастер» не так мучается, как «ученик»,—оттого есть мастера маститые, «академики». Есть, впрочем, мастера – ученики. Но, конечно, не в том дело, что «притупляется» страсть и волнение,– разве маститый меньше чувствует потребность жизни, чем мальчик,—а в том, что маститый не хватается за выражение «не по силам». Инстинкт почестей – против инстинкта жизни!
Так и формула: искусство есть жизнь —для немногих все-таки верна. Извращенный крик: жизнь – искусство! Такие обращения-извращения повторяются: жизнь есть философия, жизнь есть поэзия. Это – социально-психологический симптом. Это – признак эпохи, когда ложь дешева. Это —вопль вырождающихся. Жалкую увядающую жизнь хотят косметицировать философией, искусством, поэзией. Это называется «вносить» философию, искусство, поэзию в жизнь... Или, наглее, не отрывать их от жизни. Но молодость об этом не кричит, а сама собою украшена и никаких потерь и разрывов не страшится.