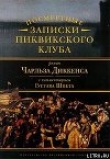Текст книги "Сочинения"
Автор книги: Густав Шпет
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 46 страниц)
1 Эту фихтеанскую задачу автор ближе освещает и пробует решить в указанной книге О системе наук (Четвертое условие системы учения...-С 127-146).
(1838)]. Теперь для него занятия философией «не в том состоят, чтоб удовлетворить любопытству, гордости или суетности разума, и даже не в том, чтобы следовать безотчетному и бескорыстному стремлению духа к высшим познаниям: но в том, чтоб сознать свою слабость, или, лучше сказать, свое ничтожество, и убедиться в необходимости Творца, в присутствии Провидения». Границы разума мы во всем чувствуем, и тем живее, чем более изощряем его, и не верх ли разумного знания знаменитое: одно знаю, что ничего не знаю? С другой стороны, и не один разум познает. С этим соглашаются самые жаркие поклонники разума. Познает и чувство, и инстинкт. Все достоинство разума зиждется на предполагаемой его самостоятельности. Если отнять произвол, уничтожится и разум. Произвол, след < овательно >, есть истинная причина разумения. Разум действует не как сила духа, а как страдательное орудие, приспособленное к здешней, преходящей жизни. Его деятельность условлена физически и развитием языка, легко разрушается в душевных болезнях и всецело подчиняется нашим страстям. «Мы унизили бы величие духа человеческого, каков теперешний разум человеческий. Не будем же удивляться, что в святом Евангелии не отличается он от прочих мирских благ, предопределенных тлению». Словом, все как следует в таких случаях!
Рассуждая о чувстве, Ястребцев имеет в виду исключительно «чувство по преимуществу», т. е. эстетическое чувство, которое «у нас с некоторого времени начали громко прославлять». Эстетическое чувство он определяет как «свободное очувствление природы». Чего можно ожидать от этого чувства? Подобно разуму, оно имеет дело с преходящею и условною формою. Как независимая сила души оно «безнравственно» – не ищет порока, но не ищет и добродетели. Оно глухо ко всему, кроме себя. «Между Музами нет Музы добродетели». «Нисходя до чувств, оно часто превращается в грубую чувственность». Нечего поэтому в изящном искать всего достоинства человеческого, утрату которого оплакивает наш дух.
Таким образом, не нашел Ястребцев успокоения сво-емУ сомнению и на том, на чем успокаивались эстетизирующие шеллингианцы. Это его, конечно, личная неудача,
Продолжалась ли литературная деятельность и самая жизнь до->а лстребцева после выхода в свет его Исповеди, мне не известно.
но она не способствовала бы процветанию у нас философии, если бы Ястребцев имел больше читателей, чем те, кто искал удовлетворения философской жажды в эстетической рефлексии. Вопреки скептикам и в разуме отчаявшимся, именно эстетика у нас оставалась убежищем и хранительницею если не философии, то, по крайней мере, философской идеи. Через эстетику философия у нас продолжала еще дышать и надеяться.
Как в очерченном кругу, топтались на одном месте наши друзья натурфилософии; каждый свободный шаг – вон из круга и на все четыре стороны. Оставалось одно: можно было, забыв об облегающих круг философии науках, оторваться от философской почвы и предаться свободному парению над нею, помня об ней как о точке отправления и возвращаясь к ней для отдыха и накопления сил к новому взлету. Надеждин так и поступал. Шеллинг указал, Давыдов и в особенности Павлов перевели это для нас – хотя это же узнавалось и другими путями, – что одно дело познать идею, другое – осуществить ее познанную, не предаваясь даже заботам о том, как она познана—умом, сердцем, из пыльных фолиантов или из «естества», систематически или в бреду. Это осуществление было уже практикою. Случайно ли наши мыслители умалчивали о практике или к тому обязывала практика же их действительности – но они ей предпочли романтическую грезу и могли видеть «осуществление» только в искусстве. Для философии это имело важное последствие. Разлагаясь и растворяясь в науках, философия давала им жизнь, но сама свою прекращала. Метафизическое выще-лущивание ее из наук, которому и поныне предаются материалисты, спиритуалисты и прочие метафизицирующие рассудочники, есть занятие, дух развлекающее, но не питающее. Сохраняемая в искусстве, в поэзии и лелеемая эстетическими теориями и критикою, философия могла ждать, пока к ней не предъявятся запросы, отвечать на которые—ее право, долг и власть.
Но и обратно, без творчества, хотя бы и безотчетного, просто даже без предварительной работы духовной сознательное философствование не появляется. Кузен удачно выбрал термины, противопоставив познание спонтанное познанию рефлексивному. Первое дается всем, второе – немногим, желающим отдать себе отчет в первом,
из чего и видно, что второе без первого не бывает, но зато оно способно вновь стимулировать это первое.
В Германии натурфилософия Шеллинга вызвала небывалый подъем в области естествознания. Оно не могло уже оставаться только эмпирическим и образовалось в научную теорию. Начались блестящие успехи немецкого ума во всех отраслях естественной науки. Тот же шеллин-гизм оплодотворил антропологию и психологию. Так точно Гегель вызвал к жизни немецкую историческую науку. Но во всех этих случаях соответствующая «материя» науки, научный хаос и труд были налицо. Иначе дело обстояло у нас. Велланский писал как-то (1834 г.) в письме к Павлову, что о физиологии в России до его возвращения из чужих краев, т. е. до 1806 г., «не было ни малейшего понятия». То же можно было бы сказать о других науках. Как переняли мы метафизическое естествознание, так дальше перенимали научное. Ничего своего в области науки, на что бы можно было рефлексировать, у нас не было. Это не значит, однако, что у нас вовсе никакой духовной работы не было. Выше уже упоминалось вскользь, что наш язык был тем объектом, на который направилось прежде всего наше спонтанное культурное творчество. Его плодом была литература. Славный «карамзинский период» – не новая эпоха, а итог XVIII века. И, строго говоря, именно как итог он целиком относится к той эпохе истории нашей образованности, которая находится всецело и несомненно под эгидою правительственной интеллигенции. Карамзин – также официальный историограф. Но, как член новиковского кружка, он также живая связь между теми антиципациями новой интеллигенции, которые замечаются в XVIII веке, и теми осуществлениями, которые задумываются в кружках уже новой формации. Он же – журналист, заканчивающий эпоху,—если не официальный, то официозный. В новую эпоху —эпоху Пушкина – возникла новая журналистика, сама не ведавшая еще, что творившая, ибо она так же невинно делала свое дело, как невинное дитя может затащить в свои игрушки заряженное ружье. Так, например, невинно, т– е. не только без предвидения последствий, но и без сознания значения совершенного акта, Чаадаев зарядил свое Философическое письмо, а Надеждин им выпалил.
И в литературе, и в истории Карамзин имел за собою по крайней мере пятидесятилетнюю спонтанную работу Русского духа. Но ни в той, ни в другой области он не до
шел до рефлексии и подобно предшественникам остался эмпириком. Рефлексия, как сказано, достояние немногих, и ей также нужно учиться. Мы видели, что это учение было подражанием. До нашей европейской охоты за Наполеоном мы звали немцев к себе, они учили нас по своим навыкам, не замечая того, что их материал для нашей рефлексии был objectum Actum. Не видя и не понимая его жизненности, мы, пожалуй, во многих случаях иначе и не могли относиться, как только спрашивая: какая от сего польза?
Один лишь Буле отнесся к своему назначению серьезно. На приглашение попечителя М. H. Муравьева он отвечал, что предпочел бы место профессора изящной литературы и изложения древних историков должности преподавателя спекулятивной философии, «курс которой для того, чтобы быть привлекательным и полезным русскому юношеству, представил бы большие затруднения». И по приезде в Москву свою литературную деятельность он посвящает не философии, а русским древностям, археологии и т. п. Он издает уже Опыт критической истории литературы русской истории и наряду с общими «Московскими Учеными Ведомостями» специальный «Журнал Изящных Искусств» (где статьи Буле переводились Кошанским). Об этом издании Буле писал, что «оно, сколько можно, будет ближе к гению и характеру российского народа, ко всем отношениям внутренним и внешним, к местному положению и к нынешнему состоянию искусств в России». Журнал прекратился после третьей книжки.
Теперь, в новую эпоху, понимание задач образованности стало двоиться. Неофициальная образованность, сама того не желая, уклонялась от официальной. И чем больше в официальной образованности протест против подражательности означал насаждение неподражаемых идей Священного союза и его идеологии, тем сильнее в неофициальной образованности раздражалась потребность самостоятельности. Когда была объявлена официальная программа удовлетворения этой потребности, как мы видели, было поздно, и эта программа оказалась непригодной. Рефлексия нашла себе объект и без официальной указки. Скорее, последняя пошла навстречу новому сознанию так же искренне, как и оно, веря, что оружие в руках его – невинная игрушка. Объект, который новое сознание нашло для своей рефлексии, были литература и история. Правительственная профессура жила по немецкому времени и продолжала свои подражательные уроки, в то время как не стесненная программами мысль искала точки опоры для начала самостоятельного движения. Москов
ские профессора, сошедшие с кафедры и приблизившиеся к живому спонтанному творчеству, вынуждены были взять на себя бремя первой рефлексии. Когда Пушкин на похвалы Уварова литературному дарованию Максимовича заметил: «Да мы г. Максимовича давно считаем нашим литератором», он сказал больше, чем заключал в себе буквальный смысл его слов по контексту и по приложению к одному Максимовичу. Мы слышали уже заявление Ив. Киреевского о своем и близких ему назначении.
Профессорам, переносившим новинки немецкой философской рефлексии в литературу, последняя могла быть только благодарна. Применять к своему объекту и к своему материалу училась она уже сама. Но на первых порах, самое главное, благодаря их внушениям она почувствовала необходимость этой рефлексии, даже не сознавая ясно, в чем она и как ею надо пользоваться. Это —торжественный момент крещения и наречения своего самостоятельного творчества, когда, наконец, уже не спрашивают, зачем и какую пользу это приносит. Рефлексия не может задержать спонтанного творчества хотя бы потому, что, как сказано, первое – для всех, второе – для немногих. Поэтому она сама отстает, и нужен большой опыт рефлексивного творчества, чтобы оно шло в ногу с творчеством спонтанным. Наше спонтанное творчество в эпоху формирования сознания неофициальной образованности и культуры прорвалось в таком невероятном явлении, как Пушкин. Едва-едва только теперь мы приходим к его осознанию. Достаточно, если современная ему мысль хотя бы «почувствовала» его, ибо в самом этом чувстве уже было непреодолимое побуждение к рефлексивной работе мысли. Действительным же материалом и объектом оставалось прежнее, допушкинское, прежде всего карамзинское. Мерка для Пушкина – недостаточная, но тем более, следовательно, возбуждалось и не прекращалось беспокойство. Полевой, один из наименее подготовленных и способных к рефлексии, но самый ярый зачинщик новой образованности, заметил по поводу Карамзина, что это – писатель не нашего времени: все его взгляды в литературе, философии, политике и истории устарели с появлением у нас новых веяний европейского романтизма. Эмпиризмом Карамзина кончался у нас эмпиризм литературы и истории. Тут важно не констатирование нового самого в себе, а именно сознание необходимости нового крещения: европейским романтизмом.
Что же это такое? Вот —точка приложения рефлексии у нас, а не естествознание! Европейской науки у нас не было, а литература образовывалась своя. Потому и рефлексия на нее должна быть своею. И она была, она искала в западной философии уже не объект, а только приемы. В первой своей статье Белинский входит в положение читателя: «Как, что такое? Неужели обозрение?» спрашивают меня перепуганные читатели. —Да, милостивые государи, оно хоть и не совсем обозрение, а похоже на то». Это «похоже» можно было бы заменить словами: «совсем не похоже». Новый дух, дух мысли, веял со страниц «похожего» на «эмпирическое» по природе своей «обозрения». Критика как чувство переходила в мысль. Сама рефлексия входила в состав спонтанного обнаружения русского духа. Вольное парение Надеждина закреплялось у Белинского мало-помалу в определенное направление. Не менее удачно, чем сопоставление рефлексивного и спонтанного, сделанное у нас Ап. Григорьевым сопоставление силы и сознания – так, в Пушкине он видел воплощение «всех творческих сил нашей народной личности, по крайней мере, на долгое время», а в Белинском – воплощение «нашего критического сознания, по крайней мере, в известную эпоху».
Однако, что такое был этот «европейский романтизм», пересаженный на русскую почву? Даже в настоящее время мы встречаем лишь формальные ответы на этот вопрос. Но формальный ответ —всегда только заголовок. По существу, т. е. философски, мы так же далеки от ответа, как и исторически. Достаточно того, что мы до сих пор даже Пушкина знаем, сколько знаем, только эмпирически... Наконец, не знаем мы и того как следует, что разумелось в ту пору под романтизмом. С одной стороны, европейский романтизм не есть понятие общее, а лишь общное, и национальные типы его никак генерализируемы быть не могут. Наша литература испытывала влияние и немецкого романтизма, и английского, но из этого не следует, что получалось что-то среднее. Получалось новое—национальное. С другой стороны, те, кто называли романтиком Карамзина, знали, что это «-классицизм, и только. Тогда для «новых» их новое было не-класси-цизм и не-Карамзин – опять и только. На одном не как будто все сходились: не-подражательность. Но когда старый, идущий от XVIII века, бытовой протест против подражания иностранцам стал вопросом литературного на
Очерк развитии русской философии
правления, эстетики, истории и философии, убедились, что это – целая программа и нелегкая проблема. Полевой назвал новый период пушкинско-народным, Белинский утверждал в Литературных мечтаниях, что за карамзин-ским периодом нашей словесности последовал период пушкинский, другие просто называли его народным. Ив. Киреевский в самом Пушкине находил «третий» период развития его поэзии – русско-пушкинский О карамзинском периоде вообще Киреевский говорил как о французском; Жуковский, по его мнению, начал новый немецкий период. Это, пожалуй, указания самые точные, но нужно знать, как у нас преломлялись французское и немецкое влияния. А до тех пор все эти определения остаются формальными титлами какой-то неформальной проблемы. При всей своей формальности, однако, они обладали таким свойством, что простое усвоение немецкой философии и немецких теорий романтизма ничего в них не решало. Усвоить их нужно было, но нужно было отдельно учиться применить их к решению своей проблемы.
Профессора, как официальные представители науки, переносившие к нам новые западные идеи, честно и прямолинейно, а потому плохо выполняли то, чего требовало от них правительство – быть орудием его. Свои мысли они прятали. От них ждали самобытной идеологии, а они давали ее лишь в духе и букве официальных программ. Это было тем «применением», которое нашла философия у нас. Отступавшие от этого и искавшие «применения» теории в культурной жизни тем самым отходили от программ и погружались в жизнь, т. е. в литературу, единственную у нас тогда форму культуры. С их помощью литература затем выдвинула своих идеологов. Но первое, хотя бы в неизбежно– схоластической форме, «применение» было сделано официальными представителями науки. Когда правительство требовало применения философии и науки к оправданию и обоснованию своего дела, это пре-вращало философию и науку в слуг и подчиняло их утилитарности. Пока литература жила своею жизнью, своим Делом, она оставалась чужда утилитарности, ибо собственное ее дело сознавалось ею как дело самодовлеющее, в себе самом заключающее цель. В эту пору философия не призывалась служить исправлению нравов, конституции, социального непорядка, ибо и сама литература ценила в себе не средство, а творчество и искусство. Она достигла степени самосознания. В карамзинский период лите
ратура уже не служит цели исключительной назидательности и заказного восхваления торжественных и отмечаемых в святцах событий. Дух карамзинского периода сознает свое право страдать, плакать или радоваться по собственному побуждению и по поводам, свободно избранным. Разумеется, и сама эта новая литературная практика была заимствована. Ее также нужно было прищепить к своему дичку. Может быть, Белинский судил правильнее других (напр<имер>, Киреевского), когда не включал между периодами карамзинским и пушкинским период Жуковского, именно потому, что Жуковский в изобилии доставлял новые сравнительно с Карамзиным культурные принципы, но не одомашнивал их. Лишь у Пушкина это делалось само собою – русская стихия становилась у него идеей, а русская идея была его стихией. В одном отношении, однако, Жуковский, по-видимому, сыграл значительнейшую роль. В большей степени, чем Карамзин, он подготовлял литературу нашу к сознанию ее бесполезности. Как бы ни казалось это качество духовной культуры внешним, до него надо дожить. Без принятия его ни один народ еще не доходил до стадии образованности; и тот народ тотчас впадал в рецидив некультурности, который терял понимание полной бесполезности развития духа. Есть ли, кроме русской, другая история, которая так определялась бы борьбою вокруг этого свойства культуры? И понятно, потому что это – борьба за европейское бытие или восточный анабиоз русского народа. Может быть, потому эта борьба такая смертельная, отчаянная, что это —борьба не только за бытие русского духа в истории, но и против него самого в какой-то его коренной, исконной основе. Недаром три смены интеллигенции, руководившей русскою образованностью, суть три смены утилитарного ее направления: дух нам нужен был последовательно (в основном, разумеется, и типически) – для церкви, для государства, для народа, но не для себя самого, не для того, чтобы церкви, государству, народу—можно было жить в нем и им. Тут не государство, церковь и народ существуют для манифестации и воплощения духа, а дух должен работать на них. Нужно, однако, признать в то же время, что не случайно ни одна из этих смен ни на минуту не торжествовала при полном молчании голоса культурной совести, всегда взывавшей к духу во имя сознания уже не высокой, а позорной «ненужности», бесплодности, бездарности «людей», духа ли
шенных по тому одному уже, что они заставляют его себе служить.
Как ни тривиальны эпитеты, которыми наделяют музу Жуковского: мечтательная, идеальная, неземная,– нам нужны были все эти немецкие, иногда русифицированные, привидения, страхи, тени и призраки прежде всего для того, чтобы Пушкин, невзирая на зубоскальство дикарей, на понятном, хотя бы по буквам, для них языке запечатлел раз и навсегда о всяком истинном творческом духе: «Мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв»1. Из истории русской культуры никакие электрификаторы и никакие Сальери отныне уже не вытравят этих слов, и эти слова будут волновать русского человека, пока не будет упразднен самый язык русский. У Пушкина это было уже спонтанным творчеством русского духа, манифестацией какого-то затертого, забитого и забытого, но не угасшего вовсе порыва этого духа. Теперь требовалось его рефлексивное осознание и уяснение. Киреевский писал в Обозрении русской словесности за 1829 г.: «Нам необходима философия: все развитие нашего ума требует ее. Ею одною живет и дышит наша поэзия; она одна может дать душу и целость нашим младенчествующим наукам, и самая жизнь наша, может быть, займет от нее изящество стройности». Философия, которую немецкие романтики считали своею и на основании которой они строили свои эстетические оценки, наиболее подходила для момента нашего поэтического самосознания. Она внушала мысль о самоцели и самоценности поэзии и творчества, она научала видеть в ней не средство к достижению морального или иного благополучия, а необходимое осуществление самодовлеющей идеи. Но для этого и требовалось, чтобы поэзия как деятельность духа была переведена из состояния смутного бессознательного Удовлетворения творческого влечения в стадию сознательного выполнения поэтом своего назначения. «Романтизм», таким образом, превращался из чувства в философскую задачу, в радикальном решении которой рассеивалась сумеречность спонтанного переживания.
1 Жуковский хотел найти какой-то мостик. В отличие от Пушкина, он заботился о том, чтобы его поняли лишенные дара понимания. Осторожно, с оговорками, с пояснениями, он старается «доказать» тезис, что !Ti1XOTBOP4y не нужно иметь в виду непосредственного образования А ородетелей, непосредственного пробуждения высоких и благородных чувств...».
XVI
Натурфилософия не могла прямо удовлетворить потребности в эстетической рефлексии. Нужно было ознакомиться с принципами новой немецкой философии и их приложением к эстетике. Наши натурфилософы не могли помочь в этом, потому что не были философами. Павлов указал место художественному творчеству в отношении к науке, но в дальнейшее рассмотрение вопросов эстетики не входил. Его ученики, променяв естествознание на словесность, как будто и не думали о том, что словесность также может иметь свои философские основы. Между тем именно словесники и представители наук об искусстве, хотя бы в удовлетворение требований духа времени, должны были бы подумать над этими основами. Для них это было нелегко, раз сама философия молчала, но тем не менее именно им мы обязаны распространением философского образования и в эту сторону. И здесь свободная литература сделала больше, чем официальная наука.
В 1825 г. вышел Опыт науки изящного, начертанный А. Галичем1, но по своим качествам он стоял невысоко и обильного питания эстетической рефлексии не давал. Галич, подобно другим профессорам своего времени, до банальности симплифицировал немецкие теории и подавал их читателю в сухом схоластическом виде, мало способном пробудить мысль к деятельности или хотя бы расшевелить любознательность. Одно его определение «изящного», о котором он говорит как о «чувственно-совершенном проявлении значительной истины свободною деятельностью нравственных сил Гения» (XII), могло своею добродетельною законченностью усыпить всякого любителя изящного. Компилятивность, если так можно сказать, этого определения, иллюстрируя «метод» Галича, в то же время показывает, что если он и разбирался в индивидуальных тенденциях современной ему эстетики, то все же относился к ним индифферентно и не-философ-ски толерантно. А вернее, он и не разбирался в них, а эклектически компилировал, не обладая оригинальностью даже настолько, чтобы выделить чью-нибудь оригинальность и следовать ей. Лишь треть его небольшой книжечки посвящена принципам эстетики, остальная, боль-
1 Ср. изложение И. Замотина. – Романтизм 20-х годов... Изд. 2-е.-Т. 1.-<Спб.; М., 1911 —1913.> —С. 108-117.
шая часть, «прилагает» их к рассмотрению отдельных искусств. Обе сжаты в параграфы, перечисляющие вопросы, но их не анализирующие,—без диалектики мысли и без угрызений критической совести. К этому присоединяется схематичность и бесстильность: результаты – чужого, конечно,—умозрения обвиваются психологическими перевязками. Все определения боевых терминов тогдашней эстетики: красота, гений, вкус и пр<оч. > – лишены и вкуса, и гения, и красоты, а потому и интереса. Кардинальный вопрос эстетики и критики того времени, вопрос о направлении нового искусства, лишь намечен в весьма скупых параграфах главы О разностях прекрасного, происходящих в Истории от духа народного образования (§§ 50-57.-С. 51-59).
Раскрывающееся сознание духа в юности народов, сообщает Галич, представляет себе самообраз изящного, а следовательно, и всего истинного и доброго, во внешней природе и лишь впоследствии отдельно от нее. Поэтому прекрасное древнего мира отличается характером ощутительного, пластического, простодушного, а прекрасное новых времен – характером романтического. Искусство древних, соответственно, отличается характером внешним, натуральным, искусство новых – внутренним, духовным; там действительные существа и явления, усматриваемые чувствами, очищаются и облагораживаются художником, чтобы показать Всесовершеннейшее в природе, здесь оно, представляемое фантазией и созерцаемое умственным оком, низводится в мир чувственный: Для древних настоящее – благо, исполнение и цель жизни; высшее художественное образование новоевропейского духа не прилепляется к тщете земного бытия и устремляет свои нравственные помыслы к беспредельной существенности. В классическом стиле преобладает мужественный характер силы, строгой правильности и благородной простоты, в новом европейском – женский характер мечтательной любви и нежной чувствительности. Поелику же прекрасное как чувственно-совершенное явление невидимого основывается на согласии идеального с естественным, свободного с необходимым, «то совершенное откровение безусловной красоты возможно только в романтической Пластике, которая предметам лучшего, неземного мира умеет давать явственные, определенные очертания», тот род искусства предугадан некоторыми гениями итальянских живописцев и немецких поэтов и есть идеал будущего.– Как ни туманен этот вывод при отсутствии
П– г Г. Шпет
каких-либо пояснений, его ненужность становится явною, когда к нему грубо приметывается сообщение о том, что в границах совершившейся истории, к которой и мы принадлежим, на юге Европы преобладает духовная сторона, на скандинавском севере чувственная, или материальная, грубая масса господствует над идеей, давая произведения жестокие, огромные и уродливые, а «на восточном ее краю —у греков находим ту и другую сторону в совершеннейшей и, следовательно, для нас образцовой отделке». Видимо, трудно было Галичу, но не легче и нам...
Только путем исключения можно прийти к тому, что здесь – отголоски шеллингианской эстетики: может быть, весьма элементаризированный Золгер – известный, скорее, по какому-нибудь популярно-упрощенному изложению,—вернее, Act, но также упрощенный, а то и еще меньшие. А если сколько-нибудь строго относиться к терминам, то «прекрасное» как «чувственно-совершенное» просто отбрасывает к Баумгартену. Неспособность к умозрению – свойственная, впрочем, всем русским профессорам философии того времени, принимавшим умозрение «на веру», а не «по опыту»,—очевидна, и все покрывается, как пылью, серым налетом домашнего эмпиризма. Что мог извлечь из этого русский поэт или кри-тих, поставленный Галичем сразу и перед – полученным путем простого словосочетания – идеалом «романтической пластики» как синтеза древней и новой Европы и перед – навеянным псевдогенеалогическою обязанностью – императивом образцовой для нас «отделки» греков?
Галич оказал бы нашему философскому просвещению большую услугу, если бы просто перевел какое-нибудь доступное нам немецкое руководство. Не встречая указаний или поддержки со стороны философов, представители заинтересованных наук сами должны были озаботиться подготовкою читателя и слушателя к пониманию новых идей, вводимых ими в свою науку и в эстетическую критику1. Результатом такой работы можно считать появле
1 Вскоре после книги Галича, действительно, появляются переводы: в 1829 г. (Моск<овский> Вестн <ик>.-Ч. IV.-C. 18—81) Лет <Ф.> Основное начертание Эстетики (Ast Fr. Grundlinien der Aesthetik. Lands-hut, 1813; о вторичном «переводе» Аста Розбергом см. ниже, с. 341) и в 1832 г.: Бахман <К.Ф.> Всеобщее начертание теории изящных искусств. Пер. М. Чистякова (Kunstwissenschaft in ihrem allgemeinen Umr-isse usf. Jena, 1811,—одно из первых употреблений современного термина «искусствоведение»; перевод этот вызвал обширную статью Надежди-на,– Телескоп.– 1832.– N3 6—7; см. ниже, Ч. II).
Ъ1Ъ
ние в 1829 г. исторического очерка истории эстетических теорий Ивана Среднего-Камашева Автор откровенно – хотя, приходится думать, неискренне – отмежевывает себя от умозрения, теряющегося в неопределенных и ложных умствованиях, и отдается под руководство ясности и опыта. Характерно его заявление, оправдывающее тем не менее, как будто, умозрение в применении к природе,—«Цель наша – изящные искусства, а не природа: средства наблюдения основательные и точные, приложенные к произведениям человека, а не явлений нашей воли, где обнаруживается только ничтожность земного разума». Пределы своего обозрения автор видит, с одной стороны, в Платоне и Аристотеле, с другой, в завершающих эмпирическую эстетику трудах Батте, Берка и Баумгартена, трех писателей, отражающих в себе особенности трех различных народностей. Не столько уже из народного характера, сколько из «совокупного наблюдения умов в деле науки» вырастают учения эклектика Зульцера и обновителей платонизма Винкельмана и Лессинга. Здесь и кончаются, по мнению автора, учения об изящном, имеющие начало в опыте. Умозрения новейших относятся «более к философии, нежели к науке об изящном». Немотивированно и выходя за пределы указанной схемы, он присоединяет замечания о Канте, Фихте, Бутервеке. Не совсем вяжется с взглядом автора, отрекающегося от умозрения и философии, привлечение Платона в качестве верховного авторитета. Автор оправдывает это тем, что Платон – родоначальник науки оо изящном и что его ошибка есть ошибка века, а не собственного духа. Понятно с этой точки зрения, что и платонизм новейшего умозрения – также ошибка —века или собственного духа,—но непонятно, каким образом ошибку века родоначальника науки возобновляют завершители ее – Винкельман и Лессинг и каким образом к нему же примыкает сам автор, не находя ничего его выше и не замечая, что современное ему умозрение было реставрацией платонизма.
В общем Рассуждение изложено ясно, критические замечания отчетливы и существенны. Оскорбляет только отсутствие развития своего положительного взгляда и нежелание признать таковой у «новейших», которые по существу дела как раз и раскрывали скрытые теоретические
1 О различных мнениях об изящном. Рассуждение на степень магистра кандидата Ивана Среднего-Камашева.—Москва: В Университетской типографии, 1829.