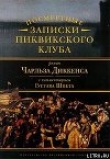Текст книги "Сочинения"
Автор книги: Густав Шпет
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 46 страниц)
V 1
Объективная структура слова, как атмосферою земля, окутывается субъективно-персональным, биографическим, авторским дыханием. Это членение словесной структуры находится в исключительном положении, и, строго говоря, оно должно быть вынесено в особый отдел научного ведения. .При обсуждении вопросов поэтики ему так же не должно быть места, как и при решении вопросов логики. Но еще больше, чем при рассмотрении движения научной мысли, до сих пор не могут отрешиться при толковании поэтических произведений от загляды-вания в биографию автора. До сих пор историки и теоретики «литературы» шарят под диванами и кроватями поэтов, как будто с помощью там находимых иногда утен-зилий они могут восполнить недостающее понимание сказанного и черным по белому написанного поэтом. На более простоватом языке это нелитературное занятие трогательно и возвышенно называется объяснением поэзии из поэта, из его «души», широкой, глубокой и вообще обладающей всеми гиперболически-пространственными качествами. На более «терминированном» языке это называют неясным по смыслу, но звонким греческим словом «исторического» или «психологического метода»– что при незнании истинного психологического метода и сходит за добро.
Если не оправданием, то объяснением такой обывательщины в науке может служить, что не только – возвышенный или рабий – человеческий интерес к человеческой душе влечет в область биографии поэта, но и действительно методологические требования изучения самой поэзии. Во-первых, поэт не только «выражает» и «сообща
Эстетические фрагменты
465
ет», но также производит, как уже говорилось, впечатление. Хотя бы для того, чтобы отделить поэтическую интерпретацию от экспрессивной, нужно знать обе. Во-вторых, опять-таки для выделения объективного смысла поэмы, надо знать, чему в авторе ее мы со-чувствуем, чтобы не смешать этого с тем, что требуется со-мыслить. Ведь и тряпичник, вытаскивая из груды мусора тряпки, подымает и переворачивает груды обглоданных костей, жестянок, истлевших углей и прочего сору, который может наводить его на всевозможные воспоминания и волнения.
Что касается первого пункта, то инстинктивные попытки выделить его в особый предмет изучения существуют, пожалуй, с тех пор, как различают поэтику и риторику1. В основе своей «впечатление» от слова не зависит от специфических особенностей самого слова как такого, а должно быть сопоставляемо с «впечатлением» от других способов и средств экспрессивного «выражения ощущений и чувств». Генетические теории, выводившие осмысленное слово из экспрессии, много здесь напутали. Самого простого наблюдения достаточно, чтобы заметить, что развитие осмысленного словоупотребления и эмоционального окрашивания его идут независимо друг от друга и сравнительно поздно достигают согласования. Известно
466
особое, нередко прелестное своеобразие детской речи, проистекающее из употребления ребенком сильных эмоциональных речений и оценок без тени соответствующих переживаний и без согласования со смыслом. Эмоциональная экспрессивность ребенка первее всякого словоупотребления, но post hoc не значит propter hoc, и визг, писк, ор, плач не превращаются в мысль, как не превращается на ночь солнце в луну. Ребенок извивается в импульсивных движениях и жестах, но независимо от того, какого искусства он в них достигает, он начинает узнавать и называть вещи, а затем понимать и сообщать. Значительно позже с этим связываются «осмысленные» жестикуляция и эмоциональная экспрессия. Есть индивиды, вполне овладевающие импульсивными движениями и тем не менее до конца дней своих не умеющие согласовать сообщаемого с экспрессией.
Другим источником путаницы являются объяснительные эстетические теории, принимающие за объяснение простые факты вчувствования, интроекции и т. п. Не говоря уже о том, что именно то и требует объяснения, каким образом эти факты могут служить источниками эстетического наслаждения, в корне ошибочно предполагать, будто здесь и весь источник эстетичности слова и будто в других своих функциях слово вызывает эстетическое впечатление по тому же принципу вчувствования.
Несомненно, симпатическое понимание вообще есть тот путь, которым мы проникаем в «душу», исходящую в экспрессии. Но через симпатическое понимание мы со-переживаем не только эстетическое переживание другого, сообщающего слово. Кроме того, если ограничиться только, так сказать, эстетическим симпатическим переживанием, мы еще ничего не разъясним, так как тогда пришлось бы признать, что мы эстетически воспринимаем только то, что эстетически переживается самим сообщающим. В действительности, мы можем проходить без эстетического волнения мимо эстетических эмоций сообщающего, и обратно, испытываем эстетическое впечатление там, где он его не испытывает. На этом факте и основаны соответствующие «обманы», притворства, сценическая игра ит. п. В общем, эти факты только подтверждают наличность «бессознательного» (собственно аноэтиче-ского) симпатического понимания, так как они прямо на
Эстетические фрагменты
467
него рассчитаны. В сценической игре актера мы наперед знаем о «притворстве» и игре, и тем не менее наша симпатическая реакция от этого не уничтожается. Но ясно, что разная сила и разное качество их зависят не от самого факта симпатического восприятия экспрессии, а от особенностей этой экспрессии. Игра бывает «хорошая» или «плохая».
Несмотря на то, что мы воспринимаем экспрессию через «симпатии» и субъективно, мы в эстетической оценке ее смотрим на экспрессию, как на sui generis предмет. Намеренность или ненамеренность предметного для нас характера экспрессии не меняют, она все равно должна вылиться в какие-то формы, способные к эстетическому воздействию на воспринимающего. Впечатление от (выражения) ласки, гнева, протеста, презрения, ненависти и пр < оч. > должно облечься в предметную форму, насаженную на семантические формы слова. Подобно непосредственным чувственным впечатлениям от форм сочетания звукослова, и здесь мы имеем дело, следовательно, с чувственными формами сочетания. Эмоции так же имеют свои формы, как и сочетания. Но как в простейшем ощущении чувственный (эмоциональный) тон наседает на него, окрашивает его, от него самого отличаясь, так и в восприятии слова как целого экспрессия есть его окраска, паренье над ним.
Особенно интересны случаи сложного наслоения эстетических переживаний. Интонации, тон, тембр, ритм и т. д. мы воспринимаем как ощущения, формы сочетания которых эстетически нас волнуют. Но эти же интонации, этот же ритм и пр < оч. >, поскольку они служат цели экспрессии и выдают душевное волнение говорящего, они вызывают свои эстетические переживания. Одно наседает на другое. Но, далее, эти душевные волнения могут быть волнениями радости, печали, гнева, любви, зависти, но также эстетического наслаждения. Последнее само опредмечивается и фундирует на себе следующей степени эстетическое переживание. Сверх всего этого, слушая, например, на сцене Гамлета, мы различаем слова Гамлета самого, может быть, также Шекспира и непременно еще актера, изображающего Гамлета. И все это вызывает наслоение одной персональной экспрессивности на другую, всех их на осмысленное слово, не говоря уж
468
о зрительных источниках эстетического наслаждения. Достаточно, однако, двум любым слоям «разойтись», и начинаются перебои, «эстетические противоречия», разрушающие все сооружение. Не меньшей угрозой такого разрушения является и то, что нередко симпатическое понимание вызывает в нас реакцию, на которую не рассчитывает экспрессия. Так, угрозы изображаемого героя могут вызвать у нас впечатление скуки, его страх и трепет– чувство презрения и т. п., в такой мере, что они заглушают требуемое изображаемой экспрессией эстетическое чувство. Неудачный автор может погубить талантливого актера, «несимпатичный» актер (к которому зритель чувствует личное нерасположение или у которого «противный» голос и т. п.) может «провалить» хорошую роль.
Для эстетического восприятия эмоции в ней должны быть свои эмоциональные формы, определяющиеся законами своей эмоциональной «гармонии», «уравновешенности» эмоции, или, иначе говоря, законами уравновешенности экспрессии. Последнее можно было бы и не добавлять, так как экспрессии и есть сами эмоции (как слово есть мысль) – для воспринимающего, во всяком случае. И как эмоции и экспрессия не расчленимы для переживания их, так должно быть и для восприятия. Их тожественность– основное положение симпатического понимания. Факт «притворной» экспрессии – для воспринимающего – притворной эмоции – так же мало этому противоречит, как произнесение слов тем, кто их не понимает, например, прочтение стихотворения на незнакомом языке (как иногда певцы поют иностранные романсы, заучивая их переписанными по знакомой им транскрипции). Правда, можно автоматически повторять чужие слова, не понимая их, но нельзя их выдумать, «создать», а актер именно «творит» в своей экспрессии. Однако и актер не «выдувал» бы экспрессии, если бы ему (и зрителям) были абсолютно чужды, «неизвестны» эмоции и если бы творчество актера не в том и состояло, что способность симпатического понимания и подражания в нем могут быть развиты до дара, до таланта.
Условимся обозначать эстетическое впечатление от экспрессивности, облегающей слово, звук и слово-семантику, через символ: е, являющийся их общим экспонентом.
Эстетические фрагменты
469
2
Второй из вышеозначенных пунктов составляет всецело предмет психологического интереса к персоне автора слова. Интерпретация слова с этой точки зрения есть истолкование поведения автора в смысле его правдивости или лживости, его доброжелательного или злостного отношения к сообщаемому, его веры в него или сомнения в нем, его благоговейного или цинического к нему отношения, его убежденности в нем, его страха перед ним, его восторга, и пр < оч. > , и пр < оч. >. Сколько бы мы ни перечисляли качеств его отношения к сообщаемому, все это качества, во-первых, психологические, во-вторых, его, автора, субъекта, для которого сообщаемое – такой же предмет, как и для нас, хотя, быть может, душевные переживания оно вызовет в нас совершенно иные, чем у него. Если выше, только что, мы говорили все же об экспрессивных свойствах слова, которые могли стать предметом нашего внимания и независимо от их автора, то теперь только на автора и переносится интерес. Слушая актера, мы слушаем не актера, а героя или автора пьесы; читая Гамлета, мы переносим установку внимания на Шекспира; и т. п.
Обращение к автору также происходит на основе симпатического понимания и по поводу экспрессии. Но экспрессия здесь – только повод, а симпатическое понимание – только исходный пункт. От внешней экспрессии требуется переход в глубь, в постоянный ее источник, к руководящему его началу. От симпатического понимания необходимо перейти к систематическому ознакомлению с автором и его личностью. Здесь важно не «впечатление» от содержания слова, а повод, который дает его экспрессивность для проникновения в «душу» автора. Мы сперва только указываем его в его выражениях, понимаем то, что он говорит, но хотим угадать также, что он хочет сказать, как он относится и к тому, что он говорит, и к тому, что говорит, и к сообщаемому и к собственному поведению сообщающего. Нам важен теперь не объективный смысл его речей, а его собственное «переживание» их как своего личного действия и как некоторого объективируемого социально-индивидуального факта. Угадываем мы на основании показаний симпатического понимания, улавливающего соответствующие интонации его голоса, учи
470
тывающего, например, спокойствие или прерывистость—натуральные и деланные – речи, намеренную или «случайную», из глубины души и свойств характера, а также из его культурности или невежества, творческих напряжений или пассивного повторения, вытекающую «фигуральность» его речи, пониженный или повышенный голос, свидетельствующий о его раздражении, зависти, ревности, подозрительности, и пр < оч. >, и пр < оч. >.
На почве этих первых догадок и «чутья» мы дальше начинаем «сознательно» воспроизводить, строить, рисовать себе общий облик его личности, характера. Тут нужно ознакомление с другими, из других источников почерпаемыми фактами его поведения в аналогичных и противоположных случаях, с фактами, почерпаемыми из его биографии. Симпатическое подражание играет все меньшую роль, на место его выступает конгениальное воспроизведение. Экспрессивные частности интересны не сами по себе, а как фрагменты целого, по которым и нужно восстановить целое. Симпатически данное рационализируется и возводится в эффект, симптом некоторого постоянства, которое терпеливо, систематически и методически подбирается, составляется и восстанавливается, как цельный лик.
За каждым словом автора мы начинаем теперь слышать его голос, догадываться о его мыслях, подозревать его поведение. Слова сохраняют все свое значение, но нас интересует некоторый как бы особый интимный смысл, имеющий свои интимные формы. Значение слова сопровождается как бы со-значением. В действительности это quasi-значение, parergon по отношению к ergon слова, но на этом-то parergon и сосредоточивается внимание. Что говорится, теряет свою актуальность и активно сознаваемое воздействие, оно воспринимается автоматически, важно, как оно говорится, в какой форме душевного переживания. Только какая-нибудь неожиданность, парадокс сообщаемого может на время перебить, отвлечь внимание, но затем мы еще напряженнее обращаемся к автору, стремясь за самим парадоксом увидеть его и решить, согласуется создаваемое им впечатление от его личности с другим или не согласуется.
Как формы чистой экспрессивности выражаемого сопоставлялись как аналогон с чувственными формами сочетания, так формы со-значения можно рассматривать
Эстетические фрагменты
как аналогон логическим формам смысла. За последними предполагаются и имеют место свои психо-онтологиче-ские формы. И можно говорить об особой онтологии души, где «вещи» суть «характеры», «индивидуальности», «лица»,– предметы изучения психологии индивидуальной, дифференциальной, характерологии, или там, где предполагается коллективное лицо, коллективный субъект и носитель переживаний – психологии этнической, социальной, коллективной (материал: фольклор, «народное» творчество в противоположность индивидуальному словесному творчеству).
В целом личность автора выступает как аналогон слова. Личность есть слово и требует своего понимания. Она имеет свои чувственные, онтические, логические и поэтические формы. Последние конструируются как отношение между экспрессивными формами случайных фактов ее поведения и внутренними формами закономерности ее характера. Эстетическое восприятие имеет здесь свои категории. Эстетическое наслаждение вызывается «строением» характера как «цельного» («единство в многообразии»), «гармоничного», «последовательного в поведении», «возвышенного по чувствам», «героического», «грациозного в манерах», «грандиозного в замыслах» и т. д.
Для возможности эстетического восприятия личности еще больше, чем в эстетическом восприятии экспрессивности самих знаков, нужно освободиться от своих личных реакций на личность как предмет созерцания. Она в нашем сознании может запутаться в совершенно непроницаемом тумане наших «симпатий» и «антипатий», переживаний не эстетических, а иногда прямо им враждебных. Любовное отношение здесь может мешать не меньше враждебного, пиетет не меньше снисходительности. Надо отойти как бы на расстояние, чтобы выделить и оценить свое эстетическое отношение к личности и ее типу. Ее индивидуальные формы – типичны, и мы легко можем к личности отнести эмоциональную реакцию, привычную Для нас в отношении к соответствующему типу. Можно было бы сказать, что эстетическое отношение к личности вырастает, в конце концов, именно на преодолении симпатического понимания ее. Оно, это «преодоление», только и способно создать нужную «уравновешенность».
472
Обозначим эстетическое значение восприятия личности самого автора слова как некоторый постоянный коэффициент S к самому слову во всех его объективных фонетических и семасиологических функциях.
VI.
Общая пародийно-математическая формула эстетического восприятия слова складывается следующим образом:
8Г Г-пП(1 + ип)Мг]с +s + r
L mlft J
Москва, 1922, февр. 19
ВВЕДЕНИЕ В ЭТНИЧЕСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ
ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ЭТНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
ПРЕДИСЛОВИЕ
В этом первом выпуске Введения воспроизводится в исправленном и дополненном виде моя статья, напечатанная в «Психологическом Обозрении» в 1919 г. Уже тогда, по замыслу автора, эта статья была первой в ряду других, из совокупности которых должно было образоваться Введение в изучение этнической психологии. Вторая часть работы в свое время (1920—21 г.) была доложена мною, в своей основной части, в функционировавшем тогда при Московском университете «Московском Лингвистическом Обществе» и была посвящена самой методике исследования. Дальнейший собранный мною материал был приведен в систему университетского курса, каковой и читался мною в Московском университете. В организованном мною тогда же Кабинете этнической психологии я рассчитывал подвергнуть свои теоретические положения лабораторной проверке. Обстоятельства времени отторгли меня от всей этой работы. Однако все растущий интерес к краеведению и ц изучению так называемых национальных меньшинств возвращает внимание науки к проблемам этнической психологии, и мне показалось своевременным еще раз выступить с защитою своих взглядов, в убеждении, что они могут иметь реальное значение для разработки новой еще у нас научной дисциплины.
Значительная часть этого выпуска посвящена критике и полемике. Это – необходимо, и как общая расчистка пути, и как способ более отчетливого выявления собственной позиции. Наиболее признанный авторитет в области этнической психологии, В. Вундт, подвергся с моей стороны наиболее резкому нападению. Вундт, по моему мнению, завершение развития психологической науки второй половины XIX в.—апостол волюнтаристической реакции против интеллектуалистического гербартианства, с одной стороны, и психофизического эксперимента про
476
тив спиритуалистических композиций типа Фихте младшего, Ульрици и под<обных>, с другой стороны. Новая психология зародилась в те же семидесятые годы (первое изд. Очерков физиологической психологии Вундта 1873 г., Психология с эмпирической точки зрения Брентано 1874 г.). Более поздние опыты обновления психологии как науки в виде разного типа описательной психологии, возникавшие , независимо от реформы Брентано (напр < имер >, Дильтей и его последователи), сливаются теперь в одно. И если Штумпф, Марти, Мейнонг —прямые ученики Брентано, то уже англичанин Стаут примкнул к новой психологии, идя от других учителей. Еще, может быть, показательнее резкий поворот от Вундта, сопровождавшийся острою полемикою, представителей так называемой Вюрцбургской экспериментальной школы (Психологию Авг. Мессера 1914 г. можно считать первым опытом системы новой психологии). Наконец, примеры, подобные Ясперсу (К. Jaspers), как будто объединяют все генеалогическое разнообразие новой психологии.
Казалось бы, при таких условиях нет надобности в полемике, нужно на найденном положительном основании только строить. Однако сделанное в общей психологии еще далеко не нашло своего приложения в ее специальных отделах, в частности, в психологии этнической. Указанная необходимость «расчистки пути» здесь оставалась. Еще больше эта необходимость, кроме того, подчеркивается тем, что психология Вундта, заняв господствующее положение, проникла в другие специальности, где и стала, как некогда психология Гербарта, своего рода opinio communis. Лингвисты, филологи, литературоведы, правоведы, этнологи и пр<оч.>, слишком занятые собственною специальною работою, не могут входить в обсуждение вопросов, вызываемых борьбою за права новой психологии, и, нуждаясь в помощи какой бы то ни было психологии, спешат воспользоваться хотя отсталым, но отстоявшимся и как будто более устойчивым. Иначе они стояли бы перед опасностью полного скептицизма и последовательного, хотя не принципиального, отрицания нужной им отрасли психологии (подобно, напр < имер >, Г. Паулю). Некоторые голоса со стороны специалистов, предостерегавшие о промахах Вундта в сфере их специальности (напр < имер >, ван Гиннекен в лингвистике), не предостерегли: эти промахи видны специалистам и потому для них неопасны, лишь бы была его психология авторитетна, и эти его ошибки вытекают не из его психоло
Введение в этническую психологию
477
гии, а из его недостаточного знакомства с их специальностью– они так же простительны, как простительны специалистам их ошибки в области психологии. Правда, были и более серьезные предостережения, показывавшие, что, напр < имер >, лингвистические ошибки Вундта прямо вытекают из ошибок его психологии (А. Марти), но и эти предостережения только теперь начинают серьезно оцениваться. И только теперь начинают наполняться реальным смыслом такие заявления, как то, напр < имер >, которое было сделано Фиркандтом на последнем Конгрессе эстетиков и искусствоведов в Берлине (1924 г.). Фиркандт категорически и в общей форме высказал суждение, которое и мне хотелось внушить читателю своею критикою Вундта: более глубокое понимание искусства нуждается в особой психологии примитивных народов; мы находимся только у начала ее; «этническая психология Вундта не причастна ей (hat keinen Anteil an ihr): она пытается проложить путь к пониманию без основоположного исследования структурных различений и родственных этому вопросов» (Kongressbericht... – Ъ. 348).
Стоит ли особо останавливаться на том, что у нас положение вещей еще элементарнее. Научная психология у нас в запустении, и если бы наш специалист-лингвист, искусствовед, этнограф захотели воспользоваться ее услугами, где им найти авторитетный источник? Вот – случайно припомнившиеся примеры (не из худших, могу назвать худшие – nomina periculosa): один из области «поэтического стиля» («принципы Эльстера» – авторитет!..), другой – целое «руководство» по «теории словесности», третий – «синтаксис в психологическом освещении» (автор—чрезвычайно почтенное имя в своей специальности) – но что же это за психология? и что если бы, в самом деле, их специальные выводы базировались на этой психологии?.. Но если западные коллеги наших специалистов – для нас всегда ведь авторитеты – все еще живут «вундтизмом», то тем более нет как будто и для нас лучшей опоры... Автору по опыту известно, что его собственная критика Вундта иногда рассматривалась как простой задор и выражение некоторого пристрастия к парадоксу. Но это-то все и доказывает необходимость предпринятой мною критики, тем более, что я не знаю какой-либо другой, аналогичной работы в нашей или западной литературе, ссылкой на которую я мог бы ограничиться. —Я не останавливаюсь с такою же подробностью на принципах французских социологов (школа Дюркгейма, Леви-Брю
478
ля) или американских «социальных психологов» (от Брин-тона до Малиновского), во-первых, потому что критика их должна вестись преимущественно эмпирически, а не принципиально, а во-вторых, потому что свое определение этнической психологии я все же веду по магистрали Штейнталя, и, след < овательно >, прочие для меня интересны лишь как временные противники или союзники.
Основное, что связЬшает меня с этою магистралью, сохранение ее психологической терминологии. Мое новое– в новом толковании и применении этой терминологии и в вытекающем отсюда методе. Центральным термином здесь всегда был термин «душа» или «дух народа». Но, могут сказать, именно Брентано, как известно, раскрыл положительный смысл лозунга (провозглашенного А. Ланге) «психологии без души», и если общая психология может обойтись без такого предмета, как «душа», то разве не относится это еще в большей мере к «душе народа»? Я думаю, что к настоящему времени термин «душа» настолько уже очищен от метафизических пережитков, что им можно пользоваться,—в уверенности, что теперь и самые нервные особы умеют устоять против соблазнов на-вьего очарования,—только усвоив термину некоторое положительное содержание вспомогательного для науки «рабочего» понятия – того, что физики называют «моделью», сознавая нереальный, фиктивный смысл соответствующей «вещи». Стоит только отрешиться от представления души как субстанции, чтобы тотчас отбросить и все гипотезы об ее роли как субстанциального фактора в социальной жизни. То же относится к термину «дух». Только при этом условии оба термина в серьезном смысле могут толковаться как субъект (materia in qua) – чего от «духа» требовал уже Гегель. Термин «дух народа», подобно (но не тождественно) «духу времени», «духу профессии, класса, солидарности» и т. п., удобен теперь тем, что толкуется коллективно. А этим, в свою очередь, окончательно преодолевается традиционное представление о субъекте как индивидуальной особи – туманном биологическом прикрытии все той же гипотезы субстанциальности. И далее, легко показать уже действительное положительное содержание термина. Формально это есть лишь указание на некоторого рода тип или характер, а потому нечто изначально коллективное, что обязывает нас, обратно, и индивидуальное – в его структуре и составе – трактовать как коллективное. Все это —уже не простое истолкова
Введение в этническую психологию
479
ние и перетолкование термина, а новый смысл, новый принцип, новый метод.
Реально за этим формальным скрывается, в порядке критическом, отрицательное отношение ко всякому представлению «духа» или «души» как спонтанно действующего, определяющего другие формы бытия фактора. Следовательно, утверждения, что то или иное явление в жизни народа определяется «его духом», психологически уже не имеют иного, кроме метафорического (подобно «солнце восходит»), смысла. Равным образом, лишаются прежнего буквального смысла рассуждения о «духе» и «душе» коллектива как какого-то «взаимодействия» (формальное, т. е. здесь – пустое, понятие) «единственно реальных» индивидов; сам индивид – коллективен, и по составу, и как продукт коллективного воздействия. Действительный смысл, и это —уже порядок положительного определения, таких выражений – в ином. Реален именно коллектив, который не должен быть непременно только беспорядочным множеством по определению (как «куча песка»), но также и упорядоченным, организованным (как «библиотека»), и притом реален в своей совокупности и в силу совокупности. Он, коллектив,—субъект совокупного действия, которое по своей психологической природе есть не что иное, как общная субъективная реакция коллектива на все объективно совершающиеся явления природы и его собственной социальной жизни и истории. Каждый исторически образующийся коллектив – народ, класс, союз, город, деревня и т. д.– по-своему воспринимает, воображает, оценивает, любит и ненавидит объективно текущую обстановку, условия своего бытия, само это бытие – и именно в этом его отношении ко всему, что объективно есть, выражается его «дух», или «душа», или «характер», в реальном смысле.
Из сказанного следует, что и материал психологии в этом смысле – всецело объективен. Мы на «выражается» и на «выражение» смотрим серьезно как на такие, т. е. как на объективацию совокупной субъективности. Мы должны научиться «заключать» от объективного к соответствующему субъекту. Ошибка не только Вундта, но и всякого психологизма – в том, что он на такого рода объективацию смотрит как на осуществление идеи. Это-то и дает психологистам повод говорить, будто всякий продукт культуры есть психологический продукт. Осуществление идеи, в действительности, объективно, как и сама идея —объективна,—и здесь психологии делать нечего,
480
здесь – объективные же законы. Но она осуществляется субъектами, и только через это в объективацию всякого труда и творчества вносится субъективное и психологическое. Любое явление культурной и социальной жизни может рассматриваться как необходимое осуществление законов этой жизни, но идея проходит через головы людей, субъективируется, и в самое объективацию вносится субъективизм. Культурное явление как выражение смысла объективно, но в нем же, в этом выражении, есть сознательное или бессознательное отношение к этому «смыслу», оно именно – объект психологии. Не смысл, не значение, а со-значение, сопровождающие осуществление исторического субъективные реакции, переживания, отношение к нему – предмет психологии. Сфера жизни – объективно заключена и замкнута, окружающая ее психологическая атмосфера – субъективно колебательна. Нужно уметь читать «выражение» культуры и социальной жизни так, чтобы и смысл их понять, и овевающие его субъективные настроения симпатически уловить, прочувствовать, со-пережить. Труд и творчество субъектов в продуктах труда и творчества запечатлены и выражены объективно, но в этом же объективном отражено и субъективное. Реально – единый процесс, научные объекты – разные. Физическая вещь состоит из материала природы, сколько бы мы ни меняли ее форму. Сделаем мы из дерева статую или виселицу, природно изменилась только форма. Но как общественное явление, как продукт труда и творчества, как товар и предмет потребления эта просто «чувственная вещь» становится, по выражению Маркса, «чувственно-сверхчувственной» – она, говорит он, «отражает людям общественный характер их собственного труда в виде вещественных свойств самих продуктов труда». Не нужно даже быть во что бы то ни стало, за совесть или за страх, материалистом, чтобы признать истину и констатируемого факта, и вытекающего из него методологического требования.
Если всю сферу осуществляемого труда и творчества признать, как того требует антипсихологизм, объективною, то может показаться, что на законную долю психологии остается слишком мало,—разве только чисто формальные, со стороны субъекта, определения реакций, вроде: быстро – медленно, сильно – слабо', богато – бедно и т. д. И часто, действительно, социально-психологические характеристики ограничиваются подобного рода указаниями (ср. банальные: «итальянцы реагируют живо, быстро, голландцы – медленно, вяло» и т. п.). Однако если
Введение в этническую психологию
481
не ограничиваться подлинными банальностями, то скоро мы увидим, что элементарнейшие характеристики, вроде «решительный», «стремительный», «страстный» и т. д., уже требуют психологического анализа не только формального. То, что мы назвали «реакциями» коллектива, его отношение к вещам и людям, его «отклики» на жизнь и труд —уже беспредельная область чувств, настроений, характеров, ибо вся социальная и этническая психология в основном своем есть социальная характерология. Но даже так называемые предметные переживания явно подлежат психологическому анализу как со стороны состава, определяемого именно объективными социальными условиями времени и места, так и со стороны преимущественного характера их. И нужно признать, что область социально-психологического исследования в итоге не только не уже области индивидуально-психологического изучения, но даже шире ее. Кроме того, что социальная психология с самого начала ставит общий и основной вопрос об определяющей среде, самый материал изучения здесь богаче. В конце концов, общая психология лишь о выражении эмоций трактует сколько-нибудь обстоятельно, как об особом (рядом с интроспекцией) источнике изучения. Да и то она ставит перед собою не объективное отпечатле-ние субъекта в продуктах его творчества, а лишь его природный анатомо-физиологический аппарат. Выражение прочих душевных переживаний объективно изучается ею лишь по ограниченному материалу общей психофизической экспрессии. Напротив, социальная и этническая психология располагают в изобильном богатстве индивидуально и типически разнообразным материалом бесконечного числа самих продуктов творчества, несущих на себе субъективную печать времен, народов, стран, лиц. И дело тут не в эмпирическом самоограничении исследователя, а в задачах самого исследования. Для общей психологии экспрессия культурно-социальных продуктов труда и творчества в лучшем случае только пример общего, известного из прямого психофизического наблюдения. Для социальной психологии существенны и интересны не только временные и пространственные разнообразия продуктов и их субъектов, но еще – что самое важное – систематическое распределение их по социологическим категориям (класса, профессии, экономических группировок, правовых образований, религиозных объединений, бытовых установок и т. д.).