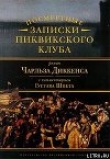Текст книги "Сочинения"
Автор книги: Густав Шпет
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 46 страниц)
Но профессор – бытие относительное и неустойчивое, а начальство и по научным вопросам всегда имеет собственное мнение, разительною приметою которого служит неизменная устойчивость. И вот, когда Авсенев начал свое преподавание в духе Шубертова шеллингианизма, он тотчас испытал соответствующее воздействие «со стороны лиц, внимательно и сочувственно следивших за ходом и направлением философской мысли в академии». Профессор придал своим лекциям «более благоприятный вид», но «все-таки продолжал возбуждать разного рода сомнения и недоумения». Курс был подвергнут еще раз новой переработке.
Эти случаи давления на научную совесть профессора оставляют тем более тягостное впечатление, что они касаются именно науки и только науки. Религиозная и богословская благонадежность Авсенева была вне подозрений, как и его покорность следовать указаниям начальства. Да только это и давало возможность оставаться все-таки на кафедре. По-видимому, Авсеневу пришлось подвергнуться давлению, во-1-х, со сто
роны ректора, впоследствии знаменитого проповедника архиепископа херсонского Иннокентия (Иван Борисов), и, во-2-х, киевского митрополита Филарета (Амфитеатрова) (ср. цит. Сборник, прим. ред.—С. 26—7, 68, 71—3, и читанную на акте в день празднования 50-летн<его> юбилея академии Речь проф. Малышевского.—С. 118—119, где говорится: «Но и самих философов наших архипастырь-молитвенник поучал пленять разум в послушании веры, сдерживал их смелые парения, более доверяя философии Скворцова, чем Феофана», и в прим.: «Известно, что экзамены по философии, производимые м<итр. > Филаретом, иногда
дорого обходились Феофану.–Он только кротко покорялся своей
судьбе, искренно уважая чистоту побуждений, вследствие которых нападали на его философию»).
Об Иннокентии уместно сказать несколько слов. Воспитанник Киевской академии (магистр I курса академии), замечательный проповедник, он был также выдающимся профессором и ректором академии (1830—40). В его ректорство академия стала на ноги; его роль аналогична в этом отношении роли м<итр. > Платона (Левшина) для Московской академии. Его лекции по основному богословию (см. тот же Сборник и Венок Погодина.– С. 26), или, как он сам называл, «религиози-стике», проникнуты серьезным философским тоном и обнаруживают его весьма широкое и понимающее знакомство с философией, включая и современные ему учения (любопытно отметить его ссылки на Шада, 5, 298). Это не мешало, однако, ему в своих лекциях составлять звукосочетания, смысл которых трудноуловим. Напр < имер >, для чего Бог не назвал животных сам, задается он вопросом, а препоручил Адаму? —«Без сомнения для того, чтобы доставить Адаму случай к упражнению своего
ума,–Из наречения имен животных, сделанного Адамом, видно:
а) что Адам имел большую силу ума; ибо маломыслящему Бог не сделал бы столь высокого поручения;...–Многие языки еще и теперь недостаточны к названию всех животных; мы, напр < имер >, часто пользуемся в сем случае именами греческими. Отсюда вытекает то, что ум первого человека имел очень хорошие сведения о царстве животном». И т. п. Как совмещались с этим у него отличные суждения о Канте, Фихте, Шеллинге, Беме и т. д.? Что же оставалось у слушателей, обладавших научными и философскими интересами? И все-таки в то же время, как сообщают историки академии, в 30-х и 40-х годах в ней особенно процветала философия. Это подтверждается и фактами: Новицкий (магистр V курса, 1827—31 г.), Михневич (маг<истр> VI курса, <18>29—33),Гогоцкий (маг<истр> VIII курса, 1833—37), позже Юрке-вич (маг<истр> XV курса, 1847—51). Авсенев (магистр одного выпуска с Михневичем) начал преподавать только с < 18 > 36-го года, Карпов и Новицкий раньше, так что собственно лишь Гогоцкий был учеником Авсенева. Приписать это возбуждение интереса к философии одному Скворцову невозможно1, как по его направлению, так и по его недаровитости. Не
1 Лишь Карпов (магистр II курса, 1821—25) —его непосредственный ученик; сам Иннокентий (маг<истр> I курса, < 18 > 19—23) также Ученик Скворцова, но, по-видимому, весьма независимый. Ср.: Биограф-ическую> Записку о преосв. Иннокентии преосв. Макария, епископа Тамбовского, – Венок на могилу высокопреосв. Иннокентия, архиеп. Таврического, изд. М. Погодиным.-М., 1867.—С. 22-3.
сомненно, этим академия была обязана, может быть, в большей степени Иннокентию, интерес которого к современной философии совпадал с настроениями времени. Есть, напр < имер >, даже указание, что Карпов и Михневич читали в академии эмпирическую психологию по методу, предначертанному Иннокентием (Воспомин <ания > иеромонаха Иосафа.– Венок..., изд. М. Погодиным...– С. 90). Отразившиеся на нем философские учения ждут своего исследователя. Можно найти сходство между разделением способностей у Эшенмайера и Иннокентия (26, 29, 33), но это —слишком общее место, позволяющее делать и другие сопоставления.– Одно время самого Иннокентия хотели заподозрить в «вольномыслии», в склонности к т<ак> наз < ываемому > тогда неологизму (религиозному рационализму), хотя в этом инциденте, кажется, больше личного, чем принципиального1. Против неологизма им написана статья, приводимая архим. Гавриилом в его Истории рус<ской> филос<о-фии>...-С. 121-134.
В таком виде, в каком дошли до нас Записки Авсенева, влияние Шуберта все же видно – и не только в вопросах специальных, но общих2. Полным отсутствием физиологических глав, занимающих видное место у Шуберта, Авсенев резко от него отличается, но то смешение разделив.-шихся в школе Вольфа психологии рациональной (умозрительной) и эмпирической, какое наблюдается у шеллингианцев, налицо и у Авсенева. В этом смысле он ближе к Галичу, чем к Голубинскому, но он самостоятельнее Галича. Ему приписывают «мистицизм», но в точном смысле это едва ли правильно. Vulgo мистицизм обозначает всякую туманность или возвышенный и фантазирующий полет духа, в особенности когда он сопровождается религиозным пафосом. Это, без сомнения, есть у Авсенева. Преобладает все же у него изложение трезвое и эмпирическое. Под психологией он разумеет науку, имеющую предметом «изъяснить являющееся нам устройство и жизнь души из ее чистого существа, дабы привести
1 См.: св. Буткевич Т. Иннокентий Борисов.—Спб., 1887.—С. 58 и сл.; ср. об этом и вообще о столкновении направлений Иннокентия и моек, митрополита Филарета у Котовича, <Духовная цензура в России... >, по индексу.
2 Некоторые суждения Авсенева прямо совпадают с суждениями Шуберта; ср., напр<имер>, его Общее естествословие души (25 <и> сл.) и: г. Schubert Die Geschichte der Seele.—2. Aufl.—Stuttgart; Tubingen, 1833, первые §§. В статьях, помещенных в «Воскр < есном > Чт<ении>» Авсенев, по-видимому, еще ближе к Шуберту (напр., его ст. Суббота в природе и § 8 Шуберта Der Sabbath). Но знакомство его с новою литературою было, по-видимому, широкое; он знает Канта, Фриса, Бенеке, Фишера (базельского, которому следовал Новицкий), Каруса, Бурдаха, Эшенмайера, Гейнрота.
человека в истинное самопознание». Источниками психологии служат не только наблюдение, но также умозрение и Откровение. Умственная психология есть часть философии, «и как часть, свою жизнь получает от целого». Психологические идеи сличаются с философскими и проверяются по ним, но и обратно, как и у чистых психологистов: без психологического изучения философские теории будут «шатки и мечтательны». Большое место у Авсенева занимает, как и у других шеллингианцев, «история души», которую он делит на три отдела: 1) Видоизменения личности (родовые, видовые и индивидуальные), 2) Безличные состояния и 3) Состояния полного развития. В первом отделе кроме шеллингианцев он пользуется Причардом. Русских он характеризует следующим образом: тогда как у западных народов преобладает начало личности, индивидуальности, в России мы видим слияние племен – характер русский есть характер универсальный; сношения с Востоком внесли в наш характер элемент восточный, но мы питаем сочувствие и к Западу. Медленно у нас зреют науки, но это не недостаток, и предполагает «великую обдуманность, неторопливость и осмотрительность». В философском отношении мы не отличились ничем самостоятельно-оригинальным, но отвлеченные диалектические умозрения, подобно немецким, едва ли примутся на почве нашего духа: «мы с трудом понимаем этого рода философствование». Но едва ли разовьется и эмпирическая философия, подобная айглийской. «Можно гадать, что философия у нас будет иметь характер преимущественно религиозный». В отделе об естественном развитии души, по вопросу об ее происхождении, Авсенев, возражая последовательно против теории предсуществования, креаци-анизма и траду<к>ционизма, во всех находит истинное и хочет примирить их в одном определении.
Авсенев – особенно на первых порах – в увлечении Шубертом отклонялся от того общего направления, которое принимала духовная философия. Теистические обязательства этой философии предопределяли ее следование образцам Якоби, Эшенмайера и под<обных>. С другой стороны, традиция связывала с Вольфом. Авсенев уклонился к Шеллингу, забывал о Вольфе и, в сущности, был Для нас продолжением «светского» Галича и его усовер-шением, потому что даже с уступками тому же Эшенмай-еРу, Фишеру и под<обным>, с одной стороны, Фрису 11 эмпиризму, с другой стороны, Авсенев оставался менее
эклектическим и более самостоятельным, чем Галич. Для теизма открывались перспективы дальнейшего движения: Баадер1 и Шеллинг положительной философии. Но с ними мы встретимся в другой обстановке, птенцы же Киевской духовной академии вылетали из своего гнезда, чтобы найти место для новых и иных песен.
Конечно, и в университетах требовалась политическая и религиозно-нравственная благонадежность, но это было только общее требование, и здесь не было того специального обязательства, которым была связана философия в духовной школе. Проект устава духовных академий формулировал ясно и требовал категорически: «В толпе разнообразных человеческих мнений есть нить, коей профессор необходимо должен держаться. Сия нить есть истина евангельская. Он должен быть внутренне уверен, что ни он, ни ученики его никогда не узрят света высшей философии, единой истинной, если не будут его искать в учении христианском, что те только теории суть основательны и справедливы, кои укоренены, так сказать, на истине евангельской.–Все, что не согласно с истинным разумом Св. Писания, есть сущая ложь и заблуждение и без всякой пощады должно быть отвергаемо» {Чистович К И<стория> Спб. Ак<адемии>...– <С> 192-3).
X
Михневич, Новицкий и Гогоцкий – магистры разных выпусков Киевской духовной академии – перешли: первый в Одессу в Ришельевский лицей, второй и третий– только в 1834 году стараниями Уварова открытый Университет св. Владимира. Иосиф Григорьевич Михневич (1809—1885), однокурсник Авсенева, подобно последнему также как будто симпатизировал шеллингианству и выпустил опыт популярного изложения этого учения2. Но в то же время его определение предмета философии
1 Его цитирует уже Скворцов, ст. о Канте.
2 Опыт простого изложения системы Шеллинга, рассматриваемой в связи с системами других германских философов. – Од <есса>, 1850. Кроме того им напечатаны в ЖМНП статьи: 06успехе греческих философов, в теоретическом и практическом отношениях (1839.– XII), О достоинстве философии, ее действительном бытии, содержании и частях (1840.—II.; Вступит < ельная > лекция в Лицее), Задача философии (1842.—VI) и бесцветный учебник: Опыт постепенного развития главных действий мышления как руководство для первоначального преподавания логики.– Од<есса>, 1847 (2-е, испр., изд.: Руководство к начальному изучению логики.– Од<есса>, 1874).
совпадает с определением ее у Новицкого. Так как Новицкий выразил свои мысли в печати раньше Михневича, с большею полнотою и с пониманием дела, то рождается мысль о прямом заимствовании, тем более что рассуждения Михневича и вообще не отличаются глубиною и тонкостью. Между тем у Новицкого можно обнаружить уже новое, хотя и слабое, отклонение —в сторону гегелизма. Сознательно или бессознательно Михневич отражает это. Дав формальное определение философии как науки, изучающей все и то, что есть во всем, т. е. всеобщие начала, первоначальные формы, вечные законы и последние цели (0 дост<оинстве>...), он раскрывает содержание философии по схеме своего рода феноменологии. Разумная деятельность, как во всем человечестве, так и в индивиде, проходит стадии развития сознания: промышленное удовлетворение потребностей («история находит их [художества и промыслы] в ближайшем потомстве Адама»), появление общественности и гражданственности («ее мы застаем уже у народов первобытного Востока»), изящная искусственность и «просвет идеи истины», когда человек творит науку за наукою и создает, наконец, Науку Наук – Философию, появляющуюся в достигшем полноты сознания греческом народе. «Отсюда видно, что источником философии есть сознание, прошедшее главные ступени своего развития и потом обращающее их в предмет своего исследования. Это обращение сознания на самого себя и есть собственно философия» (О дост<оинстве>06 успех<е>...). Михневич знает, что именно Гегель обратил философию в «науку абсолютного саморазвития мысли или в науку сознания» (Зад<ана философии>...). Как такая, философия – знание не только подлежательное (субъективное), но и предлежательное (предметное), так как знание субъекта познающего не бывает без знания познаваемого предмета. Стремясь в своем ведении все соединить с собою и себя со всем (со-знание, со-вёдение), сознание раскрывает свою деятельность в трех актах: в стремлении от себя к не-себе (от я к не-я, от человека к миру), от не-себя к себе и от мира и человека к первой вине всего, к Богу (О дост<оинстве>ср. 06успех<е>...). Ограничиваясь исследованием возможной, необходимой и безусловной стороны вещей, философия есть наука не эмпирическая, а умозрительная, «выступающая из идей» (О до-Ст<оинстве>...). Определение нимало не мешало автору, с °Дной стороны, видеть главную задачу в решении транс
цендентно-метафизических вопросов о Боге, мире и человеке, а с другой стороны, считать, что «основа всех нащих знаний есть душа с ее силами и действиями (Зад<ача фило-софии>...), и, таким образом, пребывать в том теистически-спиритуалистическом сумбуре, в который легко попасть, но из которого трудно выбраться.
Вопрос об отношении религии и науки Михневич разрешает без особого напряжения ума, заодно перекусывая и запутанный узел о познании Абсолюта. Языческие философы могли ломать голову над отысканием первого виновника вселенной, для нас же Откровение раскрыло эту «таинственную область оснований и начал» (О дост<оинст-ве>...),– «Верховное Начало всего открыло нам себя через свое Слово в полном свете». Если мы сравним современную философию с философией греческой, которая не находилась в связи с Божественным Откровением христианской религии, мы откроем и преимущества философии, основанной на вере, и пределы ограниченного нашего ума, т. е. откроем, «где действует в нас Бог и где человек сам собою» (06 успех<е>...). То, чего недоставало древней философии, из-за того что это была лишь чистая работа ума, есть прежде всего познание свойства Бога быть творцом, а не просто «образователем» материи. Изведав, далее, достаточно внешнюю сторону видимого мира, древняя философия недостаточно проникла в собственный внутренний мир человека и не могла разъяснить для себя также основную тайну первоначального происхождения человека, откуда проистекала неполнота понятий о бессмертии души и способах достижения будущего блаженства. В новой философии привзошел необыкновенный и сверхъестественный элемент – Откровение христианского учения,—и мы теперь вправе заключить, что есть истины, которых ум сам собою никогда бы не познал, и что, след < овательно >, его могущество ограничено. То, чего не мог ум, открыто в слове Божьем и чего не мог сделать человек, то сделал сам Бог. У философии теперь два закона: природный, неписаный, закон ума и закон писаный, положительный, закон Откровения. «Только та философия вводит в святилище истинной мудрости, которая истекает из ума, нимало не удаляясь от Откровения. Она – по духу нашего любезного Отечества, той святой Руси, которая издревле чуждалась мудрований ума, несогласных с заветными истинами Веры. Она – по намерениям нашего августейшего монарха,–Она, нако
нец,—по свойству самого дела, т. е. по духу и смыслу этой науки, которая всегда была и не может не быть в тесной связи с религией». Последнее потому и «наконец», надо думать, что оно —наименее важное. Пожелание выше цитированного проекта выполняется Михневи-чем с избытком, и притом на арене более широкой, чем та, которую прямо имел в виду проект.
Таким образом, Михневич решился на то, на что не решались другие духовные философы. Отвергнутая Кантом возможность познания Абсолютного разрослась после него во всеохватывающую и энтузиастическую проблему. Против этого скептицизма Канта как реакция возник скептицизм, направленный на могущество, приписанное Кантом рассудку, но проблема этим не уничтожалась, а только подчеркивалась. В общем, наша духовная философия не была склонна следовать за решением проблемы у Шеллинга, будучи напугана его пантеизмом. Выход Якоби и Эшенмайера привлекал как выход теистический, но он оставался, как было указано, неопределенным конфессионально. Это, может быть, и придавало философии Якоби «тепловатость и половинчатость», которые возмущали Шеллинга и которые, по его мнению, «погубили наш век». Якоби, утверждал Шеллинг, обманывает многие христианские души и смеется над непосредственным откровением. Шеллинг уничтожил Якобит и Эшенмайера, но положительное решение вопроса от этого не приобреталось. Оставалось или искать нового руководителя, или решать вопрос своими силами. Сохраняя симпатии к Якоби, наша духовная философия попробовала взять в руководство психологию, не особенно вникая в то различие, обусловленное разницею принципов кантианских, шел-лингианских и др., которое образовалось в ее направлениях. Казалось, что психология как наука о сознании, самопознании, душе, человеке становится основою философии, где различий направления уже не могло и не должно быть. Вопрос об источниках познания ею-то и должен быть решен. Скептицизм Михневича, мотивированный только тем, что кроме закона ума существует еще Откровение Слова Божия, где источник познания не нуждается ни в каком анализе, даже на фоне несамостоятельной и бедной нашей философии должен показаться Непонятной скромностью. Между тем, пока антропология j* путавшийся с нею спиритуализм вязли в песках эмпирии, Гегель утверждал сознание на гранитной скале своей
Феноменологии духа. С первого взгляда трудно представить большую противоположность, чем Якоби и Гегель, и тем не менее их связывает в одно вопрос о разуме. Что есть разум, развенчанный Кантом, и что есть рассудок, посаженный Кантом на философский трон, с завязанными глазами и заткнутыми ушами? На заданный вопрос подавали свой голос и было полузабытые, самому Канту известные более по имени, чем по смыслу, Платон и Лейбниц. Разобраться в этом нужно было, и нужно было или составить общий согласованный хор, или слушать кого-нибудь одного. Для немецкой философии характерно было – до раскола гегельянцев или вообще независимо от него – возникновение попыток примирять Шеллинга, Гегеля и антропологию, как, напр < имер >, у Трокслера,– Шеллинга и Платона, как у Аста,—спиритуализм и Гегеля, как у Хр. Вейса,—Лейбница, Якоби и Гегеля, как у Гиллебранда (Io. Hillebrand),—и т. п. В этом же стиле – наш Новицкий.
В то время как Михневич, перейдя в университет, перенес туда свои духовно-академические обязательности, не отличая свойств новой кафедры от прежней, Орест Маркович Новицкий (1806—1884), видимо, почувствовал себя свободнее на новом месте и внимательнее отнесся к его требованиям. Место это было защищено не очень прочно, менее прочно, чем в духовных академиях, где короткое предписание преподавать по Евангелию охраняло бытие, хотя и жалкое, философии. Новицкому, как и прочим, пришлось отстаивать «достоинство» философии и убеждать в ее пользе тех, кто в этой последней только и видел критерий ума и цивилизованности. Впрочем, Новицкий был искренен, потому что, как русский философ, он сам оценивал знание по этому критерию. Но в целом серьезное содержание и тон его Речи, произнесенной на университетском акте 1837 года, таковы, что не было бы несправедливо в этой Речи признать первое русское философское произведение, написанное с истинно философским вкусом, чутьем и сочувственным пониманием задач философии, как в своем роде единственного и незаменяемого вида культурного творчества.
06 упреках, делаемых философии в теоретическом и практическом отношении, их силе и важности, Речь, произнесенная в торжеств < енном > собрании Имп < ераторского > Унив < ерситета > св. Владимира, 15 июля 1837 г., о<рдинарным> п < рофессором > философии Орестом Новицким.– Киев: В * Универ<ситетской> Типографии, 1838.—Другие
труды Новицкого: О разуме как высшей познавательной способно-сти, – ЖМНП.—1840.– VIII, статья целиком вошедшая в Руководство к опытной психологии. – К < иев >, 1840; Руководство к логике. – К < иев >, 1841 (составлено, как и Руководство по психологии, по Фридр. Фишеру, но воспроизводящее последнего в более свободной переработке, хотя и с незначительными в общем оригинальными дополнениями). Логика есть наука о естественных законах мышления, «часть психологии» и как бы ее продолжение, она имеет характер «естествоиспытания» и есть «даже естественная наука». Напомню, что по идее самого Шеллинга логика есть эмпирическое учение (Vorles
Содержание философии, по Новицкому, заложено в глубине нашего собственного духа. Рождаясь в нем, оно освещает его новым светом ведения – светом отчетливой мысли. Выступая из себя, сознание ограничивается сторонними себе предметами познания и, отражаясь от них к себе, ставит себя центром, а прочие предметы – окружностью познавания. То и другое отражается в нашем сознании только идеально, а не реально, потому что действительное бытие вещей не зависит от нашего сознания и познания. Поэтому сознание изначально полагает нечто высшее себя и мира, в чем нет ни центра, ни окружности, что есть единая бесконечность.
Ср. Гегель: Die Philosophic betrachtet zuerst das Logische, reines Den-ken, das sich sodann entschliefit, als Natur ausserlich zu sein; das Dritte ist der Geist; а с другой стороны, Шеллинг, напр < имер >, Dieses (тожество идеального и реального) aber ist die Idee des Absoluten, welche die ist: dafi die Idee in Ansehung seiner auch das Sein ist. So dafi das Absolute auch jene ob-erste Voraussetzung des Wissens und das erste Wissen selbst ist (V,
216).—А. И. Введенский утверждает: «Новицкий–находился под
влиянием Фихте» (Судьбы филос<офии> в России: Филос < офские > очерки.-Вып. 1.-<Спб.>, 1901.-С. 17). Колубовский (1890 г.) высказывает одно за другим два сходных, но не тожественных суждения: Ч «Фихте нашел себе некоторый отголосок в Новицком», 2) Ю. Новиц-Кии– – ~ стоит главным образом под влиянием Фихте-старшего...» 36—7). Второе, по крайней мере, не возвышает Новицкого, первое не умаляет Фихте...
Как наука обо всем, как наука наук философия исключает все частное и имеет своим содержанием лишь общие Формы и законы бытия. Как всеобщие, они не могут
быть взяты из опыта, а их первоначально созерцает в себе наш разум, как собственную природу, созерцает, как закон единства в собственных идеях. «Мир идей есть родина философии», ибо философия требует непреходящего, вечного, неограниченного, беспредельного, неизменяемого, существенного, а это все отражается только в идеях1. Опыт и умозрение действуют всегда неразлучно, поскольку одно дает содержание, «были», а другое – формы, «законы», одно – действительность, другое – единство и необходимость. Темные, в чувстве заложенные начатки возможного разумного ведения, при обращении сознания к себе самому, при рефлексии, раскрываются рассудком, как органом философского познания, и обнаруживаются в высшем свете отчетливого сознательного знания. Но рассудок есть разлагающая и синтетически лишь формальная способность, со стороны же содержания только самодеятельный разум всегда и везде един, сам с собою согласен и по существу неизменчив. Встречая в философии противоречие взглядов, разнообразие мнений и борьбу систем, мы не должны этим поражаться, потому что «противоположность и борьба составляют существо самого сознания нашего». Только в целом своего развития, как дело человечества, философия может быть представлена как единая и стройная система. Новицкий прямо указывает на Гегеля. Как по внутренней форме, по «внутренней связи и диалектическому движению мыслей» философия отражает единство и систему разума, так и по внешней форме изложения в своем строгом методе и непреклонной математичности философия есть отражение логических форм рассудка.
Вопрос о вере и знании решается Новицким более в духе свободно-философском, чем преданно-богословском. Он убежден, что ни религии, ни государству философия не может быть вредна или опасна, и он цитирует известные слова Шеллинга: что это было бы за государство и религия, для которых философия была бы опасна? Будь это так, вина должна была бы пасть на самое религию и на государство! За философией должны быть признаны самостоятельность и свобода мышления. «Буйное своеволие, как исчадие ада, есть плод неразумения свободы», и в самом разуме проявляется неотразимое требование веры в высочайшее существо. Все великие люди,
1 Ср.: Schelling, V, 254-255.
и в особенности замечательнейшие философы,—представители своего народа, они доводят до сознания то, что темно и безотчетно таится в духе народном. «Не философы развратили народ и довели его до ужасов вольнодумства и своеволия, а народ развратил и портил тех, которые по дарованиям своим могли бы быть философами». «Безопасность» философии, однако, еще не доказывает ее полезности. И Новицкий отмечает факт, который он считал характерным для своего времени, но который в действительности оказывается признаком, доминирующим в истории русской культуры: «Мысль о бесполезности философии до безмерности усилилась в настоящее время, когда пользу поставляют выше всего, стремятся преимущественно к пользе и пользою измеряют и оценивают все». Для практиков, соглашается он, философия совершенно бесполезна, но, спрашивает, напоминая своим вопросом еще более острый вопрос Лессинга, к чему самая польза? Какая цель ее? «Исключительное стремление к пользе,– восклицает он,– становится, по своим непременным следствиям, не говорю бесполезным, а вредным и гибельным для духа народного!»
Из разъяснений Новицкого видны и причины, почему русская культура пребывает утилитарной: это —принадлежность определенной стадии культурно-исторического развития. Идея полезного, утверждает он, есть только первое достижение человечества в борьбе с враждебными силами природы. Идея правды стоит уже выше. Еще выше – идея прекрасного. Но и этого недостаточно – выше мира искусства стоит идея Бога и естественной религии. А человек все-таки чувствует еще новую и высшую потребность: отдать самому себе отчет в предметах своего ведения. За естественною верою следует углубление в себя, «вникание», рефлексия, что знаменует собою пробуждение в человеке идеи истинного. Тут человек мысли своей подчиняет собственную свою мысль, тут рождается философия в его духе, и тут мысль достигла своего крайнего естественного предела. Удивительно ли, спрашивает Новицкий, что для искателей пользы философия кажется решительно бесполезною? Но последовательность требует освободить философию и от того вида полезной службы или служения, который предписывается ей не-естествен-ною религией. И Новицкий высказывает свое суждение недвусмысленно, чем дает философски достаточный предварительный ответ на вопрос об отношении откро
венной религии и знания. Если в философии мысль достигает своего предела, то что могла прибавить – воспользуемся противопоставлением хотя бы Михневича – к языческой философии философия христианская? Новицкий допускает, что философия может озариться высшим светом откровенной религии, «но это не есть степень ее собственного развития, а дивная Божественная помощь человеческому роду» (39, курс. мой).
Таким заключением философская роль религии, в сущности, сводится лишь к праву ее задавать философии вопросы, но не разрешать их за нее. Этим сам собою устраняется и богословский скептицизм, так старательно прививаемый философии богословием. Но этим, конечно, еще не разрешена положительная проблема разума. В ее разрешении Новицкий, однако, не остается на достигнутой им принципиальной высоте. Он спускается за разгадками этой проблемы в психологию, и тем не только побуждает других если не к богословскому, то к эмпирическому сомнению, но и сам теряет то чувство независимости философии, которым проникнута его речь, и в особенности последнее приведенное нами разграничение.
В чтении курсов по психологии Новицкий, по собственному объяснению (Иконников. Словарь...– <С. > 513), следовал сперва Эшенмайеру, а затем руководствам Кару-са, Гейнрота и Фишера (Фридриха, базельского). Его Руководство составлено по Фишеру, на что он и указывает, с некоторыми незначительными добавлениями, и лишь его статья О разуме вошла в книгу как оригинальная и самостоятельная глава. Учебник Фишера сам по себе обладает особенностями, которые должны бы заставить заинтересоваться им,– напр < имер >, уже упоминавшаяся его теория чувственного восприятия1, как «выступления сознания», или глава о понимании, как непосредственном специфическом акте, сопоставляемом с восприятием (проблема, к которой мы только теперь подходим как следует), и т. п. Самостоятельная глава О разуме представляет для нас, по указанным только что соображениям, исключительный интерес. Разум, в отличие от формально-логического рассудка, есть способность созерцать и уразумевать предметы мира сверхчувственного или духовного. Созерцания разума называются идеями. Разумное познание