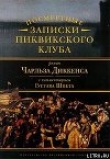Текст книги "Сочинения"
Автор книги: Густав Шпет
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 46 страниц)
Очерк развития русской философии
любивый быт немецкого мещанства пускал прочные корни на девственной почве ленивого восточного варварства. Время от времени хозяева, забыв долг гостеприимства, громили гостей, но мало-помалу конвертировали изречение собственной мудрости: кого люблю, того бью, и стали кое-чему у битого учиться. Напрасно, препровожденный ласковым царем в азиатскую Россию, проповедывал самобытное рождение России утопический Крижанич: из Тобольска в Москву было плохо слышно – и к лучшему, потому что иногда он хватал через край. Не только против новшеств политических и вероисповедных он восставал: «Греки научили нас некогда православной вере; немцы нам проповедуют нечестивые и душепагубные ереси. Разум убеждает: грекам быть весьма благодарными, а немцев избегать и ненавидеть их, как дьяволов и драконов». И не только «телесная распущенность» и изнеженный быт иностранцев его отталкивают: дома, мол, их располагают к изнеженности, ибо содержатся в такой чистоте, что гостю и плюнуть на пол нельзя, чтобы служанка тотчас не подтерла,– «не будем подражать чересчур заботливой и не жалеющей труда чистоплотности немцев». Он восстает, не жалея также труда, и против западной науки: «Немцы стараются нас увлечь в свою школу. Они навязывают нам под видом наук дьявольские кудесничества, астрологию, алхимию, магию. Они советуют свободные, т. е. философские, знания выбросить на общее употребление и сделать доступными каждому мужику. Греки осуждают всякое знание, всякую науку и предлагают нам невежество. А разум убеждает, чтобы дьявольских кудес-ничеств мы избегали точно так же, как самого дьявола, и признали, что невежество не может произвести ничего хорошего; чтобы к философским наукам мы относились не так стремительно и свободно, как относятся к ним немцы, но чтобы изучали их с тою умеренностью, с какою их изучали и преподавали святые отцы. Ибо святые отцы умеренно излагали и восхваляли философские науки, и потому никто не может отвергнуть философию, чтобы вместе с тем не отвергнуть и отцов святых. Но как всякое почти добро, если будет излишне, обращается во зло, так и философия, если будет общим достоянием целого народа, приносит с собою много вопросов и волнений и многих отвлекает от труда к праздности, как мы это видели у немцев.–Нельзя и философию делать доступною народу, но только благородному сословию и немногим из простолюдинов, специально для того на
значенным, сколько их потребуется для государственной службы. Иначе – достойнейшая вещь профанируется и пошлеет: бисер мечется перед свиньями»1. Что сказали бы на это действительные, не дегенерировавшие греки, об этом Крижанич, вероятно, не думал. Сам он —слишком под влиянием их ориентированных потомков и восточно-православной премудрости. Едва ли бы Россия стала европейскою и возглавила собою славянство, как хотелось Крижаничу, если бы послушалась благонамеренного «разума» Крижанича.
Начавшаяся при Петре европеизация России сказывается в сфере образованности прежде всего тем, что просочившееся уже к нам богословское Ьнание отводится в надлежащее ему русло. Государство, как такое, обращается к науке европейской, светской. Нет ничего при этом удивительного, что сам Петр и его ближайшие помощники ценят науку только по ее утилитарному значению,– таково свойство ума малокультурного. Невежество поражается практическими успехами знания; полуобразованность восхваляет науку за ее практические достижения и пропагандирует ее как слугу жизни и человека. Но наука имеет свои собственные жизненные силы и свои имманентные законы развития. Служение науки человеку, после магии оккультных сил колдовства, алхимии и астрологии, нагляднее всего обнаруживается в опытном и математическом познании природы, с одной стороны, и в систематическом познании человека и его общественных отношений, с другой стороны. Вторая стадия в культуре науки ведет к более углубленному пониманию названных отношений через изучение истории человека в его быте, нравах, творчестве. Еще позже зарождается незаинтересованный интерес к силам, движущим человека, к его душе, мировоззрению, идеям, к его, наконец, сознанию, словом, философский интерес в очищенном, не практическом смысле. Магическое понимание науки здесь путем длинной метаморфозы перешло в эротическое. Поднявшееся до этой ступени культурное сознание задается уже критическим во-
1 Ср.: Вальденберг В. Государственные идеи Крижанича.– Спб., 1912.—С. 268<и>сл. В названном исследовании целая глава (II) посвящена изложению «философии» Крижанича. Из изложения видно, что у Крижанича больше о философии, чем самой философии. В общем, однако, можно сказать, что его мировоззрение соединяет аристотелевскую схоластику с библейским провиденциализмом. Последняя черта, как то и отмечает автор исследования, приводит Крижанича в соприкосновение со старцем Филофеем ( < С. > 57 < и > сл.).
Очерк развития русской философии
просом, что пользы в самой пользе, и открывает более широкие перспективы жизни, самое жизнь видит шире и выше того, «что человек ест», любит науку за бескорыстную радость творчества. В философии высокое культурное сознание находит самого себя, довлеет себе и в практических приложениях не нуждается, ибо все «приложение» философии – ее вольное бытие.
Отдельные умы в своем индивидуальном развитии могут раньше или позже дойти до этой -последней стадии культурного сознания, но для общественного осознания к ней лежит многовековый путь. Русское общественное сознание до сих пор остается полуобразованным. Но у него уже есть история, и те предварительные стадии им последовательно пройдены. История нашей науки началась с Петра, но протекала в потемках общественного философского сознания. Лишь к концу второго века после Петра стало светать, отдельные и одинокие вершины зарделись золотым светом, умы стали просыпаться и разбрелись для дневной работы. В этом – история русской философии. Философское сознание как общественное сознание, философская культура, сама чистая философия как чистое знание и свободное искусство в России – дело будущего.
II
Оглянемся на ближайшие условия, при которых прозябала философия в потемках русского невегласия.
Паисий Лигарид, прибывший в Москву при царе Алексее (1660), имел случай высказать такое мнение: «Искал я корня сего духовного недуга, поразившего ныне Христо-именитое царство Русское, и старался открыть, откуда бы могло произойти такое наводнение ересей, на общую нашу пагубу,—и, наконец, придумал и нашел, что все зло произошло от двух причин: от того, что нет народных училищ и библиотек. Если бы меня спросили – какие столпы церкви и государства? Я бы отвечал: во-первых, училища, во-вторых, училища и, в-третьих, училища». И он обращается к царю с убеждением: «Ты убо, о пресветлый царю, подражай Феодосиям, Юстинианам и созижди зде училища ради остроумных младенец, к учению трех язык коренных, наипаче: греческого, латинского и словенского...»
В ту пору источник крамолы видели в иноверье и расколе, и когда, наконец, высшее училище было открыто, ему были предоставлены все средства для искоренения
2-
ересей. Ему была предоставлена, монополия на обуче ние – заводившие без разрешения Академии домашних учителей языков подвергались конфискации имущества. Ему было вменено в обязанность наблюдать за образом мысли и жизни и своих, и иноверцев, обращение коих в православие поощрялось угрозами ссылки в Сибирь и костра: «без всякого милосердия да сожжется». По словам историка (Соловьева), это было не училище, но «страшный инквизиционный трибунал» – ибо как тогда «наблюдали», показывает процесс последователей Якова Беме (Кульмана и Нордермана), которых изжарили в Москве (через два года по выходе в свет Principia Ньютона и за год до Опыта Локка1). Наконец, училищу дано было право преподавать – даже Аристотеля, но только «согласно с религией и православием».
Образовательные задачи Славяно-греко-латинской академии таким образом упрощались до крайности. Но при Петре эти задачи потеряли всякую остроту и всякий смысл. Не случайно, что академия уже в конце XVII века падает, учителя не справляются со своим делом и предпочитают своей деятельности занятие «справщиков» в типографии. Для государства нужны были новые школы, и не с отрицательными только задачами, нужны были положительные столпы и опоры. Цифирные, навигацкие, артиллерийские, инженерные школы Петра2 были призваны к этой роли и удовлетворяли до некоторой степени нужды государства. С другой стороны, по непосредственному распоряжению Петра появляется ряд научных переводов по вопросам самой государственной практики как такой. Переводятся и отчасти печатаются книги из области наук юридических и политических. Возникают частные библиотеки (напр<имер>, гр. Матвеева, Брюса, кн. Голицына), содержащие иностранные книги по всем отраслям знания, в том числе и по философии. Но все же школы при Петре создаются только профессиональные. Общее образование по-прежнему могли давать Киевская и Московская академии, а нужды науки ничем удовлетво-
1 В то время как христианский Запад сжигал уже только ведьм... Англичане свою последнюю ведьму сожгли в 1716 г. (законы против ведьм отменены в 1736 г.), а немцы —в 1749 г., когда Канту было 25 лет.
2 См.: гр. Толстой Д А. Взгляд на учебную часть в России в XVIII столетии до 1782 года.—Спб., 1885 (Сб. Отд. русск. яз. и слов.– Т. XXXIII.-N5 4).
Очерк развития русской философии
рены быть не могли. Некультурное отношение к науке правительства порождало такое же к ней отношение и со стороны общества. Как подчеркивает историк нашей Академии наук и самой науки при Петре (Пекарский), подчинение просвещения целям государства заключало в себе нечто непрочное и случайное, неблагоприятное для развития науки в России, так как оно порождало капризный произвол и поверхностность, из которых вытекало легкомысленное и неуважительное отношение к науке, наконец, просто равнодушие к ее успехам, если только она не имела тотчас понятного применения на деле.
Первое положительное влияние самой науки западной выразилось у нас в учреждении Академии наук. Петр велел: «сделать академию». Но так как ни средних школ, ни университетов не было, или, как сказано в указе об основании Академии, «прямых школ, гимназиев и семинариев нет, в которых бы молодые люди началам обучаться, и потом, выше градусы наук восприять, и угодными себя учинить могли», то Петр задумал, учреждая Академию, сразу бить по трем целям и открыть при ней, как высшем ученом учреждении, также высшее и среднее учебные заведения, чтобы «таким бы образом одно здание, с малыми убытками, тое же бы с великою пользою чинило, что в других государствах три разныя собрания чинят».
Величайшие немецкие философы того времени, Лейбниц и Вольф, способствовали предприятию Петра. Лейбниц внушил идею и план. Смерть Петра помешала убедить Вольфа переехать во вновь учреждаемую Академию. Но Вольф участвовал в ее создании и рекомендацией немецких ученых, и подготовкой посланных к нему русских студентов. Непосредственно из его школы вышел Ломоносов—первый русский ученый в европейском смысле, хотя в отличие от европейских ученых и не создавший своей школы.
Науке и Академии Петр хотел предоставить большую свободу и большие права, ибо «науки никакого принуждения и насилия терпеть не могут, любяще свободу» (Регламент 1725 г. – § 4). Однако не только права и свобода, самое существование Академии было обеспечено плохо. Уже при открытии Академии план Петра осуществляется не полностью. В историческом («третьем») классе, который должен был включать в себя, между прочим, также логику, метафизику, мораль и политику, «философским образом учимую» (§ 11), представители последних не
удержались1. Лишь физико-математические науки были сразу представлены хорошо.
В 1725 году в Академию были приглашены: на кафедру математики Герман, Дан, Бернулли, Гольдбах, для химии Бюргер, для физики Биль-фингер, начавший академическую деятельность логикою и метафизикою, для механики Ник. Бернулли, для анатомии и зоологии Дювернуа, по кафедре греческих и римских древностей Байер, для логики и метафизики Мартини, принявший сперва кафедру физики, на кафедру красноречия и церковной истории Коль, на кафедру правоведения Бекен-штейн. В 1726 году прибыли два астронома Делиль и на кафедру механики и оптики Лейтман. Еще до открытия Академии в Петербург прибыл Буксбаум. Наименее удачен был выбор именно Мартини. См.: гр. Толстой Д Л. Академический университет в XVIII столетии по рукопис-н<ым> докум<ентам> Архива Акад<емии> Наук.—Спб., 1885 (Сб. Отд. русск. яз. —Т. XXXVIII.—N5 6). —Бюргер умер в 1726 г., Коль и Мартини были уволены в 1727 и 1728 годах, а в 1729 и 1731 —Буксбаум и Грос. В < 17 > 31-м же году уехали Герман и Бильфингер, а в < 17 > 33-м– Даниил Бернулли. В 1737 был уволен Байер. Ученый уровень Академии к этому времени сильно понизился; новые академики уже не стояли на высоте первых, за исключением знаменитого Леонарда Эйлера, назначенного в < 17 > 37-м году адъюнктом высшей математики (по рекомендации Дан. Бернулли), в <17>31-<м> г. занявшего кафедру физики, на место Бильфингера, а в < 17 > 33-м, после отъезда Бернулли, кафедру высшей математики. (Там же.—С. 10—11).
Имена Эйлера и братьев Бернулли уже были достаточной гарантией того, что наука была отдана в руки истинных ученых, вдохновлявшихся знанием, а не службою людям. Не так смотрела на дело среда и не того ждала. Духовенство, отставленное от роли интеллигенции, которую оно играло в московском государстве, ревнительно принялось доказывать свою отвергнутую компетентность, взяв на себя миссию охранения доброй нравственности и экономной государственности. В век солдатских переворотов, цариц и фаворитов, в век выскочек, опьяненных властью и самодурством, это было почином своевременным. Особенного бесстыдства достигло охранительство в царение Елисаветы Петровны. Цензура невегласов одинаково простиралась и на науки естественные, и на науки
1 Как видно из Протоколов Заседаний конференции Имп < ераторской> Акад<емии> Наук с 1725-1803 гг. (См.: Т. I. 1725-1743.-Спб., 1897), с ноября 1725 г. и по март 1727 Grossius и Martinus прочли – первый 6 докладов на 4 темы морального содержания, второй 5 докладов на три темы логического и одну тему метафизического содержания (de principio indiscernibilium Leibnitiano).
Очерк развития русской философии
Ъ1
исторические. «Припадая к стопам», Синод молил императрицу воспретить распространение идей, «ведущих к натурализму и безбожию». Гуманитарные науки были еще раньше (1734 г.) исчерпывающим образом оценены Синодом в его резолюции на просьбу Академии о разрешении издавать отечественные летописи и хронографы: «рассуждено было, что в академии затевают истории печатать, в чем бумагу и прочий кошт терять будут напрасно, понеже в оных книгах писаны лжи явственныя».
К этому нужно присоединить еще и другие обстоятельства, мало благоприятные для свободной науки. С одной стороны, грубое бюрократическое управление Академией, не регламентированное, однако, никаким уставом. Устав Академия получила лишь в <17>47 году. Но только с <17>66 года (директорство гр. В. Г. Орлова) Академия начинает жить сравнительно более свободною и самостоятельною жизнью, а сколько-нибудь нормальный, западноевропейский порядок в ней утвердился лишь в начале нового века (устав 1803 г.). С другой стороны, Академия страдала от отнюдь не научных ссор и разлада внутри. С охранением веры сплелось охранение национальности. Сам Ломоносов, вводивший в университетский регламент требование: «духовенству к учениям правду физическую для пользы и просвещения показующим не привязываться, а особливо не ругать наук в проповедях», в националистическом увлечении не всегда сдерживался соображениями независимости науки. Завещанная Петром свобода науки оставалась такою же непонятностью, как и сама наука.
Вследствие всей совокупности и внешних и внутренних условий жизни Академии, словесно-исторические науки испытали в ней особо превратную судьбу. Они то исключались вовсе из «классов» Академии, то опять вводились, но замирали под давлением ненаучных обстоятельств. Не сразу они заняли подобающее им место. Но все же заняли, и лишь для философии ничего не было сделано. Правда, в XVIII веке, пока при Академии существовали университетские курсы, там преподавалась какая-то философия, но устав < 17 > 47-го года настоятельно требовал от профессоров философии, чтобы они не учили ничему противному православной вере, добронравию и форме правительства. Профессоры должны были представлять в канцелярию конспекты своих лекций для суждения о том, не уклоняются ли они от ученья правое
лавной веры и не сомневаются ли они в славном состоянии государства1.
Только учреждение Московского университета ввело философию в постоянный состав высшего преподавания. Однако и здесь ее влияние на общественное сознание оказывалось ничтожным, потому что проходившие через университет единицы в подавляющем большинстве смотрели на прохождение ими курса как на тяжкую повинность, затем лишь открывавшую доступ к приятным и прибыльным государственным и военным должностям. Университет был открыт не для науки. Не без гордости панегирический историк Московского университета подводил итог столетнему его существованию: «Он обречен был с самого начала на обучение молодых людей и на приготовление их к службе государственной по всем ее отраслям. Вся история его есть история постоянного, полезного и верного служения этой государственной цели» (Шевырев).
Более действительным средством – так как оно простиралось на более широкий круг —для философского воспитания общественного сознания могла бы быть книга. Неразработанность русского литературного языка, отсутствие научно подготовленных людей, отсутствие научной терминологии, невежество читателя, не понимавшего, зачем ему данная книга, и не знавшего, какая книга ему нужна,—все это стояло на пути этому средству духовного просветления России. Русская художественная литература героически боролась с кирилло-мефодиев-ским наследием в языке, и когда воссиял Пушкин, болгарский туман рассеялся навсегда. Хуже дело обстояло в науке. За отсутствием своего языка долго еще пришлось пользоваться языками чужими, а переводная литература тем медленнее переходила к настоящему русскому языку, что значительную часть работников для нее постайляла духовная школа с ее понятной склонностью к пользованию языком церковного обихода. Петр усердно поощрял к переводческой деятельности; Академия могла только поощрять усердие самих переводчиков. Сперва «Российское собрание» (учрежденное бар. Корфом), превратившееся, по словам митрополита Евгения, в «переводческий департамент», с трудолюбивым Тредиаковским, затем
1 Об отсутствии при академическом университете действительных занятий вообще см.: гр. Толстой А– <А.> Взгляд... —С. 8—13.
Очерк развития русской философии
(при Екатерине —1768 г.) «собственная шкатулка» императрицы, вдохновлявшая, однако, не столько переводчиков, сколько директоров Академии, руководивших «комиссией для переводов», и наконец (с 1783 г.) «Императорская Российская академия» (в 1841 г. присоединенная к Академии наук, как «Отделение русского языка и словесности» ') – все эти учреждения до конца века успели выпустить огромное количество переводов. Но все делалось без смысла и без толка. Сперва выпускался всякий хлам, долженствовавший знакомить со «светскостью», а затем с каторжным усердием переводили чуть ли не всех подряд классиков. Трудно припомнить сколько-нибудь известного греческого или римского автора, имя которого не стояло бы в списках переведенных или заказанных к переводу книг2. Но кому, кроме переводчиков, это было на пользу? Отпечатанные экземпляры кучами валялись в типографии и на складах, сбывались под макулатуру или сжигались. Читателя не было. Но —что, может быть, было еще важнее – языка не было. В. Н. Карпов, переводчик Платона в XIX веке, сам в своем переводе не освободившийся от высокого «словено-российского» стиля, в оправдание того, что переводчики Платона в XVIII веке (Пахомов и Сидоровский) выражались «слишком педантски, без нужды облекая мысль философа в славянские формы», и яснее видели и выдерживали «значение слов, нежели мысли»,– справедливо задается вопросом: «с тогдашним русским языком можно ли было сделать что-нибудь удачнее?» В этом, думается мне, вся суть. Россия не вышла еще из того состояния, когда у народа нет своего литературного языка.
1 Об обстоятельствах, при которых произошло присоединение, см.: Сухомлинов М. И. История Российской Академии.—Вып. VIII.– <1887>._с. 361-362; 489-492.
2 См. эти списки у Сухомлинова. – История Российской Академии.-Вып. 1.-Спб., 1874.-С. 346-351.
3 До какого отчаяния доводил в XVIII веке наших переводчиков «недостаток слов в изображении терминов», свидетельствует, напр<и-мер>, такое заявление: «Сей недостаток так было меня тронул, что я начатый уже труд мой рассудил оставить; однако потом, следуя других совету, что лучше хотя малым чем отечество пользовать, нежели ничем, пРедприял оный совершенно кончить».– Основания умственной и нравоучи-}пелъной философии обще с сокращенною историею философическою, сочиненные
оанном Готтлобом Гейнекцием,–. – с латинского языка на российский переведенные. Печатаны при Императорском Московском Университете 1766 году. См. Предисловие к благосклонному читателю, ad fin.
Высшие сферы, однако, во второй половине века нашли для себя язык. В XVII веке спорили о пользе и безопасности языков греческого и латинского. Этот спор не был спором о двух культурах, а о двух богословских направлениях – «пришел, – говорит русский историк, – правитель, который на исторический вопрос, которому из обоих языков господствовать в политическом развитии русского общества, отвечал: ни тому, ни другому, – и заговорил по-немецки и по-голландски» (Ключевский). С тех пор у нас установилось «немецкое влияние». Оно затушевывалось в моменты националистического подъема, хотя как-то таинственно самый национализм русский бывал окрашен в черно-бело-красные цвета, и оно кричало о себе в моменты индифферентизма или торжества интернационализма—и на чистом немецком, и на испорченном немецком.
Как известно, во второй половине XVIII века немцы трудолюбиво подражали французам во всем, что касается светскости и просвещения. Мы стали также подражать французам – французы на языке русского народа стали также «немцами». У Фридриха его французские друзья бражничали и ночевали, мы были скромнее —у нас на троне была царица,—но в переписке с французскими «философами» и мы состояли. Правительство выполняло взятую на себя роль интеллигенции и «просвещало». Получалось то, что должно было получиться. «Просвещением» забаррикадировали себя от серьезной науки и от философии. Получился Радищев – прототип той оппозиционной интеллигенции, которая сменила в русской истории интеллигенцию правительственную. Как будто для крайнего контраста Ломоносову создала его история и тем дала прообраз будущего взаимоотношения науки и «интеллигенции». Один поехал в Европу, учился, чему нужно было, вернулся и стал учить tomv, что никому не нужно было, и только к 200-летнему юбилею его потомки догадались, кто у нас «собственный Невтон». Другой тоже ездил в Европу, научился тому, чему не учили, и не научился тому, чему учили, —через полтораста лет благодарное потомство признало в нем «первого русского революционера».
В XIX век, таким образом, мы вступили все в том же состоянии всеобщего невегласия. Правительственная интеллигенция, как бы в искупление греха цареубийства, наложила на себя либеральную эпитимию. «Молодые лю
Очерк развития русской философии
ди» снова угонялись «за границу» учиться. Едва успев научиться и никого не успев научить, они подпали под бичи отечественного просвещения. Но уже зачиналось что-то новое. Европа стремилась проникнуть на восток путями, сверху нерегулируемыми. Безопасность государства требовала закрытия всех путей. Спешно сооружались шлагбаумы, и к охранению дорог была призвана вновь «вера». Мерещился в одеянии еллинской мудрости бес. Философия была объявлена врагом человеческого рода, чертом, источником всяческой крамолы. «Служить людям» она могла только через посредство исключительно осененных христианскою благодатью; в руках непосвященного она оставалась в своем исконном естестве исчадия адова. Когда «молодых людей» еще только отправляли за границу, начальство предупреждало в своей инструкции (1808 г.) об особой зловредности философии, ибо она вела к «опасности быть рассказчиком пустых умствований или бессмысленным распространителем мистических заблуждений». Осмысленное распространение глупостей вскоре затем было признано делом, государству полезным. Обретшие мистическую истину могли поучать самого Господа Бога и с пользою просвещали русский придел в Его Церкви.
Начало века ознаменовалось открытием новых университетов. Их устав (1804) прямо привлекал дворянских детей обещанием чинов. Так же оценивало значение университета и само дворянство – просвещенный слой нации. Как и за сто лет перед этим, на науку смотрели с точки зрения утилитарной. Роммель, немецкий историк, пробывший несколько лет в Харьковском университете, пишет в своих Воспоминаниях: «Почти вся молодежь смотрела на занятия как на ступень к высшим чинам по службе; –классные чины прокладывали дорогу к высшим
офицерским местам, особенно в военное время.– – – Везде выказывалось преобладающее стремление Русских к практическим наукам, в особенности к математике, в которой они указывали изумительные успехи. Зато понимание высшей философии и филологии было почти недоступно им»1. Таких наблюдений можно было бы назвать немало. Они делались приглашенными на ка-
1 Пять лет из истории Харьковского Университета.—Воспоминания пРоф– Роммеля о своем времени, о Харькове и Харьковском Университете (1785-1815)._Хар<ьков>. 1868.
федры иностранцами, они делались и более просвещенными отечественными наблюдателями, напр < имер >, Карамзиным: «У нас нет охотников для высших наук. Дворяне служат, а купцы желают знать существенно арифметику или языки иностранные для выгоды своей торговли», или напр < имер >, митрополитом Евгением: «Открытые университеты едва дышат о сию пору. Ни учить, ни учиться некому... Науки мысленные у нас еще не в моде».
Правительство, с своей стороны, делало все возможное, чтобы не допустить распространения такой моды. На основании изучения русского просвещения в XVIII столетии гр. Дм. Толстой сделал такое обобщение: «Утилитарность, практическая непосредственная применимость учения для государственных потребностей, составлявшие сущность всех начинаний Петра по учебной части, продолжали и после него руководствовать правительством». Обобщение – многознаменательное. Оно сделано тем, кто сам, руководя русским просвещением, держался той же утилитаристической традиции. Толстой был в России единственный радикальный министр народного просвещения, но и он был всецело утилитарен. И не кто иной, как он погубил в России идею действительного образования «практическим непосредственным применением»1. Имея это в виду, его собственное обобщение приходится распространить, а затем и дополнить: распространить на всю русскую историю и дополнить фактом, что не только все правительства и всегда в России смотрели и смотрят на образование с утилитарной точки зрения, но в подавляющем большинстве случаев так же смотрело и смотрит само русское общество.
Возвращаясь к эпохе Александра, мы видим, что в то время как «науки мысленныя» не были в моде, парадоксы какого-нибудь гр. де Местра принимались за чистую монету государственной мудрости, и у нас серьезно помышляли об исключении всего того из преподавания, чего нельзя было основать на Библии. Профессора, и в особенности профессора философии, подвергались самой глупой цензуре, и их жалкое преподавание должно было
1 Здесь не место входить в педагогическую критику толстовской реформы, коренная ошибка которой состояла в том, что она хотела сделать классическое образование, доступное лишь для более способных, общим.
Очерк развития русской философии
протекать в атмосфере доносов, преследований и нелепых указаний на истинное направление, которого они должны держаться. Среди немцев, приглашенных для преподавания философии, были профессора, склонные к кантианству, но что и как они могли излагать, когда у руководителей просвещением страны влияние имели такие суждения, как, напр < имер >, суждение архиепископа Феофилакта (способствовавшего удалению Фессле-ра), который утверждал, что философия Канта заключает в себе двоякую цель: «ниспровержение христианства и замещение оного не деизмом, а совершенным безбожием». Кого могло утешить или чему могло помочь, что этот обличитель обличался другим (митр. Филаретом) в «пантеизме и натурализме»?
Полнее всего, пожалуй, характеризовал условия, в которые попала у нас философия и наука в начале века, умный и образованный С. С. Уваров, впоследствии граф, министр народного просвещения при Николае Павловиче и попечитель петербургского округа при Александре. Человек, хорошо осведомленный по обязанности службы,– вот что он писал в письме к барону Штейну (ноябрь 1813): «Состояние умов теперь таково, что путаница мыслей не имеет пределов. Одни хотят просвещения безопасного, т. е. огня, который бы не жег; другие (а их всего больше) кидают в одну кучу Наполеона и Монтескье, французские армии и книги, Моро и Розенкампфа, бредни Ш... и открытия Лейбница; словом, это такой хаос криков, страстей, партий, ожесточенных одна против другой, всяких преувеличений, что долго присутствовать при этом зрелище невыносимо: религия в опасности, потрясение нравственности, поборник иностранных идей, иллюминат, философ, фран-масон, фанатик и т. п. Словом, полное безумие. Каждую минуту рискуешь компрометироваться или сделаться исполнительным орудием самых преувеличенных страстей. Вот среди какого глубокого невежества находишься вынужденным работать над зданием, подкопанным у основания и со всех сторон близким к падению».
В 1817 году было достигнуто примирение: министерство народного просвещения соединялось с ведомством Духовных дел. Мотивировано было это соединение само-°ьгтно: «Желая, дабы христианское благочестие было все-гДа основанием истинного просвещения, признали мы полезным соединить дела по министерству народного про
свещения с делами всех вероисповеданий в составе одного управления». Настало время торжества Стурдзы, Магницкого, Фитингофа (брата пресловутой бар. Криднер). Составленная А. К. Стурдзою Инструкция (5 авг. 1818 г.) учрежденному при Главном правлении училищ Ученому комитету, направлявшая идеологически работу просвещения России, развивала «коренное правило» действий соединенного министерства: направить «народное воспитание –к водворению в составе общества постоянного