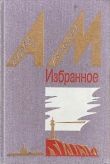Текст книги "Князь Олег"
Автор книги: Галина Петреченко
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 33 страниц)
– Но разве такой всемогущий князь, как ты, Аскольд, не может немного подождать! – примиряюще проговорил Исидор и осекся. Он хотел было разжалобить Аскольда и напомнить ему, скольким народам вынуждена нынче платить Византия дань, но сдержался. Вовремя понял, что, говоря о слабости своей страны, он только оживи г и подхлестнет грабительский интерес Аскольда.
– Чего ждать?! Когда у твоих правителей отберут все хазары, мадьяры, булгары, авары, арабы или еще кто-нибудь? – еще сильнее вскипел Аскольд. – Негоже нам долго ждать! – завершил он и встал. Глядя исподлобья то на Софрония, то на Исидора, Аскольд, чеканя каждый слог, грозно произнес:
– Вот что, презренные лазутчики! Более я не позволю морочить мне голову и откровенно предупреждаю вас: поход на вашу Византию свершу еще раз! Тебя, Софроний, за предательство на кол посажу, а тебя, Исидор, с собой возьму и твою мертвую голову отправлю патриарху. Пусть не забывает, как однажды, под ночь Ивана Купалы, стоя в ладье Аскольда, он уговаривал его отойти с дружиной от Царьграда, за что обещал исправно дань платить! Все! Увести их! – приказал Аскольд и перевел дух.
Никто не перечил киевскому влыдыке, и христианских лазутчиков, не смеющих сопротивляться грозному решению Аскольда, вывели из княжеской гридни. Некоторое время обстановка в гридне оставалась раскаленной. Аскольд возбужденно прохаживался вокруг огромного стола, на котором сейчас не было ни кубков, ни рогов, ни больших черно-лощеных глиняных кувшинов, выменянных Диром у хазарских евреев на полянское зерно, ни знаменитых скифских ваз, вывезенных ратниками Аскольда из царьградского собора.
Бастарн, наблюдавший за ним, понял, что князь действительно зол на обман византийских правителей и всерьез намерен сходить еще раз на греков и отговорить его от этой затеи теперь уж точно никому не удастся.
– Ты ведаешь, что Фотий написал особое письмо и разослал его во многие страны под названием «Окружное послание»? – тихо спросил верховный жрец Аскольда.
– Нет, – рассеянно ответил Аскольд, но, вдруг насторожившись, резко спросил: – Ну и что это за послание?
– Что ты с охотой променял злостное язычество на святое христианство, – небрежно ответил верховный жрец и пытливо уставился на князя.
– Вон как! – изумился Аскольд и даже замедлил шаг от неожиданности, но, чтобы не выглядеть окончательно сраженным этой вестью, он проговорил: – Поторопился Фотий! Поторопился… Ну, ничего! Я остужу его пыл! Я приказал еврейскому мастеру из Пасынчей общины изваять из камня небольшой облик Святовита. Понял, для чего? – засмеявшись вдруг, спросил он жреца.
Весть об «Окружном послании» Фотия так сильно резанула Аскольда по сердцу, что, как он ни старался выглядеть неуязвимым и хладнокровным, все почувствовали, что Фотий сейчас «проучил» прыткого киевского вожака точно так же, как когда-то сам Аскольд «проучил» в Рарожье Рюрика. Аскольд слегка нагнул голову:
– Я приказал изваять облик не только Святовита, но и Перуна, и Сварога для того, чтобы прикрепить их на своих ладьях! Вот с таким убором на ладьях мы и пойдем сначала на ромеев, а потом на греков! Пусть не только Фотий, но и те правители, которым разослал он свое «Послание», сами увидят, как променял я язычество на христианство!
– А ты уверен в победе?
– Пора Византии возвращать нам все то, что столетиями отбирала, – пророчески изрек в ответ Аскольд.
Бастарн понял, что Аскольда надо оставить отдохнуть, и попросил князя отпустить его и Дира до Копыревого конца. Аскольд порадовался прозорливости жреца и без лишних вопросов проводил гостей до порога гридни. А когда дверь захлопнулась, Аскольд вдруг ощутил острую потребность охладиться. Он ринулся в северный угол гридни, где возле священного котелка всегда стояла кадь с ключевой водой, и сунул свою разгоряченную голову прямо в кадь. Сполоснув лицо несколько раз холодной водой и медленно омыв руки, Аскольд немного успокоился.
«До чего ж противно, что этот константинопольский патриарх кому-то хвастается, а может быть, уже и по всему белому свету разнес, что уломал меня, Аскольда, как какого-нибудь глупого шерсточеса, и что вся моя дружина от одного его молебна дрогнула и сразу же променяла своих богов на их Христа! Коварный болтун! Стоял, молил, просил мира, чуть не упал замертво в ладье, дрожащими руками совал дары в руки, а стоило мне уплыть, так сразу возгордился…
Мы для них – варвары! Храмовников своих не имеем, а жрецы да волхвы не умеют плести тонкие сети коварных интриг. Мы слишком открыты для врага! И конечно, все поверят ему, будут твердить одно: князь испугался гнева Христова!.. – Аскольд бросил в сердцах ручник и стал ходить по гридне, без конца повторяя одну и ту же фразу: «Не бывать этому…»
А в это время Бастарн и Дир медленно шли по Берестовскому склону холма, вдоль деревянной стены, огораживающей Киевское городище, и любовались окружающей природой. «Вот она, картина Вечной Весны!»– восхищенно думал Бастарн, глядя на ярко позеленевшие и кое-где уже начинавшие цветение деревья и кустарники. Верховный жрец наблюдал за выросшими, окрепшими, царственными деревьями, которые устремились к своим отцам небесным, благодарно приветствуя их прекрасной кроной. Бастарн перевел взор на разросшиеся, но запутавшиеся друг в друге ветви скрюченных подрастающих поддревков. Вот один из этих колючих, тянущихся к солнцу ростков мог бы быть назван Аскольдом, а вон тот, затаившийся и грустный ракитник, да, этот очень похож на Дира, изумился жрец, и, искоса глянув на рыжеволосого сподвижника киевского князя, увидел, что тот тоже с волнением и любовью впитывает в себя чудо растительной красы.
«Не надо тревожить это царство природы никаким посторонним звуком! – думал Бастарн. – Сейчас в природе происходит то великое волшебство, которое приводит в умиление любой жестокий ум! Жаль, Аскольд этого не видит! Неужели бы не подобрел от созерцания красы цветущей вишни, неужели бы не очистил душу свою от созерцания священного колыхания позеленевших шиповника и боярышника! Как велика, мудра и могуча Природа земли нашей! Здесь и целительная мощь, и краса, и необычайная нежность! Как можно не поклоняться ей! Да разве боги простят людям такое отступничество!» – с воодушевлением подумал Бастарн и, посмотрев повлажневшими глазами на Дира, тихо предложил:
– Возьмем у солнца ту силу, которую оно нам нынче даром дает!
Дир засмеялся.
– А когда солнце плату требовало? – весело спросил он.
– Всегда, когда люди напрасно его силу тратили, – быстро ответил жрец.
Дир задумался.
– Ты хочешь сказать, Бастарн, что все наши походы обернутся нам нашествиями кочевников? – тревожно спросил он.
– Да! – убежденно ответил жрец. – Все в мире устроено просто: добро порождает добро, а зло утраивает несчастья и беды. Ты почаще напоминай об этом Аскольду, может, остудишь его пыл! – посоветовал Бастарн и, сурово посмотрев на Дира, быстро приказал: – А теперь молчи! Я должен проститься с солнцем, пока оно царствует в южной полости неба.
Он резко отвернулся от рыжеволосого волоха и протянул руки с растопыренными пальцами вслед уходящему солнцу.
Бастарн стоял на возвышении, величественный, прямой, в обрядовой одежде друида солнца, с вытянутыми к солнцу руками, и словно старался поглотить часть солнечной энергии, необходимой его телу. Одновременно жрец пытался понять, каким будет солнце завтра. Он, казалось, обнимал солнце, гладил его, ласкал, как ласкают любимое дитя. В эти минуты Бастарн общался с солнцем, как с самым любимым родным существом. Он шептал солнцу добрые призывные слова, и, увидев в ответ розовеющие и широко распахнувшиеся теплые лучи Ярилы, жрец заключил, что солнце услышало его.
Дир, наблюдая за священнодействием верховного жреца, вначале просто любовался его статью, величием и мудростью каждого жеста, затем вдруг почувствовал, что солнце в ответ на ритуальное прощание жреца засветило как-то по-особому. Оно заиграло и словно благословило людей на любовь и добро.
«Где ты был раньше, Бастарн? – проникновенно подумал Дир. – Если бы ты был с самого начала в дружине Аскольда, наверное, князь не был бы так жесток». Волох не сводил глаз со жреца.
В это время Дир вдруг ощутил легкий озноб и странное напряжение в воздухе. Что-то нависло над ним, но он не понимал сути происходящего.
Единственное, что он почти осязал в это мгновение, – появление какой-то непонятной прочной и невидимой стены, возникшей между ним и верховным жрецом. Дир хотел было встать, но вдруг ощутил странную скованность в теле. Кто им сейчас повелевает?
Вдруг напряжение растаяло, и Дир почувствовал, что снова может свободно двигаться.
– Ты слышал… глас богов? – срывающимся шепотом спросил волох жреца.
– И… ты его воспринял?! – удивился Бастарн.
– Да! – изумленно ответил Дир.
– Это наше Белое Братство, которое пытается нас спасти от черных бурь.
– А кто же они?! Почему они невидимы? – не унимался Дир. – И ты часто внимаешь им?
– Да, я постоянно слушаю их волю и стараюсь, как могу, довести ее до сознания Аскольда, но мне это не всегда удается, – признался Бастарн, с горечью глядя на Дира.
Дир сел на землю. Все, что прозвучало из уст верховного жреца, было настолько непонятным и чужеродным, что у Дира зашумело в голове. Он схватился за виски и покачал головой.
– Я знал, что тебе это трудно будет понять, Дир, но ты очень хотел узнать правду! А к ней люди будут еще не скоро готовы! – с сожалением проговорил Бастарн и, подняв обе руки с широко растопыренными пальцами над головой волоха, проделал несколько круговых жестов.
Дир отпустил виски, звон в ушах прекратился, и почему-то появилась необыкновенная легкость и чистота.
– Я думал, что не вынесу этой боли! – пробормотал Дир, не веря еще тому, что такая острая боль так быстро прошла.
Бастарн промолчал.
Но Дир всей душой стремился продолжить разговор с верховным жрецом:
– Скажи, Бастарн, если Белые Братья выполняют волю единого могучего Бога, то… не его ли за самого главного бога и принимают иудеи?
– Ты хочешь знать, какой народ ближе всех находится к истине через свою веру?
– Да! – горячо сознался Дир.
Бастарн внимательно оглядел рыжеволосого сподвижника Аскольда:
– Я тебе, Дир, скажу одно: тот народ ближе всех находится к истине, кто меньше всего себе врет! – жестко проговорил Бастарн. – Я доволен тем, что именно ты находишься рядом с Аскольдом, хотя и знаю, что влиять на него очень трудно… Но это меня все же немного обнадеживает.
Дир, однако, выслушав жреца, отрицательно покачал головой и откровенно заметил:
– Напрасно, Бастарн! Как только я вспоминаю о своих мольбах перед Аскольдом в Царьграде, сразу краснею словно маков цвет! Я же ни в чем не смог ему помешать! – горько воскликнул он и низко опустил голову.
– Поведай-ка мне об этом! – живо потребовал Бастарн, радуясь, что наконец-то можно перейти к тому разговору, ради которого он увел Дира на Берестовые холмы Борисфена. Жрец устроился возле волоха, ласково тронул его за плечо и приготовился слушать.
И Дир, не таясь, рассказал жрецу все о том грозном походе Аскольда на греков, который поверг в ужас правителей Византии и весь народ, защищать который, как правильно рассчитал тогда Аскольд, было некому. Действительно, царь Михаил III со своим войском был в Каппадокии, где горели его владения от рук павликиан[5]5
Павликиане – сторонники движения, возникшего в VII в. в Армении, которые считали, что главная борьба происходит в жизни между миром добра и миром зла. Борьба двух миров – это основа их учения. Бога павликиане считали творцом мира духовного, т. е. мира добра. Весь остальной мир – это творение сатаны, а Церковь павликианами объявлялась его служительницей. В середине IX в. на востоке Малой Азии возникло независимое государство павликиан со столицей в городе Тефрика. В 872 г. оно было разрушено, а сами павликиане частично перебиты, а частично расселились по разным странам.
[Закрыть]. А флот во главе с Вардой уплыл сражаться с пиратами, которые грозились отобрать у Византии прекрасные средиземноморские острова, и находился у Сицилии, где с всесильным Вардой, константинопольским временщиком, Василий Македонянин задумал расправу, ибо влияние Варды на Михаила III представлялось всем настолько пагубным, что необходимо было положить этому конец. Да, открытая Византия не случайно казалась Аскольду легкой добычей, а Константинополь незащищенным, и киевский князь, зная это, коварно напал на великую столицу мира.
У Дира и сейчас, спустя годы, все еще дрожали руки и захватывало дух от необычайной дерзости Аскольда. Как он умел добывать нужные вести! Даже Дир не знал, каких людей снаряжал Аскольд в разведывательно-торговые походы и где добывали для киевского правителя необходимые сведения!
– Не доверял он мне?! Может быть! Я не люблю далекие походы, да и наши жены должны были вот-вот родить. Да! Наши сыновья – ровесники тому походу! – Дир улыбнулся, затем задумчиво произнес: – Сын растет почти без отца! Мамки-няньки, бирюльки-свистульки, одни юбки вокруг будущего воина – срам!.. Молоды мы были… Начинали с освобождения Игнатия на Теревинфе, доставления его в Царьград и ограбления храма-казначея, созерцали красоты Царьграда и предавались бесчисленным грабежам столицы, а потом было соглашение между Фотием и Аскольдом.
Дир свесил рыжеволосую голову и прошептал:
– Я стал почти рабом Аскольда, когда он освободил Игнатия, но время шло, и добро исчезало. Помню, я так просил его, когда мы стояли на стене Царьграда и смотрели на его волшебную красоту, чтобы ратники не разрушали ни храмов, ни дворцов, но дружина была одурманена, увидев, сколько прекрасных изделий везде и нет стражи! Мы пять дней, да, Бастарн, и я вместе со всеми, грабили город, пока не поняли, что наши струги могут не выдержать, ведь путь не близок! Аскольд охрип, пытаясь вразумить воевод, а те – дружину. Что творилось с их глазами и душами! То была картина настоящего безумства корысти! Но накануне отплытия домой вдруг к нашей ладье причалила маленькая лодчонка, в которой были люди Фотия. Они спросили, может ли Аскольд встретиться с патриархом. Аскольд долго не мог понять, в чем дело, спрашивал, где Игнатий, с каким патриархом будет встреча, хотел даже убить сотников, но я удержал его. Когда до разумения Аскольда дошло, что с ним хотят заключить ряд, он долго молчал, а затем согласился. А через некоторое время состоялось то, что называется соглашением, но я уверен, что Аскольд заключал его в состоянии помрачения разума. У него как-то странно блестели глаза, голос срывался, было видно, что князя лихорадит. Но осанка и весь вид Аскольда в ту ночь были, пожалуй, как у сказочного витязя. Да, было видно, что он своим финским убором на какое-то время запечатал уста самому патриарху Царьграда. Ну да это надо было видеть! – восхищенно проговорил Дир. – К нашей ладье прикрепили помост, предварительно убрали лишних людей и оставили только стражу. Когда на помосте появился в священном белоснежном одеянии патриарх Константинополя, у нас с Аскольдом захватило дух. Его узкое, измученное лицо, темные круги под глазами говорили о пережитых страданиях, а мановения изнеженных белых рук, державших метелочку и чашу со святой водой, с помощью которых он пытался освятить нашу ладью, как место переговоров, и нас, как соучастников ряда, не скрывали силу его презрения к нам, как к варварам. Следом за патриархом, в одежде простолюдина на помосте появился еще один человек, которого Аскольд грубо схватил, и если бы не защита со стороны патриарха, то неизвестно, чем бы все закончилось. Это был царь Михаил. Надо отметить, что патриарх хорошо знает наш язык. Вот только не знаю, понимал ли нас Михаил, – глухо продолжал исповедоваться Дир. – Царь был тоже бледен, его красивое несчастное лицо невольно вызвало сочувствие в моей душе. Аскольд же, напротив, смотрел на царя враждебно. Вид царя был таким отрешенным и горестным, что, казалось, иногда он смотрел сквозь нас. А Аскольд возмутился: царь здесь, стало быть, и катафрактарии вернулись! Не устроить ли доблестный бой двух конниц!
Михаил лишь опустил голову и обреченно махнул рукой Фотию.
Тогда патриарх выложил на табурет большой лист пергамента и зачитал из него несколько строк. Помню, он просил немедленно оставить бухту, отплыть к себе. В Киеве мы должны были разрешать христианским проповедникам вести беседы со всеми людьми города, а в Константинополе дозволялось нашим людям беспошлинно торговать.
– Это все?! – вскричал возмущенный Аскольд и чуть не разорвал пергамент.
Фотий спохватился и стал читать дальше:
– «Обязуемся со своей стороны ежегодно, по осени, платить киевскому князю Аскольду дань, кою вручать будет особое посольство, снаряженное под строгим надзором царя Михаила Третьего и патриарха Византии Фотия».
– Дождешься от вас дани! – проворчал тогда в ответ Аскольд и как в воду глядел, – проговорил Дир и посмотрел на жреца.
– И после этого вы отплыли домой? – осторожно спросил Бастарн, внимательно слушавший Дира.
– Не сразу, – улыбнулся Дир. – Фотий вручил Аскольду дорогие дары: паволоки, золото, серебро, драгоценные ткани и, заручившись словом Аскольда, что наутро нас не будет, перекрестил нас на прощанье, помог царю преодолеть помост и перебраться на свой корабль.
– А обряд, обряд крещения… вы приняли? – пытливо спросил жрец, глядя Диру в глаза.
– А где его было принимать? – засмеялся Дир. – В нашей ладье? Нет, обряда не было. Если взмах руки патриарха считать обрядом, то… – Дир развел руками. – Как хочешь понимай, верховный жрец, но я себя крещеным не считаю, – искренне признался он.
– А в условиях договора было сказано, что отныне вы оба обязуетесь исповедовать новую веру?
– Нет, – твердо ответил Дир. – Такого не припомню. Да и не должно! Они же пришли уговорить нас уйти от города, и нам же условия ставят! Аскольд бы тогда точно приказал убить их! Ведь не мы к ним с поклоном пришли, – рассуждал Дир, пытаясь вспомнить все подробности встречи с Фотием и Михаилом.
– А у вас остался этот пергамент? – с острым интересом спросил Бастарн.
– Не ведаю. Я ведь по-гречески не понимаю…
– Вот уже год, как Фотий разослал во все христианские государства свое «Окружное послание», в котором говорится о том, что Аскольд не только добровольно променял нечестивое язычество на православное христианство, но и является подданным Византии!
Дир вскочил.
– Этого не может быть! – закричал он, но в следующее мгновение осекся и, мучительно застонав от бессилия и сознания собственной глупости, тихо пробормотал: – Этого не было… этих слов не зачитывал нам Фотий!..
Бастарн успокаивающе похлопал Дира по спине и грустно проговорил:
– Греки всегда умело используют слабость своих врагов себе на благо… Расскажи-ка мне лучше, Дир, как вы отплыли. Ты хорошо все помнишь?
– Отплыли мы не как обещали, утром, а пополудни. Аскольд всю ночь разглядывал дары греков, все искал в них яд или змею, но к утру сморился и до обеда проспал. Потом он вызвал воевод, но не досчитались мы Гельма, куда он пропал, так и не выяснили, ждать не стали, как раз в это время наш ветер подул, ну мы и тронулись. Спокойно отплыли из бухты, немножко непогода разыгралась вслед, но она не досадила нам, – вяло доложил Дир жрецу» вопросительно посмотрел на него.
– Значит, буря вас не задела, – бесстрастным тоном проговорил Бастарн и внимательно посмотрел на Дира.
– А… была буря? – удивился Дир.
– Фотий всем священникам христианских государств сообщил, что ему пришлось молить помощи у Богородицы и во Влахернском соборе был произведен всеобщий молебен, после чего опустили в воды Босфора ризницу Христа, которую якобы узрел Бог и якобы нагнал на врага бурю.
Дир ухмыльнулся.
– Меня интересует, какова доля правды в изложении Фотия, – хмуро проговорил Бастарн и, вставая, добавил: – Чую, что правды в его сочинении очень мало.
– Мало?! – возмущенно переспросил Дир.
– Мало, но есть, – твердо изрек жрец. – И ты нынче убедил меня в этом, правдиво поведав о дикости и разбое, которые учинила дружина Аскольда… Хотя, подожди! – в раздумье остановился жрец. – Там, в «Послании», сказано, что Аскольд в город не вошел!
Дир удивился:
– А где мы столько добра набрали, что третье лето не бедствуем?
– Ясно, что Фотий не мог христианским государствам доложить, что какая-то языческая воинская сила перехитрила его и вошла в город, который охраняется не столько стратиотами да двумя линиями древних стен, сколько божественной силой Христа!
– А дань?! – возмутился Дир.
– Ну, дани вы, друга, не дождетесь, – пророчески заявил Бастарн и, взглянув на небо, весело посоветовал: – Идем скорей, не то ворота замкнут и стражники не впустят нас в город.
Глава 5. Ветка смоковницы
За окном уже смеркалось, и вместе с темнотой в гридню киевского князя проникло что-то еще, тяжелое, мрачное, чего не хотел принимать князь и с яростью гнал прочь. Стало неуютно, холодно… Один! Разогнал всех, дозволил всем трапезничать без него, а теперь вот сидит и тревожные думы разгоняет в разные стороны! Аскольд хмуро ткнулся лбом в холодное стекло, пытаясь остудить злобу, еще клокочущую внутри из-за вести о «Послании» Фотия, и неожиданно для себя решил опробовать совет верховного жреца. Вначале он просто мысленно вопрошал Небо: «Кто является причиной моей тревоги: Фотий? «Послание»? Бастарн? Дир?» Некоторое время напряженная тишина странным гулом отдавалась в ушах Аскольда, давила и терзала его беспокойную душу, но, приказав себе проявить терпение, немного погодя он вдруг ощутил ясный ответ: «Нет». Аскольд недоуменно покрутил черноволосой головой, затем вновь спросил: «Исидор? Софроний?..» – но, снова получив ответ «Нет», остолбенел. Боясь глубоко дышать, он решился предположить: «Сын?» – и, когда получил ответ «Нет», только тогда и выдохнул. Но после этого испытания задать простой и легкий вопрос: «Экийя?» – для Аскольда оказалось нестерпимой мукой. Экийя – это основа его жизни! Все, что делает он в своей жизни, освящено ею.
Да с ней ничего и не может случиться! Кругом стража, няньки, столько догляда! Но почему так похолодели руки и в висках стучит так, будто кровь наружу рвется, а ноги словно прикованы к бревнам, которыми аккуратно выложен пол в гридне киевского правителя? Аскольд задержал дыхание, закрыл глаза, еле выдавил: «Экийя?» И через мгновение он всем существом воспринял ответ: «Да!»
Аскольд ошарашенно прошептал несколько раз это не подлежащее сомнению «да» и не мог сдвинуться с места.
Потом он бросился из гридни так, будто кто-то гнался за ним, и метнулся в ту сторону, где располагалась маленькая душная клеть. Там стояла жесткая, деревянная, но широкая, покрытая мехами кровать, предмет особого почитания киевского правителя. Обычно, распахивая дверь в эту выложенную ореховым деревом клеть, где все пахло цветами, Экийей и любовью, Аскольд немного хмелел и волновался.
Сейчас Аскольда привела сюда одна тревога, и князь влетел как стрела, несущая всему смерть.
Густой сумрак обволакивал углы комнаты, и таинственно шуршали маленькие пучки сушеной ароматной травы, от запаха которой всегда по-особому кружилась голова князя.
Маленький столик с незажженной свечой словно нерешительно шагнул навстречу князю и жалобно поведал ему об отсутствии хозяйки.
Аскольд ринулся к одру и провел рукой по меховому покрывалу. Стремительно-жадный и вместе с тем беспокойно-озабоченный жест увенчался успехом: рука наткнулась на довольно большую ветку с длинными, тонкими, почти острыми листьями и маленькими, едва раскрывшими лепестки соцветиями. Аскольд глубоко вздохнул, сел на постель и улыбнулся. «Она здесь! Она была здесь, но не дождалась меня и куда-то ушла!.. Что это за ветка? Какой аромат от нее!.. Аромат моей Экийи!» – с радостью подумал Аскольд и, прижав ветку к груди, расслабленно прилег на одр…
– Княгиня, иди спать, – шепотом позвала нянька Экийю, когда Аскольдович, распластавшись на кроватке, заснул крепким сном.
– Иду, – отозвалась Экийя, видя, что и нянька устала, и сын действительно уснул так, что вряд ли проснется, а если и проснется, то для чего же нянька спит в детской клети? Экийя медленно отошла от одра, на котором широко раскинула ручонки ее ненаглядная отрада, трехлетний сын, и тихо подошла к няньке.
– Ежели что, разбуди, – предупредила она старуху и ласково дотронулась до ее плеча.
– Да будет тебе, княгиня, хмурые думы нагонять, – устало проговорила нянька и вдруг с лукавинкой в голосе добавила: – Иди-ка ты к своему лелюшке, не чает, наверное, бедовый, когда ты с ним ляжешь!
– Наверное! – вздохнула Экийя и не двинулась с места.
– Да ты что, княгиня? – забеспокоилась нянька. – Али что в душе треснуло?
– Не знаю, – прошептала Экийя и, чуть помедлив, вдруг спросила: – А ты одного любила или еще кого-нибудь?
Нянька встала, взяла Экийю за локоток и легонько сжала.
– Любить можно только одного, дочка. Блудничают со многими. А блуд – дело безотрадное, богами запретное! – как можно ласковее проговорила нянька и, немного помолчав, спросила: – А ты мать свою попытай. Ужели от дочери она мудрость вашего народа скроет?
– Не скроет, – грустно ответила Экийя и, пожав плечами, рассеянно поведала: – Моя мать очень мало любила… Отец был жесток… Имел наложниц… а она болела за него…
– Вон что! – участливо протянула полянка, кутаясь в убрус. – Да ведь наложницы-то не всегда зло таят в себе.
Экийя села на табурет.
– То было давно, годов тридцать вспять. Тогда во Киеве был правитель лихой, князь Бравалин. Как и твой, все на греков ходил. Люди баяли, ряд с ними сторговал, но греки, как и твоего, чую, обманули. Так вот однажды он дюже лихо сходил на греков и нас, сирот, после пира доброго забрал к себе.
– Сирот?! – переспросила Экийя.
– Да, отцы наши с ним на греков пошли, а надобе[6]6
Надобе – назад.
[Закрыть] не вернулися: частью были побиты греками, частью во море покой нашли, знать, лихую медовуху не ко времени отпотчевали, – объяснила нянька, вздохнув.
– Понятно! – воскликнула Экийя. – А дальше?
– А дальше что? Собрал нас Бравалин соколиноокий, чернобровый, обнял, дары да одежды раздал и говорит: пока женихов у вас нет, я вас жить к себе заберу. И забрал! Надо же нас было от лихих кочевников защищать!
– И… не трогал? – недоверчиво спросила Экийя.
– Как же не трогал! Трогал! – откровенно сказала нянька и словоохотливо поведала: – Бывало, придет к нам в девичью и начнет рассказывать разные сказы, смеркаться станет, он свечу не дает зажигать, какую-нибудь податливую девку выберет, та, глядишь, и не выдержит, уйдет с ним на ночлег, а то и при нас сотворит, что захочет, не больно считался с нашими душами. Так вот и жили, пока не женился.
– Любил жену-то? – пытала Экийя.
– Кто его знает, умел ли он любить! – задумчиво ответила нянька и съежилась. – Только после ее родов дошла очередь и до меня, – глухо проговорила она.
«Так вон оно как бывает!» – со странным очарованием в душе подумала Экийя и по-новому взглянула в лицо няньке, которое теперь и не выглядело старым, а светилось молодым блеском в глазах и, видимо, добрыми воспоминаниями.
– Нет… Не дал нам Радогост любви, а почему – не знаю. Люди говорят, что любовь по улыбке проверяют… Ой, княгиня свет, заговорила я тебя… Аскольд твой закручинится, коль узнает, что ты на меня красный вечер потратила!
– Не закручинится, – улыбнулась Экийя, пытаясь понять все, что вдруг возникло в ее душе после взгляда голубоглазого проповедника. «Что сказала нянька? По улыбке проверяют любовь? А глаза? Нет… тут самое сокровенное глаза говорят… Что-то в них вспыхивает, словно какой-то бог ненароком высвечивает заповедный уголок души и призывает человека, его разум, сразиться с силой огня этого. А разум любопытен! Он хочет знать, на что способен огонь этого заповедного уголка души, где зарождается новая, мощная сила! Однажды мой разум уже отведал этой силы, и я познала Аскольда…» – Экийя улыбнулась, вспомнив и страх, и силу любопытства, и страсть, которую пробудил в ней Аскольд своим восторгом перед ее красотой… Аскольд и ныне с ней все такой же: нетерпеливый, безудержный, ласковый зверь… Зверь, который будит в ней только страсть, а вот любовь пока неведома Экийе. Мать говорила, ежели спать с ним можешь, значит, любишь… Но сердце Экийи не трепетало от улыбки Аскольда! Она знала силу его рук, мощный торс, блаженство, исходящее от прикосновения их тел, но любовь?! О неблагодарная! Боги послали тебе в мужья одного из самых лучших! Простите меня, Радогост и Святовит! Храни, Перун, Аскольда во всех его походах и делах!.. Ведь он отец моего ребенка! Вот любовь к ребенку – сильна и понятна. Ненаглядный мой сыночек!..
Экийя расцвела в материнской улыбке и вдруг вспомнила, что ветка смоковницы, которую она сорвала для… да-да, выговори смелее, Экийя, для кого ты ее нынче сорвала! Экийя сникла, поняв, что себе врать бесполезно.
Экийя долго и мучительно размышляла, но ничего придумать не смогла. Лишнего ложа в детской клети не было, а выгнать няньку ночью ко дворовым слугам и лечь на ее постель – великий грех, который не простил бы ей даже Радогост. «На чужой постели спать никогда нельзя. Лучше на земле, на сене, в норе дикого зверя, но не на чужой постели, да еще старой няньки! Все болезни старого человека перейдут к тебе!» – мгновенно вспомнила Экийя завет своей бабки и тяжело вздохнула. Уставшая, она придвинула табурет к детской постели и, облокотившись на нее, положила на руки голову и закрыла глаза. Как по мановению крыла волшебной птицы, перед взором Экийи всплыл образ голубоглазого, чернобрового проповедника, который снова страстно поцеловал край подола ее платья. Как он посмел это сделать, дерзкий христианин!
Экийе до сих пор казалось, что ее тело дрожит от невысказанной, недочувствованной истомы. Она не могла сейчас принадлежать Аскольду! Экийя почувствовала, что рукава платья намокли. Она не успела вытереть слезы с лица, как услышала:
– Экийя, княгинюшка, сюда идут! – Нянька обеспокоенно заглянула в лицо своей хозяйки.
Экийя вздрогнула и окаменела.
– Это Аскольд, – прошептала она и не ошиблась.
– Что с моей ласточкой, что с моей лелюшкой случилось? – тихо пропел Аскольд, когда увидел склонившуюся над детской колыбелью жену, и сердце его выдало резкий, но жаркий толчок:
– Сынок, что ль, приболел? – осторожно спросил он, кладя свои горячие руки на прекрасные плечи жены.
Экийя приняла тяжесть его рук и поникла. Томное тепло, распространяясь по коже, мышцам и крови, охватило ее всю огнем, и Экийя затрепетала. «Нет, я, наверное, никогда не откажусь от тебя, Аскольд», – обреченно подумала она и уже наперед знала, какой будет эта ночь.
Аскольд, краем глаза взглянув на разметавшегося и крепко спящего сына, понял, что никакая болезнь его наследнику нынче не угрожает, а ненаглядная Экийя уже отошла от дневной, чистой, звонкой жизни и готова раскрыть крылья для полночных утех с мужем. Вот она, нежная, мягкая, сдерживающая дыхание и желание, прильнула к нему, и он почувствовал себя огромным, огненным витязем, воспарившим к небесам, чтобы поведать Радогосту о своем счастье и поклониться ему за эту божественную радость.
Аскольд взял Экийю на руки и, целуя, понес возлюбленную на их ложе любви…
Все было не как всегда, а отчаяннее и почему-то хуже. Где хуже, в какой момент было хуже, Аскольд не знал, но он учуял в жажде обладания Экийей вдруг свою настороженность.