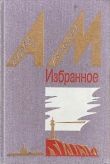Текст книги "Князь Олег"
Автор книги: Галина Петреченко
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 33 страниц)
Айлан тяжело вздохнул.
– Что ж, дай Бог мне терпения! И спаси, Господи, сына моей любимой женщины от злой силы! Богородица Дева, Пресвятая Дева, Мати Господа Вышняго, всемилостивая Заступница и Покровительница всех, к Тебе с верою прибегающих! Призри с высоты небесные славы Своею на мя, припадающего к подножию Твоему, услыши смиренную молитву мою, услыши меня, грешного и недостойного раба Твоего… – Айлан встал на колени и смиренно прочел наизусть всю молитву к Богородице, ибо считал эту молитву самой сильной.
Экийя, сжавшись в комок, наблюдала за тем, как взволнованно произносил он слова молитвы, и пыталась понять смысл слов, срывающихся с губ Айлана так легко и непринужденно, будто всю жизнь он только и учил молитвы. Нет, Экийя знала силу этого человека и его умение любить. Где он все это постиг? И почему… он ни разу не сразился своими умениями с Новгородцем?..
Айлан окончил читать молитву и хмуро проговорил:
– Своими думами ты мешала мне как следует помолиться о спасении души твоего сына!
– Ты что, ясновидящий? – испуганно спросила Экийя.
– Нет, просто я так люблю тебя, что все твое существо со всеми твоими противоречивыми помыслами взял в свое нутро и ношу теперь с собой с утра до ночи, и так будет всю жизнь! – с горькой обреченностью проговорил Айлан и грустно посмотрел в ее глаза.
Экийя невольно вздрогнула, затем широко улыбнулась и протянула к нему свои жаркие руки.
– Я же сказал, нынче любви не будет. Завтра я должен быть чистым и душою, и телом, чтоб окрестить твоего сына. – И Айлан, поцеловав ее руки, мягко отстранил их от себя.
Который день подряд Экийя стремилась к одному – увидеть Олафа. Любой ценой, пуская в ход даже хитрость, но надо попасться ему на глаза, решила она и стала постепенно удаляться от дома сначала на небольшое расстояние, а затем рискнула на далекое. Дозорные Новгородца уже привыкли видеть ее странный наряд: то ли мадьярки, то ли славянки, то ли гречанки, но к каждому платью Экийя всегда надевала свои монисты и плетеные грибатки и тем вводила поначалу в заблуждение всех охранников Киева. Но время шло, а Экийя не менялась, и дозорные Олафа перестали удивляться ее появлению то в одном месте Киева, то в другом. Олаф сначала молча воспринимал вести о хождении Экийи по городу, но когда дозорные убедили его, что бывшая киевская княгиня ни к кому не заходит, ни с кем не общается, а просто бродит по городу «яко неприкаянная», то князь задумался. Может, она дома не может находиться после смерти Аскольда?..
Вроде бы не робкого десятка эта женщина… Чего же ей еще надо? Ведь ни она, ни ее сын не пострадали!.. Или ей интересно посмотреть на наше городище, удаленное от ее княжеского дома?.. Какая красавица! Не наших кровей!
Так когда она чаще всего по городу прохаживается? Ах, повечеру! Когда ее монах усердно молится!.. Олаф приказал привести к нему Ингваря, и, когда ребенок приблизился, быстро вымолвил:
– На Киев пойдем поглядеть! Говорят, он с Вишневой кручи хорошо просматривается!
Он взял ребенка за руку так, будто хотел вложить в его руку часть своего здоровья, воли, созидательной энергии, и повелительно изрек:
– При мне, княжич, изволь быть подольше! Не то негосударевым мужем вырастешь!
– А мне по нраву больше с сестрой быть… Там и племянница уже ножками бегает… – нерешительно возразил юный Рюрикович и увидел, как дядя вздрогнул и с искаженным от негодования лицом воскликнул:
– Ты не нянька, Рюрикович, ты – будущий князь! Воин и строитель! Ты должен уже сейчас начинать постигать все хитрости нашего дела, а ты часами смотришь на мою малолетнюю дочь Ясочку и ни к чему не стремишься!
– Она улыбается, пытается глаголить что-то… Смешная и добрая, – робко ответил княжич.
Олаф покраснел. Он редко заходил к дочери, и Рюриковна, наверное, страдает от этого. Но не может он спокойно видеть дочь, когда так хотел иметь сына! И Рюриковна чует его обиду, но негодования не проявляет… Унаследовала христианскую душу, хотя ни Эфанды, ни Рюрика больше нет…
«В нем слишком много от Эфанды!» – вспомнил Олаф слова Руцины об Ингваре и покачал головой:
– Неужели тебе не по нраву все то, что мы делаем? С малолетства надо подсоблять кто чем может! – с недоумением сказал он и внимательно поглядел на красивое личико Ингваря. «А он и впрямь весь в Эфанду! Ее взгляд! Ее руки! Значит, и… ее душа!» – хмуро подумал Олаф, но, взяв себя в руки, твердо заявил: – Ты княжич! И должен постигать мужские дела! Завтра же я поведу тебя в конюшню. Начнешь осваивать верховую езду! А сейчас пойдешь со мной и моими дружинниками город осматривать! Теперь это можно делать без боязни! Город спокоен и принадлежит нам не первый день!..
Русичи шли по тесным, мощенным мелкими камнями улицам Киева и разговаривали свободно, громко, но не высокомерно, как жители, завоевавшие себе право вести себя здесь вольно своим трудом и заботами о городе. Вал почти готов. Осталась самая малость. Свое городище тоже возведено! Пищи здесь хоть отбавляй. Мясо, рыба, зерно в изобилии, не то что у ильменских словен. Благодатный край! Ягоды разные корзинами собирают, а фруктов – бери ешь, не отходя от дерева, не забудь только духов – владык этих деревьев поминать! И будешь здоров! А сколько солнца!.. В Новгороде в это время уже первые склянки появлялись, по утру заморозки уши морозили, коли кому дозорным на вышке приходилось бывать. А здесь сама мать-природушка распахнула ласковые муравушкины объятья и не отпускает из них. Киев теперь – матерь городов русьских! А это значит, что киевскому князю и его дружине все подчиняться должны. Новгород вон три сотни гривен серебром уже прислал! «Лишь бы Олаф глаза лишний раз Власко не мозолил!» – шепнул кто-то Стемиру на ухо, и он, рассмеявшись, стал гадать, кто сказал такое про друга.
Тем временем началась та древняя игра, которая передавалась воинами от отцов и дедов к сыновьям и внукам испокон веку. Звенели удары ладоней, вслед за ними смех, шутки, и снова звонкие беззаботные хлопки. Олаф, смеясь, наблюдал за играющими друзьями и не выпускал руки племянника.
Но вот на улице оружейников княжеская процессия вдруг остановилась. Гулкая тишина возникла так же неожиданно, как раньше шумное веселье, и все молча смотрели на женщину с ребенком.
Прямо посреди улицы стояла Экийя в своем мадьярском платье и, указывая сыну на кузни оружейников, громко объясняла:
– Эти дворы были построены твоим отцом по подобию кузниц нашего народа, взявшего опыт кузнечного дела у абхазов, в стране Унышлы, матери бога охоты!
Аскольдович всей душой внимал матери и жадно всматривался в приземистые постройки кузнецов, открытых с северной стороны на выставленные изделия: мечи, шлемы, щиты, косы, серпы манили к себе прохожих и просились в руки.
– А теперь в этих кузнях куют железо для Новгородца-русича, который… – Экийя оглянулась на дружину Олафа и, потупив взор, тихо добавила: – Который хочет этот город сделать самым богатым и знатным городом… среди городов, подвластных ему, а потому и называемых русьскими!
Тон, которым она говорила, заставил на время онеметь тех, кто внимал ей. Олаф, услышавший голос Экийи, не мог поверить своим ушам. Он движением руки попросил своего телохранителя отойти чуть вправо, чтобы не мешал ему разглядывать хитрую мадьярку, и тихо молвил Стемиру:
– Давай выслушаем ее, посмотрим, на что она еще способна?
Экийя повернулась к Олафу, поставив сына перед собой, и, глядя в лицо непонятного ей врага, тихо проговорила:
– Вдова Аскольда и его сын приветствуют тебя, о благородный Новгородец-русич!
– Меня приветствует не вдова Аскольда, а жена монаха Айлана! Так ведь, Экийя! Ты же ни дня не была вдовой! Ты сразу сменила одрины! Что ты глумишься над собой? Или не можешь мне простить моего прихода в Киев? А я такой же, как Аскольд! Ты же целовала стремя его коня и омывала его ладью ключевою водой перед походом в дальние края? Ты желала ему удачи в грабительских делах? – голос Олафа звенел гневно, будто не было у его хозяина глаз и не мог он разглядеть, как заполыхало лицо прекрасной мадьярки, как красивы и нежны были ее руки, ласкающие голову сына. Ах, витязь! Нет у тебя души! Да посмотри ты ей в очи! Ведь нигде ты не увидишь больше такого глубокого, бесконечно страстного омута любви! Неужели ты не мужчина, Олаф?
Олаф видел все. И нежные руки Экийи, жарко льнущие не к сыну, а к нему, Олафу; ее горячее дыхание почти касалось его лица.
В любое другое время, будь он один на один при встрече с ней, он, возможно, и пошел бы на ее женский зов, даже пренебрегая опасностью быть убитым ею, но… сейчас он не один.
– Ты не принимаешь ни моего смирения, ни моей любви, Новгородец-русич? – тихим голосом проговорила Экийя, и Олаф дрогнул: она охотится за ним! Такая изощренная в любовных утехах женщина хочет испытать и его в постели, грубого вояку и работягу, не гнушающегося никакой тяжелой ноши. А кто не захочет прижать к себе это стройное, чуть дородное, но такое грациозное тело? Только тот, кто уж не нуждается в женской ласке. А он, Олаф, еще не пренебрегал ею! Он еще молод, силен и красив! И его бесконечно долго хватает и на жену, и на наложниц! Может, и Экийю взять в наложницы, а монаха убить?..
– Олаф! А не построить ли нам в Киеве храм любви, как у греков, и не сделать ли нам Экийю жрицей этого храма? – услышал вдруг Олаф нарочито звонкий голос Стемира и не обернулся на голос друга.
– Благодарю за высокую честь, знатный секироносец-русич! – быстро нашлась Экийя и, взглянув на Стемира, поймала в его взгляде пытливый интерес к себе.
– Ты хорошо придумал, Стемир, – наконец повернувшись к другу и улыбнувшись ему, проговорил Олаф. – Вот только муж ее, христианин, вряд ли поймет нас, а разрушить его семью – это значит потерять свою, я не сделаю этого. Будь счастлива, Экийя! – неожиданно с поклоном в пояс проговорил Олаф и, быстро отвернувшись от рее, приказал двигаться дальше…
Когда пыль на дороге улеглась и Экийя смогла свободно вздохнуть полной грудью, она вдруг заметила возле своих ног розу, еще не потерявшую свежести, и с недоумением подняла ее. Она не заметила, кто из русичей бросил ее ей, но она всем сердцем почувствовала, что это не Олаф.
Какое было странное лицо у того секироносца! Нет, сейчас ей нужен только Олаф! Только этот гордый Новгородец-русич, этот благородный завоеватель Киева и ее сердца! Она повернулась в ту сторону, куда свернули варязе-русячи, и попыталась уловить дух мыслей и чаяний Новгородца. «Помоги, Радогост! Я люблю его!»
– Мама, а кого держал за руку Новгородец-русич? Девочку или мальчика? – хмуро спросил Аскольдович, дергая мать за руку.
– Это твой сверстник, сын князя Рюрика, три лета назад умершего в Новгороде. Зовут его Ингварь. Запомнил?
Аскольдович трижды повторил варяжское имя, а затем самому себе сказал:
– Теперь запомнил. А почему он беленький и кудрявый? – пытливо спросил опять Аскольдович.
– Потому что мать у него была такая. А ты здесь привык видеть только смугляков-голяков?
Аскольдович засмеялся, он гордо, подняв руки вверх, выпятил свою широкую грудь вперед.
Экийя глянула на него с материнской любовью и не знала, плакать ей или смеяться: столько Аскольдового запала увидела она вдруг в этом движении малолетнего сына, что сердце ее сжалось и отозвалось острой болью. Экийя закрыла рот рукой и неожиданно бурно разрыдалась.
Глава 3. Покорение древлян
Дорога была неторной, но довольно сносной. Секироносцы расчищали дорогу для князя и его дружины, делая ее проходимой. Привалы были кратковременны, лишь для приготовления сытного обеда на костре. Когда два дня пути были уже за плечами, ратники Новгородца-русича с удовольствием спешились с коней и, выбрав удобное место для стоянки, занялись разведением костра.
Олаф, обращаясь к духу поляны, попросил у него покоя и приюта для временного отдыха дружины. После обряда Олаф почувствовал благодатное расположение духа и, позвав христианина-десятника, служившего когда-то в дружине Аскольда, спросил:
– Скажи, Софроний, вот ты перекрестился и помолился своему Христу, ступив на лесную поляну, а я в это время принял благодать от духа поляны. Так кто же из нас прав?
Софроний зорко оглядел Новгородца-русича и хмуро ответил:
– Я! Правда на моей стороне.
Олаф расхохотался:
– А я думал, ты трус. Ну, хорошо! Но если твой Бог знает, что я не верю в его силу, то почему он не помешал моей молитве? – допытывался Олаф, цепким взглядом наблюдая за проповедником-секироносцем.
– Мой Бог самый милосердный, и он долготерпелив. Он пока щадит тебя, но внимательно наблюдает за твоими делами…
– Пока?! – язвительно переспросил Олаф, перебив христианина.
– Да, Новгородец-русич, пока! Ибо каким бы могущественным витязем на земле ты ни был, Бог все равно истощит твои силы, ежели они будут пущены тобою во зло, – упрямо твердил секироносец-христианин.
– Значит, сей поход, цель которого – усмирить вольнолюбивых древлян, ты считаешь злом? – настойчиво спросил Олаф, чувствуя всем нутром всеобщую настороженность своих ратников.
– Да!
Олаф расхохотался ему в лицо и громко заявил:
– Вот что, хитромудрый лазутчик византийских правителей, тебе выгодно сбить меня с толку, ибо укрепление моего Киевского стана я возвел и буду возводить не по одному кольцу! Сухая ветка из гнезда изоки будет мне цена, коль я не обороню рубежей своих, а матерь городов русьских стоит на самом рубеже! Я знаю, чего хочет от нас Византия! Чтоб мы были чуточку послабее ее самой! А ты видишь, что я за год жизни в Киеве силу набрал немалую и пошел к древлянам не зря: моей дружине нужна дорогая плата за усердие, и она добудет ее у древлян! Хочешь убедиться?
Софроний пожал плечами и промолчал, увидев, как ратники Новгородца-русича плотным и грозным кольцом окружили их.
– Закрой глаза, протяни руку к дубу и сорви то, что попадется в твою раскрытую ладонь! – повелел Олаф и быстро завязал секироносцу глаза мягким широким ремнем, Софроний повиновался. Когда же Олаф развязал ему чуть погодя глаза, грек увидел в своей руке прошлогодний желудь.
– А теперь завяжи глаза мне, и я протяну руку туда же, – предложил Олаф, и, когда грек проделал с Новгородцем-русичем то, что ему было велено, Олаф с завязанными глазами сорвал ветку дуба.
Дружинники, следившие за спором своего князя, застучали мечами о щиты, приветствуя Олафа, и закричали на грека бранными словами.
– Не накличьте на себя беду этим походом! Да, Новгородец-русич, три года ты будешь на белом коне и завоюешь не только древлян. Все народы вокруг Киева станут тебе дань платить, но вслед за этим придут к тебе прямо под Киев лихие кочевники.
– Откуда такие вести? – хмуро спросил Олаф.
– Из твоей книга жизни! – со спокойной торжественностью ответил Софроний и слегка поклонился Олафу.
– У меня есть… уже есть книга жизни? – удивился Олаф. – Но… я еще не прожил свою жизнь! Что ты мелешь, грек?!
– Мои патриархи ее уже прочли! – медленно заявил Софроний и почувствовал, какая напряженная тишина наступила на поляне. И только потрескивали дрова в костре.
– Твои патриархи, Софроний, может быть, и прочли книгу жизни нашего князя, но они еще не отведали его отваги! – браво заметил Стемир и, чтобы снять напряжение, весело спросил: – Что там написано, Софроний, когда винолюбивые греки познают отвагу нашего могучего Олафа?
Софроний перестал кивать в ответ на замечание лучшего друга Новгородца-русича и, немного подождав, тихо ответил:
– Ты не поверишь этому, Новгородец-русич, но ты… действительно придешь к вратам Царьграда… тридцать летовей спустя!
Олаф запрокинул голову и так расхохотался, что непрошеные слезы выступили у него на глазах и потекли по щекам.
– Ну и трус! – говорил он сквозь смех. – Ну и трус! Ведь это ж надо такое придумать! – недоуменно восклицал Олаф и снова хохотал, запрокинув голову. – А что не через три лета? Силенок еще не будет на твою столицу напасть? – вытирая слезы, спросил он хмурого грека и все не мог унять свой смех.
Бой разгорелся неожиданно, когда первые ряды секироносцев наткнулись на засаду и вынуждены были отражать упорный натиск ловких древлянских лучников.
Олаф вслушивался в треск сучьев, летевших на землю то тут, то там, и пытался определить по звуку легких шорохов, доносившихся из чащобы, количество лазутчиков, окруживших первые ряды его дружинников. Какое-то необычное чувство уверенности в себе и спокойствия овладело им и не толкало на суетливые команды. Он чувствовал, что это всего лишь проба сил. Древляне послали юнцов обстрелять его дружину? Что ж, древляне, вы хотите мне показать, что ваше племя, начиная с детей и кончая мудрыми старцами, способно носить оружие и ловко владеть им? Да ведь и я вырос в седле, и все мои братья тоже!.. Ну что ж, древляне, померяемся хитростью воев!
Олаф приказал Стемиру отступить вместе с полком меченосцев правой руки и вплотную подойти й берегу Припяти: наверняка там прячутся основные силы древлян.
– Если их там, в зарослях камыша, нет, то… – Олаф развел руками: – Я чего-то не понимаю в этой мышиной возне! Они должны быть в камыше! Как я этого не понял сразу, когда лазутчики мои донесли мне о безмятежном спокойствии вокруг! Ведь только тот камыш неподвижен, который находится в крепких руках воинов! В бой, Стемир! Но не убивать их, а вытащить из болота на вольный свет! И заставить биться в открытом бою! Не торопись! Передай: я им не враг! Я враг тому, кому они дань платят!
– Не тревожься! Поступлю, как велишь! Свенельд, разворачивай меченосцев к реке! – тихо приказал Стемир одному из воинов и поспешил выполнить волю Олафа.
Берег ласковой, уютной Припяти скоро обнажился, и Стемир, стоя на крутом его откосе, вглядывался в камышиное пространство, длинной толстой излукой обрамлявшее правый берег реки, и искал в нем признаки присутствия человека. Камыш был спокоен И неподвижен под свежим весенним ветром.
Стемир приказал Свенельду осторожно спуститься к камышовым зарослям и с помощью лучников опробовать стебли камыша. Лучники встали вдоль всей излуки камышовой заросли и обстреляли верхушки растений. Надломленные стебли как-то странно задвигались, покачиваясь из стороны в сторону, по реке.
Стемир дал еще одну команду лучникам, и после второго обстрела камыш упал.
Наступило затишье.
– Сколько они могут пробыть в воде? – спросил нетерпеливо Свенельд. – Я бы сейчас их перетаскал всех из воды, как щенят, чтобы время зря не тянуть! – Он снял шлем, вытер пот со лба и глубоко вздохнул.
– Подождем еще немного… Может, сами выйдут, – неопределенно ответил Стемир и посоветовал другу надеть шлем.
– Да кого бояться? Этих водоплавок? Ну и какие они вой после сидения под водой? – Но не успел Свенельд закончить свою бравую речь, как над его головой просвистела стрела, едва не ранив.
– Вот тебе и доказательство того, что схватка впереди. Приготовь меченосцев, и пусть они сперва больше орудуют щитами, чем мечами, – посоветовал Стемир и послал лазутчика со срочным донесением к Олафу.
В это время из воды стала подниматься дружина древлян, тела воинов были защищены короткими кожаными щитками. Жители лесной Припяти были вооружены гарпунами и стрелами с длинными древками. Волосы древлянских воинов были длинными, у некоторых, видимо у предводителей, забраны сзади в пучки, но у основной массы густыми мокрыми патлами свисали до плеч, и из-за этого вся рать древлян производила довольно суровое впечатление. При приближении к врагу древляне издали мощный звериный рык и набросились на отряд Стемира.
Где уж тут было выполнять наказ Олафа! Теснота, обусловленная узостью поля брани, отсутствие четкого построения войска врага и полное презрение с его стороны к каким бы то ни было правилам ведения боя вынудили Стемира уже в первые минуты сражения сменить добродушие на гнев.
– Уберите гарпунеров, а то они нам всех лошадей покалечат! – приказал он лучникам.
Стемир успевал только щит подставлять навстречу летящей в его сторону туче стрел. Крутясь вправо и влево, он, как и его меченосцы, умело оборонялся. «Ну и дела! Сколько же у них стрел! Сплошной звон на поле!..» – хмуро думал Стемир, пытаясь увернуться от удара гарпуна древлянина.
Но вот со стороны леса послышался топот конницы, и Стемир увидел Олафа, несущегося на выручку своим меченосцам.
Секироносцы отражали летящие в их сторону гарпуны, лучники обстреливали понизу древлянское войско, которое понемногу стало таять, а меченосцы по-прежнему пускали в ход только щиты: рубить головы легковооруженным жителям глухих лесов Припяти не велел Олаф.
Бой закончился так же неожиданно, как и начался: на свободный клочок земли выбежал какой-то молодой человек в кожаной сустуге, на которой красовалась зеленая вышивка в виде двух-трех сплетенных ветвями деревьев, и, закрыв лицо руками, трижды отрывисто воскликнул:
– Остановись, лихой враже! Ты победил нас! – Он прокричал это, оборачиваясь на все четыре стороны света и, когда убедился, что не слышит более ни свиста летящих стрел, ни лязга гарпунов о щиты, отвел дрожащие ладони от молодого лица, на котором отразились досада и уныние.
– Кто ты? – спросил его Олаф.
– Вождь припятских древлян по имени Мала! – с пылающим лицом ответил малолетний вождь и исподлобья оглядел витязя, ведущего не то строгий, не то насмешливый допрос.
В мгновение ока Олаф вспомнил, как много лет назад они совершали дозор в юго-западном клину Рарожья и наткнулись на войско восточнофранконского короля. Он вспомнил, сколько ненависти и дикой злобы испытал он тогда, глядя на германцев, безжалостно уничтожающих малую дружину. «Как этот юный вождь похож на меня! Как он, должно быть, ненавидит меня!.. Такова жизнь вождей племен! Либо тебя, либо ты…» – думал Олаф.
– Ты хороший вождь, Мала! – с уважением проговорил Олаф и, прижав правую руку к груди, поклонился храброму древлянину. – Перед тобою вождь рарогов-русичей, новгородский и киевский князь Олаф! Я пришел к тебе с большою дружиною, чтобы подчинить вас, ибо твои земли разделяют те земли, которые принадлежат мне и моему племени!
Древлянский вождь пошатнулся. Да, он знал, что варязе-русичи уже два десятка лет живут среди словен. Но живут обособленно, в своих городищах, имеют огромные дружины с лихим оружием, которым они его ноне вон как посрамили! «Да неужто гарпун, хоть и с дубовым древком, устоит против меча? Ох, древляне, древляне! Понадеялись на глухие леса, не послушались кривичей, что глаголили во Плескове: какие торы были там на пристани, а некой князь из Новгорода…»
– Я знаю, душа твоя скорбит о поражении! Я не стану перед тобой оправдываться за свои дела, но скажу тебе только одно: мы щадили твоих людей, ибо наши стрелы летели понизу…
– Чего хочешь ты? – не выдержал Мала.
– Ты будешь платить дань моей дружине, – спокойно объяснил Олаф.
– Но… у моего племени нет среброносных руд, – обреченно ответил Мала.
– Но есть меха! В ваших лесах много зверя разного водится, а мы мех почитаем за серебро.
Мала глубоко вздохнул, снова глянул исподлобья на Олафа и мрачно спросил:
– А северян и радимичей… ты воевал?
– Хочешь знать, какую дань они мне платят?
– Да! – выдохнул Мала.
– По черной кунице с дыма! Согласен?
Мала не поверил своим ушам. Разве это дань? Под дымом у него живут до тридцати – сорока голов! Чего им стоит одну куницу отдать! Этих юркоголовых у нас бегает хоть отбавляй!..
– По черной кунице со двора? – медленно переспросил Мала.
– По черной кунице со двора! – подтвердил Олаф и добавил: – Но в случае нападения врага на твои земли мы будем защищать и тебя, и твое племя. Ты все понял, вождь древлян Мала? – жестко спросил Олаф, стараясь внушить молодому древлянскому вождю мужество и жизнестойкость.
Мала оглядел огромную рать варяга-русича, его сподвижников-воевод, что восседали на крепких конях и, облаченные в невиданные доспехи, смотрелись, что и говорить, непобедимыми витязями. Если бы… если бы они не прорубили дорогу к нему, вождю припятских древлян… А коль дорога прорублена, то, пока не зарастет она новой порослью, по ней может пройти кто угодно! Мала видел, что Новгородец-русич ждет его ответа, и тихо, но твердо ответил:
– Да будет тако!
– Ну, вот и ряд заключили! А чтоб тебе не думалось, что я к тебе дорогу прорубил с лихой затеей, я тебе часть своей дружины оставлю, чтоб ты крепость здесь поставил! Или ты надумал ужо засадить мою торную дороженьку? А? Не старайся, вождь, перехитрить меня! – прозорливо заметил Олаф, но дружине своей не позволил смеяться над именитым древлянином и, чтоб поскорее закончить, твердо повторил: – Запомни, я тебе друг! И вся моя дружина – твоя защитница!
Вот теперь и дружина русича громко трижды грянула: «Да будет тако!»
– А сейчас я должен совершить жертвоприношение своим богам! – повелительно изрек Олаф и приказал вождю древлян: – Вон к тому дубу ты приведешь десяток быков, а мои друиды разделят их на части и отдадут их мясо Перуну, Сварогу, Радогосту и Святовиту! Ибо их духи поддерживали во мне и моей дружине силу отваги! Поклонимся и Влесу! Ибо без его благодеяний наше тело не имело бы достаточно сытной пищи! Ну, а потом устроим пир во имя дружбы наших племен! Ты убедишься, вождь древлян, что я тебе не враг! Я твой добрый защитник! – ласково сказал Олаф и спешился с коня.
Вождь Мала закусил губу и с горечью наблюдал, как варязе-русичи занялись неотложными делами…
Северяне и радимичи, упомянутые незадачливым юным древлянским вождем, были покорены Олафом в последующие два года, в течение которых он не знал отдыха. Он мотался со своей дружиной по всему днепровскому краю – то на север от Киева, то на запад, то на восток, то на юг. «Крепости! Крепости по всем моим землям воздвигать!» – повторял он своим сподвижникам, и те, зараженные его энтузиазмом, безропотно следовали за ним. Правда, были сомнения, минуты отчаяния и даже ленивой спеси, в ходе которых Олаф пытался бороться один на один с невесть откуда появлявшимися препятствиями. То перед растерянным Олафом неожиданно всплывал лик Аскольда с укоризненным взором карих глаз, в которых Олаф читал не только укоризну, но дикую злобу и месть. То откуда-то доносился довольно ясный, полный тревоги голос Экийи, зовущий Олафа прогуляться в тенистых рощах у Днепра. То возникал в дверях гридни хмурый Стемир, пытливо ищущий во взгляде Олафа ответ на свой тайный, жгучий вопрос. Что-то щемящее, тревожно рвущее его сердце на части испытывал Олаф каждый раз в Киеве, когда истекал короткий срок передышки, устроенной им по исходу того или иного похода.
– Зачем ты идешь на северян и радимичей? – спрашивала Олафа обеспокоенная Рюриковна. – Мне сказывали, что они дань платят хазарам, а это значит, что ты вынужден будешь сразиться и с хазарским ханом?
– А я и готовлюсь к этому, моя дорогая! И свою дружину бодрю этой вестью! – ласково улыбаясь, тихо отвечал ей Олаф.
– И опять бросаешь нас с дочерью…
– У вас тут такая охрана! А у моих гонцов очень резвые кони… Я всегда смогу успеть… Ведь речка Сож не за горами…
– Но если хан нагрянет прямо сюда сразу после твоего отъезда?! – Рюриковна сжала руки, чтоб не крикнуть: «Ты не любишь нас, потому и уезжаешь!» – но сдержалась.
Олаф вдруг понял, что Рюриковна начинает ожесточаться: слишком часто он оставляет ее одну. Но по-другому он не может.
– Мои лазутчики донесли, что хазарский хан проводит все время в неге и роскоши. Изобилие Тавриды, постоянная торговля с Херсоном и Царьградом, по всей видимости, заставили его забыть о столь дальних соседях, как днепровские северяне да сожские радимичи, – медленно и спокойно сказал Олаф и обнял жену. – Не тревожься, я скоро вернусь.
У Рюриковны слезы навернулись на глаза, но жестокая выучка с детства заставила ее перетерпеть и эту вспышку обиды, ибо, как святой завет, хранила она в памяти наказ отца: проводы в дорогу должны быть веселыми, а слезы привлекают злых духов, которые так просто не отстают от своих жертв…
А по возвращении из сожских земель Олаф старался не отвечать на вопросы досужих словолюбцев, много ли дани собрал он от северян да радимичей.
– По шлягу с каждой сохи! – коротко ответил он по-рарожски.
На расспросы Рюриковны князь признался:
– Я взял с них то, что они приготовили хазарам. По одной мелкой монетке – по одному шлягу с сохи!
– Ты так уверен теперь, что?.. – с ужасом в глазах спросила Рюриковна.
– Да! Я перемешал свою и Аскольдову дружины; три доли находятся на крайних северных рубежах, охраняя древлян, северян и радимичей. Там теперь крепости стоят, земляные валы возвышаются! Не просто будет теперь подойти и к моей ставке! – гордо заметил он, лаская плечи жены.
– С севера! А с юга? – тревожно спросила она, боясь рассердить мужа.
– Я же тебе говорил: хазарский хан предпочитает пребывать в неге и войско свое не обременяет ни боями, ни походами! Мои лазутчики зажирели у него от еды, которой он потчует всех, кто живет в его стране! – проговорил Олаф, не отпуская жену от себя.
– Боюсь я твоей беспечности, Олаф! – горько воскликнула Рюриковна. – Тревожно у меня на душе! – тяжело вздохнула она.
– Тревожно было, когда я к древлянам ходил; еще тревожнее было, когда к северянам да радимичам пошел. Теперь я здесь, дома, с тобой, на нашей душистой одрине, где пахнет нашей любовью, а ты тревожишься пуще прежнего! Почему?! – нетерпеливо прошептал он.
Она так боялась этого близкого шепота, этой ласки, этого нежного поцелуя, скользнувшего по губам, шее и… «Он прячет глаза от меня», – мелькнула острая мысль, и Рюриковна не знала, как повести себя дальше. «Пока я была его единственной женой, а теперь… Я чувствую, это из-за нее он мечется по всем лесным рекам, по всем словенским селениям… Нет! Я должна молчать! И забыть! Забыть тот вздох, который вырвался из его груди… О, какая страшная женщина жена этого монаха!.. Она и не посмотрела на Олафа, она просто прошла мимо, держа за руку своего сына, а он так вздохнул, будто его сердце не выдержало долгого терпения!.. Настал час испытания нашей любви! Какое тягло взвалил ты на мою душу!.. Молчать? Перетерпеть? Но как?! Как перетерпеть эти холодные, сухие губы, которые целуют меня по долгу, а не по зову желания?» – с удушливой горечью подумала Рюриковна и отстранилась от мужа.
Олаф глянул исподлобья на измученное лицо жены и подавил вздох.
– Может, тебе следует поступить так, как когда-то поступил мой отец, полюбив Эфанду? – сказала она тихо. – Ты уже три года, глядя на меня, видишь только эту мадьярку! – глотая слезы, прошептала она.
Олаф, широко раскрыв глаза, молча смотрел на Рюриковну, на ее вздрагивавшие от глухих рыданий плечи и, потрясенный ее откровением, не мог найти в себе силы для ответного признания.