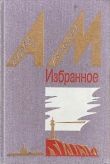Текст книги "Князь Олег"
Автор книги: Галина Петреченко
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 33 страниц)
Глава 10. Христодул[18]18
Христодул – раб Христа.
[Закрыть]
Весна выдалась ласковая и теплая, какая всегда бывает в земле полян. «Наверное, это словене своей доброй душой обогревают землю и воздух этого дивного края, где течет Днепр», – думал Аскольд, прохаживаясь с Диром по бревенчатой набережной и наслаждаясь тем теплым и ароматным воздухом, напоенным цветущей зеленью, который можно было пить вместо медовухи. Аскольд, делая глубокие шумные вдохи, каждый раз приговаривал: «Ах как гоже! Нет, моей груди не хватает, чтоб весь этот живительный аромат вдохнуть в себя и напиться им».
Нет, казалось, ничто не волновало киевского правителя. Все у него есть! Всякого добра полная чаша. Его вид источает богатство и спокойствие, что он выставляет напоказ и полянам, и северянам, и древлянам, и своей дружине, и всем поселенцам своего городища, и заезжим купцам, которых нет-нет да и окинет зорким взглядом. Который день князь появляется на берегу! Который день он шумно и, пожалуй, озорно прохаживается по торговым рядам, с интересом ведя беседы то с одним купцом, то с другим, выспрашивая то об одном дивном приспособлении, то о другом, каждый раз дивясь на мудрость и ловкость ума и рук мастеров.
Но, переговорив с торговцами-земляками, он подходил к заморским купцам. Этим Аскольд задавал только один вопрос: «Ты кто?» И, услышав ответ: «Ромей», «Булгарин», «Иудей», «Козарин», «Половец», «Хунгарин», «Туранец», «Иранец», – хмуро кивал головой, затем, спохватившись, улыбался и, отходя, прятал свою улыбку. Нет, того, кого он ждал уже целую седмицу, здесь не было. Трех гонцов Аскольд отправил разными дорогами и разными судьбами в Византию, чтоб иметь самые надежные вести об этой коварной стране, – и ни гонцов, ни вестей нет. Что случилось с его преданными людьми? Ведь они знают, что ладьи его стоят в Барвихинской бухте, закрытой от посторонних глаз, и уже маленькие идолы Перуна, Сварога и Святовита, отлитые иудейским мастером Хаймом из Пасынчей общины, приклеплены к носовой части струг и ждут, когда смогут своим могущественным духом поддержать ратный дух Аскольдовой дружины… «Ну где же вы, мои долгожданные лазутчики? Где же вы, глаза и уши киевского князя?»
Дир знал, что заменить князю гонцов не может, но чтобы хоть как-то отвлечь своего предводителя от печальных дум, предложил Аскольду еще раз спуститься к причалу…
– Пошли! – угрюмо согласился Аскольд и неожиданно торопливо зашагал к первому травяному спуску. Этот спуск был знаменит своей узкой тропинкой, извивающейся внутри неглубокого, поросшего высокой шелковистой травой-муравой овражка, и был самой короткой дорогой, соединяющей торговые ряды и пристань Киева.
Дир едва успевал шагать за разозленным князем, но, чуя его правоту, не мешал ему расходовать черную энергию, которая накапливается в человеке, если он долго пребывает в состоянии озлобленного бездействия.
На набережной дружинники Аскольда зорко наблюдали за купцами, торговцами мелким товаром и ремесленным людом, ищущим выгодных покупателей или же промысловиков, согласных на выгодный обмен своих товаров на ремесленнические изделия.
Шум, гам, то звонкая, бойкая, то неторопливая, напевная речь словенских полян и северян, плеск теплых, ласковых волн Днепра о песчаный берег, покрытый крупной, редкой галькой и опокой, создавали то спокойное, благостное настроение, которое внушает устойчивая незыблемость существующего положения.
Аскольд прошел весь причал, как вдруг понял, что пора бы зорче вглядеться вон в тот, новый ряд ладей, которых некоторое время назад не было. Он, сбавив шаг, глубоко вздохнул и зашагал, внимательно вглядываясь в бортовые узоры на стругах. Нет, ему не показалось, и вдруг разом все изменилось! Небо стало синее, солнце – теплее и ярче, воздух – свежее, птицы звонче запели, а на глазах Аскольда появились слезы радости. Наконец-то! Он увидел на борту последней ладьи тот заветный знак, который, откровенно говоря, уже не ожидал больше увидеть. «Бастарн! Ты оказался прав! Этот знак уджаты, что по твоему совету был начертан на борту струга моего лазутчика, действительно сохранил и судно, и того, кто в нем так долго плавал!» – с благодарностью подумал Аскольд, постучал кулаком в борт ладьи и хриплым голосом потребовал:
– Фалько[19]19
Фалько – сокол.
[Закрыть], выходи! Я заждался тебя!..
– Дир! Зови всех купцов на пир! Не забудь смехотников да фестутников[20]20
Фестутник (от лат. Festa – праздник) – человек, занимающийся приготовлением всего необходимого для праздника; организатор веселья.
[Закрыть]! Надо отпраздновать начало месяца цветеня да выход русалок на вольный свет! – весело бросил клич Аскольд, выйдя из отсека ладьи своего лазутчика на помост, соединяющий борт судна о деревянным причалом, и с удовольствием подставил свои ладони солнцу и небу. – Слава тебе, Святовит! – горячо прошептал он, глядя сощурившись на солнце, и склонил голову перед своим божеством.
Дир смотрел снизу вверх на своего предводителя и не узнавал его. Ведь почти год никто не видел Аскольда благодушным! Улыбка иногда мелькала на его лице, когда он разговаривал о чем-нибудь со своими преданными сподвижниками или верховным жрецом, но стоило кому-нибудь из них или Бастарну отвлечься, как Аскольд сразу мрачнел. Та мечта, которую он пытался осуществить два лета вспять, была на время забыта Аскольдом по той простой причине, что его дружина оказалась не готова к такому предприятию. Бастарн убедил Аскольда, что идти на греков надо во всеоружии, коль это будет поход мести за всех обиженных словен[21]21
В течение VII–VIII вв. н. э. Византия организовывала частые и успешные походы против славян.
[Закрыть], что каждый воин должен быть хорошо вооружен. Луком и стрелами биться с греками, которые владеют и секирой, и длинным копьем, и мечом, – смешно. «А у тебя секироносцев и меченосцев – как семян на отаве: раз, два и… боле нету! Один натиск и отчаянная кулачная битва против хитрых греков никуда не годятся ныне», – говорил Бастарн, и Аскольд, смирив свое буйное тщеславие, понял правоту верховного жреца. Потихоньку-полегоньку начал он собирать в свое городище людей, обученных кузнечному делу, и заставил их изготовить для его дружины длинные копья, а затем и секиры, и мечи. Одновременно вел обучение дружинников правилам ведения боя с копьем и секирой. И вот дружина, которая раньше только количеством людей и мощным боевым духом ее предводителя наводила страх и ужас на близлежащие страны кочевников и некоторые оседлые народы, теперь превратилась в хорошо обученную, неплохо вооруженную армию с сильным, знающим толк в военном деле полководцем и могла идти в любой далекий поход, и имела бы бесспорный успех в этом деле, но… не владела ни одной достоверной вестью о том враге, ради победы над которым были приложены такие огромные усилия.
Два года прошло, как Аскольд отправил на трудную долю своего лазутчика Фалько, который знал греческий и ромейский языки и мог проникнуть в любые слои византийского общества. И Фалько очутился там, где не только бурлила жизнь самых знатных сановников византийского царя, но и была тихая заводь христианских сакристий, где вызревали те или иные новшества политической жизни страны.
Ты помнишь, Дир, как наш молчаливый и угрюмый, но очень быстрый секироносец вдруг однажды упал с коня и повредил себе ногу! Кто-то из знахарей вылечил его, но наш сокол стал бояться своего горячего скакуна и загрустил. Что делать, ежели вдруг ощутишь себя непригодным для ратных подвигов? И Фалько стал нашими глазами и ушами, он попробовал первый раз сгодиться в византийском походе. Он переоделся под греческого монаха и стал торговать возле собора Богоматери. Так он добыл для меня вести о поджоге имения Михаила Третьего в Каппадокии и о походе византийского флота в Средиземном море. Я хорошо отблагодарил его, и он преобразился в богатого купца. Он научился оказывать молча и бескорыстно всякого рода услуги то одному, то другому важному лицу из окружения Михаила Третьего и Константинопольского патриарха и постепенно стал очень нужным человеком при византийском дворе. Он изучил богословие, познал учение Христа и поражал своими успехами не только низшие чины священнослужителей, но и самого Фотия. Он побывал во многих христианских монастырях. Так Фалько узнал о недовольстве христианского монашества и священнослужителей политикой Фотия, который, пребывая на посту патриарха Константинополя около десяти лет, так и не добился от царя Михаила для священников права пользования и владения землей. Только храмы и соборы были полноправными хозяевами той земли, на которой они стояли и которая примыкала к их территории по указанию царя. Со времен вердикта Льва III Исаврия 739 года, начиная с борьбы с иконопочитателями и кончая их победой в 843 году, ни один высокопоставленный священнослужитель Византии не имел права землевладения, и даже патриарх Фотий. Царь Михаил не желал ничего слушать. «И так достаточно этим богословам и молитвочтецам! У меня есть более достойные люди, которые без права землевладения охотно рискуют своей жизнью, охраняя или спасая мою! Ваш Христос нисколько не помог сберечь ни мое владение в Каппадокии, когда оно запылало от рук павликиан, ни мою страну от нашествия этих диких варваров – язычников», – гордо отверг все попытки к переговорам царь Михаил, и Фотий больше не роптал.
Правда, был еще момент, когда под нажимом патриаршего Синода Фотий снова попробовал склонить царя к беседе о праве на землевладение лиц, совершающих богослужение в храмах, соборах и монастырях. Но царь раздраженно ответил:
– Повторяю ещё раз! Твой бог не сохранил мое владение в Каппадокии!..
– Но… – прервал царя Фотий. – На стенах ваших владений высечены охранные знаки другого бога, как же ваше величество может пенять на нашего Христа?
– Но я сменил веру своих родителей на христианское православие, и эта вера является государственной религией моей– страны! И ты мне говорил, что Христос с радостью встречает своих вновь оглашенных и бдительным оком охраняет их имущество! Кто говорил, что Богу Богово, а царю царево? – гневно спросил Михаил, искоса глядя на поникшую голову знаменитого богослова. – Ну! Это Христос говорил или это новозаветные выдумки ваших евангелистов? – ехидно спросил Михаил, возмущенно развернувшись в сторону патриарха, и драгоценные каменья на его одеянии сверкнули.
Фотий выдержал гневный взгляд царя, насыщенный презрением и недоверием, и, когда Михаил Третий отвернулся, чтобы омыть руки в благовониях, тихо, но жестко проговорил:
– Бог помогает только истинно верующим, а вы, ваше величество, из нужды поминаете Христа!
– Как ты смеешь, лжец, охаивать своего царя! Тебе ли не помнить мой подвиг во славу твоего Христа! Ты забыл, как я босым, в одежде простолюдина, целые сутки молился, чтобы Он покарал этого… злодея-язычника, который до сих пор не считает себя христианином, хоть ты и окрестил его! И который до сих пор ждет обещанной нами дани! – снисходительно улыбнувшись под конец своей горячей речи, проговорил Михаил Третий и с любопытством оглядел лицо постаревшего патриарха. – Чего ты ждешь еще? – брезгливо спросил он.
– Подписания прошения Святейшего Синода о землевладении священнослужителей Византии, – упрямо ответил Фотий и подал царю лист пергамента.
– И не надейтесь на мою доброту! – вскипел снова царь. – Я из-за того, что ты во время своих молитв всегда умудряешься stare in disparte[22]22
Стоять в стороне, держаться обособленно.
[Закрыть], потерял свое имение! Вы не молились о спасении имущества вашего царя, а я должен одаривать вас правом собственников, с тем чтобы вы вообще забыли о Боге и только и думали о своем богатстве! Нет, нет и нет! Вон отсюда! – раскричался не на шутку Михаил Третий и указал на дверь рукой, пальцы на которой, кроме большого, все были унизаны перстнями с драгоценными каменьями.
– Бог не помилует вас за это, ждите быстрой кары! – разозлившись на жадность царя, храбро изрек Фотий и медленными шагами покинул царские покои.
– Ты еще угрожаешь мне?! Уж не соглядатай ли ты павликианский! – заорал вслед ему царь что было сил и почувствовал, как в голове что-то загудело и стукнуло в висок.
Царь схватился за голову и повалился на пол. Когда подбежала стража и глянула на своего правителя, он лежал с открытыми глазами, в безжизненной позе…
Хоронили царя торжественно и по всем правилам двух вер. Первая вера, государственная, требовала отпеваний царя в храме Божием, а другая, отчая, требовала отпевания при захоронении… Набальзамированное тело обернули в саван, положили сначала в дубовый гроб, а тот поставили в мраморный саркофаг и предали земле, которая болезненно вздрогнула, приняв в свое лоно такую тяжесть.
А через неделю на престол вступила новая царская династия. Василий Первый из Македонского рода вступил на престол, и из императорского дворца вынуждены были уйти те, кто окружал Михаила Третьего и его патриарха.
На смену Фотию должен был прийти новый человек, и двор с затаенным дыханием следил за бесконечной вереницей священнослужителей, которые часами просиживали возле нового царя, но выходили из царских покоев с непроницаемыми лицами, и Фалько совсем измаялся, заходя в дома старых знакомых, исподволь пытаясь узнать новости из царского двора и ожидая окончательного решения Василия Македонянина. Но вот решение созрело, и Василий Македонянин объявил его при всем собрании как высокопоставленных сановников, так и военачальников и богословов из Священного Синода. Как гром среди ясного неба прогремело это известие и до сих пор не может успокоить умы политиков в Константинополе! Возглавлять Святейший Синод Византии будет константинопольский патриарх… Игнатий!..
Аскольд от этой вести откинулся на стенку борта ладьи так резко, что если бы не меховая обивка отсека, где все предназначалось не только для жизни, но и для отдыха, то голова киевского правителя была бы украшена на затылке шишкой размером с грецкий орех. Аскольд почесал черноволосую головушку и проворчал:
– Вот это жизнь! Наконец-то я слышу весть, от которой распирает всю мою грудь!.. Ну, Дирушка, принесем жертвоприношения моим богам и засядем за пир. А потом в путь! – сказал он, очнувшись от глубоких раздумий, а затем, спохватившись, медленно и по складам потребовал: – И этих болтунов-проповедников предупреди, что они понадобятся мне.
Веселье было в самом разгаре, когда Аскольд вдруг почувствовал тревогу. Как она возникла, почему? Он попробовал восстановить в памяти то обрывки фраз, то шутки смехотников и балагуров, которых фестутники выводили на поляну в разных одеяниях, и те, изображая то девушек-русалок, то леших, рассказывали о своем бытье-житье в реках, в лесу, в болотах с лягушками-квакушками. Вот сказ лесного лешего о встрече с озорной русалкой «подслушал» болотный леший и, переодевшись в юную русалку, предстал перед лесным лешим, но забыл спрятать хвост и рога, которые все время появлялись, как только она наклонялась к «своему возлюбленному» и пыталась его поцеловать. «Рога» так быстро вырастали на голове, а «хвост» вздергивался вверх с таким азартом, что зрители, глядя на немудреное представление, покатывались со смеху и хватались за животы. Но вот «русалочка» увидела удалого дружинника, который тренировался в военной ловкости. Ах, как метко стреляет он из лука! А что это он взял в руки, такое длинное, с острым наконечником? Палку? И она так может! И «русалочка» берет длинную-предлинную корягу и идет соперничать в ловкости с дружинником! Ах, как легко она перепрыгивает через препятствия! Ах, как она красиво встала в боевую позу! Взмах! И снова выскакивают на голове «рога» и взметается вверх неугомонный «хвост».
Все покатываются со смеху, и Аскольд вместе со всеми, но в тот самый момент, когда смех вырывался с неудержимой силой из недр души его преданных дружинников, он поймал два-три настороженных взгляда…
Череда бесхитростных сцен снова на время отвлекла его, и Аскольд успевал только вытирать слезы от смеха. Но тревога вдруг стала нарастать, и с такой стремительной силой, что Аскольду стало не по себе. Он оглянулся на Дира раз, затем другой…
– Куда зовет тебя твой дух? – обеспокоенно спросил Дир, глядя на своего встревоженного предводителя.
– Знать бы! – с досадой ответил Аскольд и взглядом поискал Бастарна в толпе приближенных.
– Верховного жреца здесь нет, – помог ему Дир, видя его ищущий взгляд.
– Он что, против русального праздника? – удивился Аскольд. – Я же видел его во время жертвоприношений! Куда он ушел?
Дир подумал, говорить или нет, и решился:
– Он сказал, что не хочет видеть, как Аскольд смеется в последний раз!
– На что он намекает? – вскипел Аскольд.
– На неудачу во втором походе на греков.
– Опять он за свое! Я же знаю все его заклинания! Ни разу они не подвели меня! Чего он боится? – возмутился Аскольд.
– Он сказал, что из похода ты привезешь причину своей ранней смерти, – тяжело выговорил Дир и внимательно посмотрел в лицо Аскольда.
– Я это уже слышал от него! И не верю в это пророчество! И тебе не советую мутить свою душу его предсказаниями, – гневно посоветовал Аскольд и перевел взгляд на буйно отплясывающих дружинников, переодетых в русалочьи наряды. – Ха-ха-ха! – от души хохотал Аскольд, глядя на игры русалок и леших.
Экийя долго в этот вечер не могла уложить сына, а казалось бы, что проще, если рядом находится ласковая, добрая нянька и можно переложить эту заботу на нее. Но Экийя верила: если ребенок уснет на ее руках, то благополучие в ее доме завтра не иссякнет. Почему-то в последнее время ей в голову постоянно приходила одна и та же тревожная мысль: ее счастье зыбко, оно не вечно и может в любой миг оборваться. В такие минуты она бросалась к сыну, пылко прижимала его к себе, жадно целовала в щеки, лоб, черные кудри и внимательно всматривалась в черные глаза, подернутые печальной дымкой. Что он чувствует, этот маленький человечек? Почему вдруг смех его обрывается на полузвуке, не дозвенев радостью? Что прервало его? Какое видение мелькнуло только что перед его взором, омрачило душу и сомкнуло уста?
– Ты что-то увидел сейчас, сынок? – тревожно спросила Экийя, почувствовав, как вспотел лоб от предчувствия.
Ребенок испуганно прильнул к матери и крепко обнял ее за шею.
– Не уходи от меня! – прошептал он ей на ухо, и она, задохнувшись от счастья, ласково погладила его по спинке. – Мне страшно! – пояснил вдруг он так же таинственно, на ухо, и снова крепко обнял ее за шею.
Экийя вздрогнула. Который день он шепчет ей эти слова и боится сказать что-то еще.
– Ну, мой маленький, мой ненаглядный сыночек, что тревожит тебя? Стража в доме утроена, на каждом повороте стоят с секирами удалые охранники семейного счастья киевского князя, а сын его который день не засыпает и не дает покоя чуткой матери.
– Нас всех… убьют, – наконец шепотом сказал он и пояснил: – Я это вижу каждый день, когда берусь за поясной набор. – И он указал на угол за большим столом с игрушками, изготовленными на досуге умелыми руками отцовских дружинников и ремесленников Киева.
– Что ты, радость моя! У нас столько защитников!
– Мама, я это вижу каждый день! Это не сон! Я боюсь спать! – захлебываясь слезами, горько говорил он и, подведя мать к пустому углу, сказал: – Вот, я протягиваю руку за своим поясным набором и поворачиваюсь лицом к этому проклятому углу!
– Не говори о проклятиях, сыночек, так нельзя, – пытаясь отвлечь сына от болезненного состояния, улыбнулась Экийя и провела рукой по стене. – Светлый дух, мой Святовит, скажи, о чем ты хочешь предупредить мою семью? – Она присела на корточки рядом с сыном и пристально вгляделась в ту часть стены, которая была на уровне лица Аскольдовича. Сын закрыл свое лицо ладонями.
Экийя не отводила от стены взора. Немного погодя на стене забрезжило светлое облачко, и внутри его она увидела фигуры близких ей людей, спускающихся к какой-то реке, где началась кровавая сеча.
– Нет! – закричала Экийя что. было сил, и на ее вопль сбежалась вся стража дома.
Бледная Экийя безумно раскачивала головой в разные стороны, крепко прижимая к себе сына, и повторяла только одно слово: «Нет! Нет! Нет!»
Стражники недоуменно обшарили всю комнату, привели для гневного спроса няньку, дрожащую от страха и ничего не понимающую, но Экийя не могла от ужаса, охватившего все ее существо, что-либо произнести и молча смотрела на суету и переполох охраны.
– Мама! Ты же говорила, что Святовит нам поможет! – вдруг пролепетал напуганный Аскольдович и вернул Экийю к действительности.
Она поцеловала сына в лоб, крепко обняла его за плечики и резко приказала стражникам:
– Найдите Аскольда, позовите его домой и без него не возвращайтесь!
Стражники побледнели: найти Аскольда в русальную ночь!
– Идите! – гневно потребовала Экийя, видя на лицах стражников нежелание выполнить ее приказ, и сурово добавила: – Не то я сама вам голову снесу! – топнула она ногой, и те наконец-то двинулись к двери.
Экийя задумалась. Ежели Святовит который день подряд извещает семью Аскольда о ее дальнейшей судьбе, значит, боги ничего уже изменить не могут. Такова воля свыше! А как же изменить волю богов? Да, семейных молитв к Святовиту она знала множество! Это были молитвы о сохранении здоровья отца, сына и матери. Это были молитвы о сохранении благополучия ее дома. И она задабривала своих богов жертвами, чтобы они ее ничего этого не лишили. Значит, нужна другая молитва! Но где? Неужели прямо у изваяния Святовиту, там, где молится сам Аскольд, Бастарн и Дир, а другим – не место? Тем более женщинам!..
Экийя погладила сына по голове и твердо сказала:
– Мы попробуем это сделать вместе с тобой, сынок, и прямо у Святовита попросим его избавить нашу семью от бед и несчастий!
– Но к Святовиту имеют право подходить только мужчины! – шепотом напомнил Аскольдович. – Отец говорил, что детям и женщинам Святовит не внемлет!
– Я знаю, сын, – устало возразила Экийя, – но мы будем очень усердно просить Святовита снизойти до нашей мольбы, может, он и сжалится над нами.
– А может, лучше дождаться отца, поведать все ему, и пусть он вымолит у Святовита защиту нашей жизни! – с явным страхом перед всесильным божеством проговорил Аскольдович, глядя на мать умоляющим взором.
– Почему ты боишься Святовита? Ты же защитник мой и своей будущей семьи, – грозно проговорила Экийя, стараясь не выдать сыну своего страха перед Святовитом. Сказано ведь жрецами: от рождения женщина поклоняется богине Мокошь и богу Радогосту. Мокошь дает ей здоровье, семью и детей, а Радогост – мужа и радость в любви! Чего ты еще хочешь, женщина? Посягнуть на удел мужчины? Не гневи богов! Тебе уготована твоя судьба, ей и повинуйся!.. Но тот мужчина, который должен в одно мгновение отвести роковой удар злой судьбы от своего семейного очага, не слышит зова своей семьяницы! Он слеп и глух к зову своего сына. Он потерял чутье своего сердца. И я не могу больше ждать, ибо боги, которые известили меня о предстоящей беде, смотрят на меня своим испытывающим взором. Я не могу бездействовать. Радогост мне этого не простит.
Экийя взяла сына за руку и убежденно изрекла:
– Я знаю, что надо сказать Святовиту! Пошли!
Она вывела княжича из дома и повела его в южный угол двора, где в тени вишен, ясеня и каштанов на особом постаменте возвышался Святовит. Четырехликое изваяние встретило своих необычных просителей с каменным равнодушием и заставило правую руку княгини, державшую горящий факел, взмокнуть от напряжения и нервной дрожи. Сын, чувствуя волнение матери, вцепился в ее левую руку дрожащими ручонками и не сводил глаз с ее бледного как полотно лица. На огромный каменный лик сурового бога Аскольдович никак не мог заставить себя взглянуть хотя бы одним глазом. Все его существо, казалось, просило прощения у всемогущего бога за то, что он нарушил древний запрет и вместе с матерью свершает преступное святотатство.
А мать, пересилив свой страх, подняла повыше факел и всмотрелась в лико Святовита с южной стороны.
– Прости, всемогущий боже, что женщина предстала перед тобой со своим сыном. Муж мой, Аскольд, киевский князь, веселится на Почайновской Поляне в честь русального празднества и не чует, какая беда нависла над его неугомонной головой! – Экийя говорила горячим, горестным голосом и, казалось, верила в то, что каждое ее слово, как раскаленная стрела, вонзается в душу стоявшего перед ней божества и заставляет его склониться к лицу скорбно просящей женщины. Она пристально вглядывалась в южное лико божества и не увидела того холодного равнодушия камня, которое так напугало ее сначала. Она перевела дух и с новым приливом сил обратилась за помощью к Святовиту: – О величайший и мудрейший из богов! Молю тебя, спаси и сохрани жизнь того, кто дал жизнь сыну моему и кто хочет завтра уйти в поход на греков, чтоб покарать их за коварство и обман! Сделай так, молю тебя, чтобы он вернулся домой, а греки не причинили бы ему вреда. Пошли им мир и понимание друг друга! Пусть осветится душа Аскольда светом доброты и любви к другому народу, который в ответ на это сохранит жизнь и ему! Сделай так, Святовит! Прошу тебя! Прошу за себя и своего сына, которому будет трудно жить без отца! – горячо, не вытирая слез, просила Экийя и слегка повела левой рукой, которую никак не хотел отпускать Аскольдович.
Сын робко взглянул на грозное лико Святовита, увидел снисходительное понимание во взгляде огромного божества и чуть слышно проговорил:
– Сделай милость, Святовит, убереги моего отца, киевского князя Аскольда, от лиходейства и убийств! Пусть он никого не тронет в пути своем, и его – никто! Прошу тебя, добрый Святовит! – уже увереннее произнес под конец Аскольдович и, достав свой драгоценный поясной набор, бережно положил его к подножию изваяния.
Мать поцеловала сына в голову, затем крепко обняла его левой рукой и низко поклонилась Святовиту:
– Благодарю тебя, о великий боже, что не отпугнул, а выслушал плачущую женщину! Слава тебе, великий Святовит! – трижды проговорила она и осветила себе тропу, ведущую к дому.
Аскольд все не появлялся, и Экийя, немного подождав его на крыльце, увела сына в детскую, надеясь на быстрый сон младенца. Но время шло, а возбужденный ребенок никак не мог сомкнуть глаз и не отпускал от себя мать ни на минуту.
Обеспокоенная нянька металась до детской в поисках утешения для княжича и, вдруг спохватившись, вспомнила о чудодейственном отваре колючего пустырника и мяты и приказала слугам Аскольдова очага немедленно приготовить целительный отвар. Когда отвар был готов, первым его опробовала нянька, затем глоток отхлебнула Экийя и только после этого испил его и Аскольдович. Через некоторое время отвар подействовал, и ребенок уснул. Но Экийя, все еще обеспокоенная его состоянием, боялась потревожить сына, объятого подступившей к нему дремотой, ждала, когда ее ненаглядное создание заснет настоящим, крепким сном, и не позволяла няньке забрать его от себя и переложить на меховую детскую постель. Напряжение, страх немного отступили, но все еще держали в своих цепких руках душу княгини, которая, любуясь спящим сыном, нет-нет да и вспоминала об Аскольде, который так и не пришел на ее зов. Мысль эта неприятным скрежетом острой секиры отзывалась в ее сердце, и порой ей казалось, будто она ощущала эту, примеряющуюся к ее груди секиру, а он, Аскольд, ее любовь, ее жизнь и мука, он не ведает, что может ожидать его в пути.
«Ну где он? – терзалась она, не замечая боли в неудобно согнутой спине и затекших от однообразной позы руках. – Неужели все то, что в сей час творится на Почайновской поляне, для него важнее, чем скрытый, но поглощающий всю энергию ее души зов ее крови и сердца? Пусть он не поверил слугам, но не поверить зову моего сердца он не мог!.. Что с тобой случилось, повелитель мой?» – стонала Экийя, а Аскольд все не появлялся…
Она очнулась, когда поняла, что на ее руках сына нет. Аскольдович, широко разметавшись на меховом ложе, спал глубоким сном. Нянька, отвернувшись к стене, тоже спала. Экийя осторожно встала, потушила свечу и тихонько пошла к своему одру, зная, что он пуст и холоден, ибо тот, кто согревает его, заливается ныне удалым смехом на весь Днепр и не поддается ее зову. «О боги! Что же вы с нами делаете?» – стенала Экийя и вдруг почувствовала возле себя дыхание какого-то человека. Факелы, скудно освещавшие длинный узкий коридор, ведущий закоулками к разным отсекам большого деревянного дома, не смогли четко высветить того, кто умело скрывался в одном из ответвлений коридора и терпеливо поджидал свою жертву.
Экийя затрепетала от страха. «Где стражники?» – мелькнула запоздалая мысль, а ноги словно приросли к полу, и княгиня поняла, что не может сдвинуться с места.
– Кто здесь? – еле выдавила она из себя и вгляделась во тьму левого крыла коридора.
В отсеке стоял человек в темном плаще с большим капюшоном.
– Это я, княгиня, – взволнованным шепотом отозвался он, и Экийя вздрогнула: опять этот странный монах!
– Зачем ты сюда пришел? Хочешь потерять голову? – устало спросила она, тщательно скрывая промелькнувшую радость. – Я же предупреждала тебя, что нам не следует видеть друг друга! Почему ты рискуешь своей и моей жизнью? – как можно суше спросила Экийя, но в следующее мгновение вдруг ощутила прилив горячей страсти.
– Я ночью уплываю в свою столицу сообщить о грозном походе твоего мужа на мою страну, – с такой болью и тоской проговорил монах, что Экийя не выдержала.
– Но, Айлан, я не смогла и не смогу ничем тебе помочь!
– Задержи Аскольда хоть на один день, – властно прошептал он.
– Это невозможно! – простонала она.
– Попытайся! – еще настойчивее потребовал он.
– Мне кажется, если бы ты убил меня и моего сына, то и это не остановило бы Аскольда, – горько призналась Экийя и пытливо посмотрела в глаза монаха.
– У меня есть такой приказ, – хмуро проговорил Айлан, выдержав ее взгляд.
– Что же ты медлишь? Стражники на ритуальной поляне, русалочьи песни поют, никто не мешает, а я не способна защитить себя, – хладнокровно сказала Экийя, чувствуя какую-то пустоту в душе.
– Я… полюбил тебя, киевская княгиня, и не могу поднять на тебя руку, – медленно и тяжело проговорил Айлан и, отбросив капюшон, склонил перед Экийей свою голову. – Моя жизнь мне не принадлежит. Я дал обет… Но я желаю тебя! Это стало моей болезнью. Два года, с тех пор как я увидел тебя, я истязаю свое тело, чтобы не думать о тебе, но это не помогло избавиться от наваждения. – Он говорил глухим, срывающимся голосом, стараясь не смотреть в ее прекрасные, горящие тоской по другому мужчине глаза. – Я видел, как ты с сыном молилась Святовиту. Ты думаешь, что над Аскольдом нависла гроза? Да он сам виновен в том! А я не могу без тебя, Экийя! И ты должна познать во мне мужчину! – неожиданно твердо заявил он, взяв ее за обе руки.
И она быстро прошептала:
– Иди в свою келью, монах, и жди меня хам!
– Это слово княгини? – с надеждой спросил он.