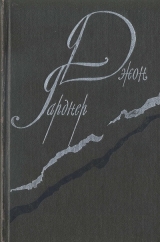
Текст книги "Никелевая гора. Королевский гамбит. Рассказы"
Автор книги: Джон Чамплин Гарднер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 32 страниц)
Кэлли помотала головой:
– Я не могу этого выдержать, Генри.
И тут она опять закричала. Генри наклонился над ней, прижимая ее руку к своему животу, по щекам у него бежали слезы. Вошла сестра со шприцем, но Генри не отпустил руку Кэлли, а когда, сделав укол, сестра удалилась, Кэлли снова начала кричать. Генри напрягся, подхлестнутый этим криком, и вдруг заплакал навзрыд. Слезы принесли чувство освобожденности, словно он вырвался на свет из тесного сундука.
Через десять минут Кэлли совсем обезумела. Она кричала от того, что по коридору мимо двери провезли коляску, вскрикнула, когда зажгли верхний свет и в комнату вошел доктор, и снова закричала, когда Доктор взял ее за руку, чтобы пощупать пульс. Она так сдавила руку Генри, будто хотела ее расплющить.
– Я никогда ее такой не видел, – сказал Генри; не сказал, а заорал на доктора и на сестру. – Она не трусиха. Это ее убивает.
Доктор кивнул. Он сказал сестре:
– Приготовьте еще один шприц. – Сестра вышла. – Вы бы ушли отсюда, мистер Сомс.
Генри не пошевелился.
– Вам лучше уйти, – повторил доктор.
Вошла молоденькая сестра, и Костард сказал:
– Привезите сюда каталку, перевезем ее в родовую.
Сестра кивнула и посмотрела на Генри, потом вышла. Доктор осторожно отнял у него руку Кэлли. Кэлли снова закричала, приподнявшись на локтях, растянув в надсадном крике рот так, что он стал похож на плоский черный прямоугольник.
– Будьте вы прокляты, будьте прокляты! Генри, да помоги же мне! – Она скорчилась и сдвинула верхнюю простыню. Нижняя была в крови.
Доктор повернулся к Генри:
– Уйдите-ка лучше.
Генри попятился к двери. Кэлли хрипло закричала:
– Я тебя ненавижу. Мне на все наплевать. Я тебя ненавижу. Я люблю другого.
6
Он просидел в приемном покое пять часов. На коленях у него лежал журнал, на обложке изображены нижние ветви рождественской елки, под ними – этот же самый журнал, та же обложка, та же рождественская елка, журнал, елка, журнал, все уменьшаясь, уходят вглубь, будто в колодец шахты. Четыре часа подряд он слышал ее крики и сидел не двигаясь, зарывшись в ладони лицом. В перерывах между криками что-то бубнили голоса, но к нему никто не подходил. За окном посветлело, и ветер утих, и сменились с дежурства ночные сестры. Дневная сестра потрогала его за плечо и спросила:
– Кофе будете?
Он посмотрел на нее и, не поняв вопроса, кивнул. Он сказал:
– Моя жена… – Сестра вернулась с кофе, он стал отхлебывать, и у него немного прояснилось в голове.
– Она больше не кричит, – сказал он.
На мгновение ему стало радостно, легко; потом мелькнула смутная догадка, и через секунду, невидящим взглядом уставясь в журнал, он уже не сомневался: она умерла. От страшной мысли екнуло сердце.
– Она умерла, – прошептал он.
Сестра, посмеиваясь, сказала:
– Глупости.
Разговаривая и смеясь, вошли док Кейзи с Джорджем. Джордж нерешительно остановился у дверей. Генри встал и крикнул:
– Вас вызвали по телефону?
Джордж покачал головой, по-прежнему топчась в дверях.
– Меня – нет. Ребенок еще не родился?
– Она умерла. Мне кажется, Кэлли умерла.
Док Кейзи на мгновение остолбенел.
– Вздор собачий. Ведь не совсем же они идиоты.
Генри затряс головой и потянул себя за руку сильно, до боли.
– Сорок восемь часов длились схватки, потом кровотечение. Я не знаю. Я думаю…
– Чушь, – сказал док Кейзи. Он яростно скосил глаза на Генри, но все-таки резко повернулся и направился к двойным дверям. Назад он не пришел.
Джордж вдруг сказал:
– Нам с тобой надо позавтракать. Пойдем-ка.
Генри довольно неуверенно держался на ногах, у него занемели зад и ляжки; он помедлил, но все же пошел за пальто. Джордж подхватил его за локоть, и они направились к дверям, вышли на мороз, спустились по ступенькам. От блеска снега – на газоне, на ветках, на крышах – у Генри заломило глаза. На миг показалось, что стронулось, поплыло окружающее их кольцо гор; потом горы снова остановились – бело-синие, неподвижные, как всегда. Джордж проскользнул на свое место за рулем и включил зажигание. Мотор взревел, кабина затряслась, и, глядя в щель между досками в полу кабины, Генри видел неподвижный, мягкий, рыхлый снег. Джордж протянул руку к рычагу скоростей, включил первую, потом третью скорость и быстро схватился за руль.
– Генри, ты совсем уморился, – сказал он. – Если эта история кого-то прикончит, то тебя. – И потом добавил: – Или меня. – Он засмеялся.
Мог бы родиться мальчик, подумал Генри. Мальчик, вроде Джорджа, родится несчастливым на свет, вырастет и сразу же осиротеет, и пойдет в армию, и чуть не погубит себя из-за шестнадцатилетней японской девчонки, да к тому же проститутки, так, во всяком случае, сказал Лу Миллет, а после этого возвратится домой и, втягиваясь помаленьку, станет вкалывать на ферме, на развалюхе ферме с развалюхами машинами, и она мало-помалу слопает его живьем, руки, ноги, а там, глядишь, и сердце, если от сердца хоть что-то останется. Назвали бы его Джеймсом.
Генри сказал:
– Если Кэлли умерла… – Он вдруг понял, что больше в это не верит. Он перестал думать о том, что она может умереть, едва увидев Джорджа с доком Кейзи. На сердце у него полегчало, но потом он снова забеспокоился. Зря он уехал. В любую минуту там могут за ним прийти.
Джордж сказал:
– А ну тебя к чертям. У тебя родится парнишка со здоровенным ртом, вроде мамашиного; плечища у него вымахают в три фута, и он такого жару задаст фермерским девкам, что какой-нибудь там Фройнд рядом с ним покажется евнухом.
Генри торопливо глотнул воздух и задержал дыхание. Но оказалось, Джордж и сам ошарашен тем, что сорвалось у него с языка, он даже не отважился на объяснение, чтобы Генри не понял его превратно. Генри задумался, что бы такое сказать. Он глядел, как мелькает в щели между досками коричневый снег мостовой.
Джордж остановился у погребка Лероя, они вылезли из кабины и, спустившись по обледенелым ступенькам, вошли. В погребке было душно, пахло салом. Народу прорва, несколько женщин, но в основном старики, каждое утро приходившие сюда завтракать из своих домов, меблированных комнат, мансард. По обе стороны зала помещались зеркала, из-за этого погребок казался бесконечным. Генри снова подумал, сколько же это на свете людей – человек пятнадцать-двадцать здесь; в городе – десять тысяч, еще шесть тысяч в Атенсвилле; в Олбани, в Ютике и того больше… ум за разум заходит.
– Вот сидят они себе и горя не знают, – сказал он, – а моя бедняжка Кэлли…
Джордж прошел в кабину, глядя себе под ноги, потом усмехнулся и проговорил:
– Черт те что, мура какая-то… люди, лошади, кошки.
Генри кивнул, не вполне понимая, о чем он говорит.
Он вспомнил кровь на простыне.
Джордж поглядел на него и протянул ему сигарету. Он сказал, словно хотел переменить тему:
– Ты только посмотри, как они все тут уютно устроились.
Генри, хмурясь, огляделся. Он увидел старика с бакенбардами, морщинистой шеей и большой голубоватой шишкой на виске. Рядом с ним за столиком сидел молодой человек, уткнувшийся носом в газету.
Генри сказал:
– Ты ведь, наверное, не помнишь моего отца?
– Смутно, – отозвался Джордж. – Я тогда был еще маленький.
Генри всем телом подался вперед, сложил на коленях ладони и опять взглянул на юношу с газетой.
– Он с птицами разговаривал, со всякими, какие только есть. Они расхаживали у него по плечам, словно он не человек, а дерево. Самый толстый человек на свете. Триста семьдесят фунтов. Это его в конце концов и прикончило.
Джордж молча слушал.
– Он был как гора. Ходил с тростью в два дюйма толщиной. Помню, вечерами он читал стихи. Читает, бывало, и плачет.
– Говорят, он был очень хороший человек, – сказал Джордж.
Генри кивнул, потом медленно покачал головой.
– Как гора. Господи, да видел бы ты только, в каком гробу его похоронили. Нечто уму непостижимое, а не гроб. Я думаю, он весил фунтов шестьсот вместе с покойником.
Джордж разглядывал старика с шишкой на виске. За его спиной сидела женщина с подведенными бровями, напудренным лицом и грубыми руками. С ней был мальчик, вероятно, лет тринадцати, близорукий, ухмыляющийся, со скошенным подбородком. Он был похож на мать, уже вошел в ту же колею. Может быть, и все так, подумал Генри. Сухопарая и жилистая ночная сестра, любящая самолично принимать младенцев, живых или мертвых, тоже кому-то приходится дочкой. И Костард, узкоплечий, носки врозь, с брюшком, обтянутым жилеткой, и у него есть дети, он говорил. Генри потряс головой.
– Чудно, – сказал он. – Господи Иисусе.
Джордж затянулся и ответил, выпуская дым, смешивая его со словами:
– То есть еще как чудно! Ты знаешь, какая вещь есть у каждого из них, до единого? Зеркало. Сунь человека на необитаемый остров, и он первым долгом разыщет там чистую лужицу, чтобы посмотреть на свое отражение.
Он сказал это с горечью, и Генри смущенно рассмеялся. И тут же закрыл рукой лицо.
– Что с тобой?
– Да ничего, – ответил он.
Забыл, совершенно забыл. Вот он сидит тут целых десять минут и ни разу о ней не вспомнил, даже не удосужился подумать, назло ему или серьезно она крикнула: «Я люблю другого!» Тогда ему казалось, между тем местом, где он стоит, и кроватью, на которой лежит Кэлли, пролегает бесконечно долгий путь. Он стоял беспомощный, втянув голову в плечи, такой старый, словно все человеческое уже утратило для него смысл. Может быть, она действительно его не любит. Ведь существует еще и сейчас Уиллард Фройнд. И надеяться человеку не на что. Может, иногда и придет к тебе долгожданная удача, но особо радоваться ей не стоит, твердо рассчитывать можно только на то, что в один прекрасный день у тебя выйдет из строя сердце. Его руки сжались в кулаки.
Джордж, не спускавший с него глаз и, наверно, угадавший его мысли, сказал:
– Ты, я вижу, устал как собака.
Он опомнился. Подошла официантка. У нее было длинное, рябоватое лицо, губы накрашены розовой помадой. Девушка зазывно улыбнулась Джорджу, и, когда она отошла, Генри сказал, не поднимая глаз:
– Ты ей понравился. Ты бы на ней женился.
Джордж усмехнулся.
– Пуганая ворона куста боится.
– Нужно же тебе на ком-то жениться, – сказал Генри. – Кроме шуток. И Кэлли то же говорит.
Такой реакции на свои слова он не ждал. Несколько минут Джордж молчал и сидел как каменный, потом вдруг смял сигарету и встал.
– Давай-ка трогаться. – При этом он усмехнулся, но за всю дорогу до больницы не произнес ни слова.
Дежурная сестра сказала:
– Мистер Сомс, вы можете пройти в родильное отделение. Доктор Костард вас повсюду ищет.
Генри облизнул губы и направился к двойным дверям. Джордж подмигнул, когда он обернулся. Джордж примостился в темном уголке, рядом с журнальным столиком. Его глаза, глядящие на свет, блестели, словно у совы. Лицо стало серым, как пепел.
В родильном отделении Генри с трудом удержался, чтобы не спросить у дежурной сестры, остался ли в живых хоть кто-нибудь, жена или ребенок, но только выжидательно склонился к ней, что есть сил сжимая одной рукой другую.
– Вы можете увидеть вашу жену, – сказала дежурная. Тогда он понял, что если кто-то из двоих умер, то это ребенок, а Кэлли жива; но сразу же себя одернул. Сестра ведь этого не говорила. А потом его проводили в палату, и почему-то он сразу понял – хотя она лежала неподвижно, словно без сознания, – что Кэлли жива. У кровати были подняты перила. Покойникам перила не нужны. Сестра сказала:
– Без кесарева обошлось. Сделали надрез и наложили щипцы.
– Ребенок жив? – спросил Генри.
Сестра улыбнулась лукаво, как кошка.
– Там сейчас идет уборка.
Он хотел еще раз повторить вопрос, но сестра ушла.
Кэлли приоткрыла глаза и смотрела на него. Он к ней наклонился.
– Доктор, – проговорила она хмельным, журчащим голосом. – Генри все еще не пришел?
Он так и застыл, изумленный, чувствуя, как холод пробегает по спине.
Ее пальцы зашевелились, словно она хотела ухватиться за его руку, но она была еще слишком слаба. Она сказала:
– Вы были так добры к нам, ко мне и к Генри. Все были очень добры. Я прошу вас, передайте Генри… – Она улыбнулась, безучастно, будто и впрямь умерла, отлетела куда-то, где стала для всех недоступна, и прошептала: – Доктор, мой муж хороший, добрый человек. Передайте ему, что я так сказала. Передайте ему, я сказала это во сне. – Она снова улыбнулась, загадочно, неожиданно хитровато, и ее глаза закрылись. Генри озадаченно моргнул.
А потом рядом с ним оказался док Кейзи, он вел его сквозь ослепительный солнечный свет мимо увядших сухих растений к застекленной стене, за которой виднелись детские кроватки.
– Док, – Генри всхлипнул; он совсем растерялся, дрожал и дергал себя правой рукой за левую.
– Не хлюпай, – рявкнул док. – Можно подумать, это первый оголец, родившийся на свет божий. Уж не Каин ли? Смотреть на тебя тошно.
Сестра сказала:
– Мальчик, мистер Сомс. Очень, очень крупный мальчик. Девять фунтов, одна унция.
У ребенка были по-монашески сложены ручки, прямоугольный, как у Кэлли, рот. На щечках остались следы от щипцов, одно ушко почернело и вздулось. Деформированная безбровая головка. Рот разинут в плаче, трясутся губки.
– Ну? – рявкнул док Кейзи и подтолкнул Генри под локоть.
Генри прислонился лбом к стеклу, в его груди пылало пламя. Сквозь стекло он слышал голос ребенка. А потом он ничего уже не видел, он плакал, и все вокруг задвигалось, закружилось.
– Он прекрасен, – сказал Генри. Слезы сбегали вниз по щекам, он чувствовал их вкус. – Он прекрасен. Господи Иисусе.
7
Теперь, как показалось Генри, все стало по-другому. Теперь все ушло из его рук. Проходя по приемному покою, он огляделся, но там никого не оказалось. Больные; комнатные растения; чужой доктор что-то шепчет, перегнувшись через стул, а Джордж Лумис с изумлением поднял глаза от журнала; вот и все. Он подошел к своему угловатому черному «форду», сел за руль. Из больницы вышел док Кейзи, заторопился к нему, крича. Но Генри притворился, что его не видит, и вывел машину на улицу. Он внимательно оглядывал тротуары, потом выехал за город, и по-прежнему – ни малейших следов. У «Привала» стояли грузовики, четыре грузовика, длинные, темные, увязшие в снегу, и Генри отпер закусочную и пригласил шоферов войти и сварил им кофе. У двери лежал пес и следил за каждым его движением, словно гадал, куда он девал Кэлли. Генри рассказал шоферам о Джеймсе, о ребенке – он теперь произносил это слово, – угостил их сигарами «Белая сова», хохоча, размахивая руками, но, возбужденный разговором, он все время чувствовал в себе и возбуждение совсем другого рода и не спускал глаз с двери и с широкого окна, из которого виднелось шоссе, идущее к лесу. Нет, все так же никого.
Никто не появился и с наступлением сумерек. На коровниках Фрэнка Уэлса зажглись фонари; в доме по-прежнему темно, хозяева еще не вернулись. Нагрянули новые посетители, и Генри снова стал возиться у плиты. Вдруг он заметил, что уже совсем стемнело, и по-прежнему никого нет. В полночь он вымыл жаровню, кастрюли из-под жаркого, запер дверь и выключил свет.
Он пошел в гостиную – Принц скорбно потащился следом – и сел у темного окна. Снег в лунном свете казался голубовато-белым, и стены в комнате были голубовато-белые с серебринкой, мужчина и женщина, мостик, ива, дети. В лесу спокойно, тихо. На Вороньей горе в четырнадцатикомнатном кирпичном доме, где, будто призрак, в одиночестве слоняется, стуча протезом, Джордж Лумис, не светится ни единого огонька, ничто не шелохнется. За лесом, на ферме Фройнда, сейчас тоже, конечно, темно; все семейство спит; завтра с раннего утра за работу. Вот только Уиллард Фройнд, наверно, еще не лег, сидит, усмехаясь про себя, или сбежал куда-то.
Послышались какие-то невнятные голоса, и Генри приблизил лицо к стеклу. Он без удивления увидел, что над лесом носятся птицы, тысячи птиц, бесшумно кружат в воздухе, как совы, но переговариваются – совсем как люди, бормочут какие-то слова. Птицы пролетают сквозь пар, исходящий от деревьев, а может быть, это туман или дым. То ему виделся только дым и птицы, лес словно исчез или выпал из его сознания, то снова появлялся лес, серый лес, надвигающийся все ближе. Рев ветра или, может быть, огня заглушал голоса, гнал дым по кругу, и медленные витки дыма поглощали птиц, мостик под ивой, сосны на горе. Вдруг Генри увидел идущего по двору человека и вскочил.
Землю укрывал голубовато-белый, рассыпчатый снег, деревья снова отодвинулись и вырисовывались четко в прозрачном ночном воздухе. Пес наблюдал за ним, подняв уши.
И тут ему все стало ясно наконец. Никого не будет. Уиллард Фройнд у них никогда не появится. И Кэлли больше не увидится с ним, а если и увидится, то неважно, потому что теперь уже время прошло. Уилларда Фройнда – вот кого прикончила эта история. Нужно было присутствовать, а Уилларда Фройнда там не было, и сейчас для него не осталось места, не осталось ни любви, ни ненависти… даже в доме его отца. Он еще поймет это, Уиллард. Не осталось места, только лес – голые деревья и снег, и движущиеся по снегу тени одичавших собак, и птиц, и, может быть, если не врут люди, рысей.
Сам того не замечая, он пододвинулся к окну и вглядывался, наклонившись, не ощущая больше комнаты за своей спиной. Есть такая игра, детская игра – нужно выстроить в ряд костяшки домино и толкнуть крайнюю, и все они со стуком повалятся одна за другой. Если одна из костяшек стоит не в ряду, то она так и останется, когда другие повалились, так и останется стоять торчком, будто узкая старинная надгробная плита, – одна-одинешенька на ветру, и торчать ей так до Судного дня.
Генри долго еще простоял, глядя в окно; потом, дыша неглубоко, чтобы унять боль в сердце, он повернулся и пошел в спальню.
IV. ВЕЩИ
1
Генри и Кэлли вышли проводить его на крыльцо. Кэлли, накинув на плечи теплый платок, связанный из зеленых ниток трех разных оттенков, держала завернутого в желтое одеяльце ребенка и махала вслед машине свободной рукой, а Генри, похожий на лысеющего, поднявшегося на задние лапы медведя, стоял с ней рядом и чуть позади, положив ей на плечо переднюю лапу, и тоже махал ему вслед. По другую сторону от Кэлли лежал пес. На крыльце горела лампа – дешевая имитация каретного фонаря, – свет к тому же падал из окон гостиной, и фигуры тех, кто стоял на крыльце, были как бы окружены ореолом, их очертания казались светлее лиц. Перед крыльцом и слева от крыльца на росистый, недавно подстриженный газон падали из окон и открытой двери косые полосы света; на маленькие остроконечные крокусы под окном тоже падал слабый свет; освещены были, хотя слабее, и заскорузлые стволы, и нижние ветви лиственниц вдоль подъездной дороги, выложенной желтыми камешками. Верхушки лиственниц вырисовывались темными силуэтами, такими же черными, как гора или фронтон крыши; а позади них раскинулось усеянное звездами бездонное небо. Ну просто реклама страховой конторы из «Сатердей ивнинг пост». Им можно было позавидовать.
У выезда на шоссе Джорджу пришлось остановиться; он снял с руля единственную руку и переключил скорость, одновременно надавив на тормоз ногой, так что грузовичок чуть не врезался носом в землю. С юга шла какая-то машина. Он оглянулся – Генри и Кэлли входили в дом, а пес поднялся и стоял с видом не враждебным и не дружелюбным – просто деловитым; так стоят пастухи, мирно наблюдая за стадом. Свет на крыльце зажегся и погас – это послала ему прощальный привет Кэлли – и больше уж не загорался. Почти в то же мгновение фары едущей по шоссе машины метнулись к нему в бешеном вираже и увильнули в сторону на волосок от катастрофы. В машине горел свет, и Джордж успел разглядеть пьяных парней, издевательские ухмылки на их лицах. «Чертовы психи, сволота», – подумал он и сквозь гулкие удары сердца все еще слышал, как будто застопорилось время, неожиданно взревевший мотор, свист ветра, скрежет сносившегося коленчатого вала. Машина нырнула вниз, пронеслась мимо «Привала» и стала взбираться на противоположный склон. Через несколько секунд они скрылись за гребнем горы, и ночь опустела. Джордж выехал на магистраль, поставив на акселератор дрожащую правую ногу. И пошла насмарку вся прелесть ночи – его снова одолели мысли об убийстве.
Об убийстве ему рассказал Генри. Он слышал по радио.
– Это на Никелевой горе случилось, не более десяти миль отсюда, – рассказывал он. – Старик какой-то. Называли имя, но я забыл. Кажется, он вернулся домой, а его уже там поджидали. Ударили по голове трубой. В общем, как я понял, забили его до смерти, страшно было смотреть.
Кэлли сидела, держа на коленях ребенка. Волосы ее блестели под светом лампы. Ребенок спал, обхватив пальчиками палец матери, но она по-прежнему что-то ему напевала.
Джордж спросил:
– Узнали уже, кто это сделал? – Он представил себе собственный дом, такой уединенный и, должно быть, заманчивый для воров и всякого хулиганья, – высокий старинный кирпичный дом, окруженный верандой, со сводчатыми окнами, с громоотводами, куполами и выходящей на шоссе старомодной вышкой, похожей на силосную башню.
– Нет, не узнали еще, – ответил Генри. – Мало ли кто это мог быть. В этих старых домах на отшибе еще не такое бывает.
(«Лежать», – сказала Кэлли. Пес, похожий на черно-серого льва, снова опустился к ногам хозяйки, положив на передние лапы широкую морду, подняв уши, скорбно глядя на нее. Он вздохнул.)
Джордж, разговаривая, вертел в руке ложку. Из свадебных подарков. Столовый посеребренный набор. Джордж огорчался, что они польстились на такую дешевку, ведь они его друзья, ему неприятно видеть всякий хлам у своих друзей в доме. Кэлли выбрала его, конечно, из «практических соображений», не думая о том, что с течением времени ложки и вилки исцарапаются, износятся и что вообще нет нужды жмотничать и трястись над каждым центом, когда выходишь замуж за старого холостяка, который столько лет жил один и ничего на себя не тратил. Самое главное, в них и весу-то нет никакого: держишь в руке такую ложку и совсем не ощущаешь ее тяжести. Хорошую вещь возьмешь, так уж никаких сомнений. А у них все вещи такие… кроме массивных старинных подсвечников из чистого серебра (стоят неизвестно зачем, без свечей, на крышке пианолы), да разве что кружевных салфеточек, подаренных Кэлли теткой Мэй, да нескольких шерстяных платков. Впрочем, если людям наплевать на это, значит, наплевать, вот так-то вот. Только Генри ведь не наплевать, уж он-то знает. Почему Генри позволил ей так распорядиться? Джордж вдруг выпалил:
– Я думаю, воры.
Генри пожал плечами.
– Неизвестно пока. Может, и воры. А может быть, и хулиганы или бродяги.
– Господи боже, – сказал Джордж. Джорджу нередко приходило в голову, что к нему могут нагрянуть грабители. Он не был паникером, просто в доме у него и в самом деле много хороших вещей, есть такие, которые уже добрых два столетия принадлежат их семье, – одному богу известно, сколько они могут теперь стоить, а кое-что время от времени приобретал он сам в Ютике в антикварных магазинчиках; на аукционах то здесь, то там; у букинистов. Билл Келси ему как-то посоветовал открыть магазин.
(– У тебя тут столько всякого старья, на двадцать домов хватит, – сказал он.
– Да, порядочно, – согласился Джордж, – а в других комнатах и того больше; кое-что лежит даже в сарае. Там не сыро: я обклеил стены водоотталкивающими обоями. – Он распахнул дверь в комнату, которая прежде служила спальней его матери, и сделал шаг назад, чтобы Билл Келси смог взглянуть.
– Боже, смилуйся над нами, – сказал Билл, – что же это у тебя такое?
– «Национальная география», – ответил он с усмешкой, – полный комплект. А вот там, в углу – карты. Тридцать семь, не больше и не меньше. Гравированные. – Там было много и других журналов: «Еженедельник филателиста», «Техасский любитель оружия», «Американский стрелок».
– Да на кой они тебе сдались? – Весь вид Келси выражал недоумение, почтительное, конечно, но все же недоумение. Он глядел во все глаза, вытянув шею, зацепив большие пальцы за лямки комбинезона.
Джордж ответил насмешливо, прикрывая дверь:
– На кой сдались? Вот зайду иной раз, рукой потрогаю, – и подмигнул. Но он ответил правду. Величайшей радостью в его жизни было просто брать их в руки, зная, что они принадлежат ему, что они ограждены от варваров, которые вырезают из великолепных антикварных изданий, вроде его иллюстрированного Гёте, картинки с копиями старинных гравюр по дереву или обрезают кентуккийские пистолеты ручной работы и приваривают к ним современные прицелы. В горке грушевого дерева, на которую он наткнулся в Гудвиле, он держит девять оригинальных губных гармоник в деревянных футлярах, строгих и элегантных, как гробы. Дорого когда-то заплатили за эти штучки. Каждый штришок на редкость затейливого узора выгравирован рукой близорукого старого немца, серебряных дел мастера, умершего больше ста лет тому назад.
– Ух ты, сколько всякого насобирал тут! – сказал Билл Келси.
Джордж кивнул, не улыбаясь.
Билл Келси склонил набок голову, рассматривая колонну винтовой лестницы, и произнес:
– Интересно, можно что-нибудь выручить за тот хлам, что у меня на чердаке?
– Почему бы нет, – сказал Джордж; от волнения у него сперло в груди. – Давай как-нибудь сходим, поглядим.)
Решительным движением он положил ложку.
– Я думаю, просто хулиганы, – сказал он.
Генри развел руками. Кто знает.
Ночь была теплая для мая. Он ехал, как обычно, медленно, поставив на педаль газа стянутую стальной скобкой левую ногу. В самом низу долины, словно снег, белел туман, выше мрачно темнели деревья. Сейчас, когда скрылся вдали освещенный дом Генри и кругом ни огонька, только светят луна и звезды да мерцают фары его собственного грузовичка, ночь кажется уже не такой темной. Можно даже выключить фары, если бы он захотел. Может быть, их и придется выключить, если гайка крепления еще больше ослабнет. Ее давно уже надо бы подтянуть, а он все откладывает с недели на неделю. Что-то он многое стал теперь откладывать. Несчастный случай с ним произошел восемь… нет, уже девять месяцев назад; как утверждает док Кейзи, он окончательно пришел в форму, его единственная, левая, рука стала чудовищно мускулистой, и с тех пор, как ей приходится додаивать коров без помощи правой, запястье стало заметно толще. При желании он может сделать многое из того, что делал прежде. Только времени уходит больше. Но он как-то выдохся, постарел. В этом году он не стал специально прикатывать почву – решил, что хватит одного дискования, да и дожди прошли неплохие, в земле достаточно влаги. Лу Миллет сажает за него соевые бобы – расплачивается за услугу, оказанную ему Джорджем два года назад, – вот уже и пристроено семь акров, а еще о десяти позаботится земельный банк. Люцерна сама о себе позаботится. Если же все рухнет в тартарары, он и тогда проживет на пенсию по нетрудоспособности, которую ему выплачивают после военной службы. Одним словом, суетиться незачем. Утром он вставал, доил коров и чистил хлев, после этого пахал, часа два не больше; стоит ли спешить, когда давно пропущены все сроки? (К четвертому июля беспременно хлеба́ в полях по колено. Ему бы хоть успеть отсеяться.) Около полудня он шел в дом и застревал там до пяти, до вечерней дойки, наклеивал в альбом марки, начищал две парадные серебряные шотландские шпаги (он приобрел их обе за семьдесят долларов), а то и просто клевал носом перед телевизором. Раньше ему нравилось пахать, нравился запах вспаханной земли, иссиня-черный блеск ровно взрезанных пластов, вылетающих из-под лемеха, густая тень под соснами на вершине горы, тускло-серебристый блеск кувшина с имбирным пивом, приткнувшегося среди лопухов под деревьями, нравилось, как все теплее и сочнее становится под лучами солнца распаханная земля. Он одновременно существовал и в будущем, и в прошлом, сидя бочком на тракторе, одну руку держа на руле, вторую – на рукоятке плуга; он вспоминал с такой живостью, будто они по сию пору длятся, другие весны, когда он пахал на том же самом Ф-20, или еще отец пахал, а он сидел сзади верхом на бензобаке и задние колеса тарахтели, словно на них были надеты цепи, а воздух был печально сладок от запаха распускающихся почек, сосновой смолы, струящейся по стволам, свежевспаханной земли, и одновременно в том же самом наплыве обострившихся до предела чувств он видел, как растет и зреет посеянная им сегодня кукуруза, как вздымаются ее стебли выше головы и источают аромат слаще меда под ножами косилки. Даже когда он возвратился из Кореи с раздробленной ногой и с одышкой после ранения в грудь, ему нравилось пахать, и он справлялся с делом. Но теперь все переменилось. Он пахал теперь одной рукой, воевал с рулем одной левой и не мог сохранить равновесие, когда налетал на камень. Видя надвигающийся камень, он теперь не мог поднять лемеха и проехать над ним на холостом ходу, он должен был покалеченной ногой включить сцепление, а рукой повернуть рычаг у себя за спиной, так что на минуту трактор оставался вообще без управления. Очень часто оказывалось, что он заметил камень слишком поздно и не успевал отжать сцепление; раздавался похожий на винтовочный выстрел стальной треск, острие лемеха обламывалось, и плуг катил дальше на одном колесе, подскакивая, точно хромая утка. В один прекрасный день, как пить дать, Джордж расшибет вдребезги свой единственный кулак, колотя им в ярости по колесу трактора. После несчастного случая он крепко сидит на мели (не говоря уже о том, что привычка приобретать то там, то сям разные редкости становится накладной), и все же ничего ему не остается, как купить новый плуг, а так как паршивец Ф-20, колченогая лошаденка на резиновых колесах, конечно, не потянет этот плуг, значит, надо покупать большой ДС. В земельном банке ему чуть в лицо не рассмеялись. Но заем все же дали… в конце концов. Дом стоит немало, а земля тем более. («Бизнес есть бизнес», – изрек этот деятель. И, чувствуя себя неловко, почесал авторучкой усы. Джордж Лумис саркастически ответил: «Обычно да», – имея в виду, что иной раз бизнес уже не просто бизнес, а последнее средство выжить, но вдаваться в объяснения не стал, просто расписался там, где усатый поставил крестик.) Если ему все же удастся посеять эту кукурузу, то потребуется и новое оборудование, чтобы собрать ее и отправить в силосную башню. Распроклятая старушня сноповязалка уже оставила его без руки. (Сейчас кажется, это случилось давным-давно. В какой-то другой жизни.)
А ничего себе ощущеньице, подумал он, когда входишь к себе в дом среди ночи, а на кухне тебя поджидают двое психов с большими свинцовыми трубами или револьверами.
Он свернул на немощеный проселок, который вел, петляя, на Воронью гору, к его дому. На ферме у Шафферов ни огонька. «Джип» Уолта, как обычно, возле почтового ящика, под ветвями бука на случай дождя. Во дворе, голом и грязном, как всегда, стоит бело-зеленая пластиковая садовая мебель, а вокруг разбросаны игрушечные грузовики, пластмассовые кубики, растерзанные куклы. Тут же вспомнилась их старшая, Мэри Джин. Иногда Джордж, проезжая, встречает ее с проволочной корзинкой, в которой она носит яйца. Она машет ему рукой, и он машет в ответ. Мэри Джин пошла в мать, похожа на польку. Толстопятая, со светло-каштановыми волосами. Говорят, в доме Шафферов стоит кедровый сундук, набитый ее приданым. Не мешало бы ей поторопиться. Ведь ей уже под тридцать.








