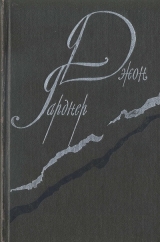
Текст книги "Никелевая гора. Королевский гамбит. Рассказы"
Автор книги: Джон Чамплин Гарднер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 32 страниц)
5
Заслышав ее голос из прихожей, я понимаю, что последние три дня очень много думал о ней. Нет, стыдиться нечего, но это меня смущает. Ведь мы же все по-детски хотим, чтоб рай оставался неоскверненным. И в отношении моем к Мерилин прежде не было ничего порочного. Мы вместе разрабатывали планы мероприятий, я рекомендовал ее в правление Общества по охране среды, мы шутили, обменивались забавными историями, когда она забегала на полчасика. Я, как говорится, был к ней неравнодушен – к ней, а также к ее мужу и детям. Нет, будем точны: я замечал ее грудь и бедра, мне нравилась ее походка, но была черта, которой я не переступал, даже не нуждался в этом. При звуке ее голоса я думал: «А, Мерилин!» – и вставал ей навстречу. Сейчас не так. Все опоганено памятью об ухмылке Левелзмейкера, о сырных крошках на его губах. Тошнотная тайна тяготит грудь.
Изыди, сатана!
Да, я за нее волнуюсь, но так и должно. Не хочу, чтоб какой-нибудь мерзавец изгадил ей жизнь; не хватало еще, чтобы я. Может, он просто-напросто лгал? У Мерилин этого не узнаешь, разве что сама скажет.
Дженис всовывает голову в дверь.
– Преподобный Пик, пришла Мерилин Фиш.
– Очень рад, пусть заходит! – Я вскакиваю и выбираюсь навстречу ей из-за рабочего стола, как обычно. Вот и она: на загорелом веснушчатом лбу бисеринки пота, в руке картонная папка – наверняка опять какая-нибудь петиция. Всегдашняя детская улыбка. С такими зубами только пасту рекламировать.
– Привет, Джин! Сделайте милость, подпишите. – Она, как всегда, подставляет мне щеку для поцелуя. Поцелуй неловкий; она, кажется, это замечает, но улыбается как ни в чем не бывало.
Мерилин мимоходом обнимается и целуется со всеми, кто ей сколько-нибудь симпатичен.
– Ну, что у вас там? – шутливо-снисходительно спрашиваю я, косясь на полстранички машинописи.
– Помочь прочесть? – смеется она.
Я притворяюсь, будто читаю. Она отходит к зеленой кожаной кушетке под приветственным плакатом Союза церквей Карбондейла, садится, достает из сумочки сигареты, закуривает.
– Ладно, подпишу, – нерешительно говорю я. Снова усаживаюсь за стол, достаю ручку, черкаю подпись. И поворачиваюсь к ней в кресле.
– Чудный какой день, – говорит она. Смотрит на фотографию Женевского озера, круглый столик с зеленой стеклянной пепельницей – все хорошо, всюду чисто. – А у вас что?
– Да все то же, – говорю я. – Спасаю души молитвами, гублю их проповедями. – Гляжу в сторону, потом опять на нее и улыбаюсь. – Как Дон?
– По последним сведениям – изумительно. Видеться мы, правда, не видимся, пишем друг другу записочки. Сейчас у него командировка в Чикаго дней на десять.
Я замечаю, что небрежный тон у нее напускной – вовсе не так уж она довольна, и это меня радует.
– Уже уехал? – Самому непонятно, зачем я это спрашиваю.
– Завтра утром едет. – Она откидывает со лба волосы, глубоко затягивается, выпускает дым через ноздри. Странно, по-новому. Меня осаждает какое-то неосознанное желание. Она без нужды одергивает юбку на коленях. Нет, кажется, все в порядке: мне просто приятно с нею, ей – со мной. Мне нравятся ее склад лица, ее высокие скулы, веснушки, серые глаза, нравятся, но не волнуют. Над пакостной болтовней Левелзмейкера можно только смеяться. Она избранница. Я снова вижу застывший взгляд той девушки на фотографии. Впору мне быть миссионером, как дорогой, милый друг мисс Эллис. Они говорят, будто нашли на все ответ, эти дети Альбиона с их коммунами, наркотиками и преданностью Искусству с большой буквы. Но вот я сравниваю их худосочные лица с лицом Мерилин, их тусклые глаза с ее глазами, и мне смешно: это они-то обрели мир и святость?
– Да, кстати о спасении души, – говорит она. – В прошлое воскресенье вы тут обратили одного.
Я поднимаю брови, удивленно раскрываю глаза.
Она смеется.
– Я его встретила в наркологической клинике и отправила послушать вас. Он теперь уже не наркоман. Говорит, что «ушел в революцию».
– А, – вспоминаю я со смутным беспокойством. – Я его заметил.
– Да нет, с ним все в порядке. – Она, как обычно, угадывает мои ощущения. – Милый, славный паренек. Ну, тронутый, конечно. – И смешок ее тут же осекается: нехорошо насмехаться над приятелями. – Он говорит, вы ему прочистили мозги. И хочет с вами как-нибудь потолковать.
Я широко развожу руки.
– Придите ко мне, бунтари из малых сих, и упокою вас.
– Я его к вам пришлю, только не обижайте его.
– Обещаю.
– Не знаю, правда, может, он и не пойдет. Он странный.
– На нас непохожий.
Она согласна принять это за шутку. Я на миг смущаюсь. Она давит окурок и ловко вскакивает с кушетки.
– Джин, я побежала. Так всегда замечательно с вами повидаться.
– Заходите в любое время, – говорю я и провожаю ее до двери. Взявшись за дверную ручку, как бы невзначай спрашиваю:
– Да, Мерилин, а что с Левелзмейкером? Я уже больше месяца не вижу его в церкви.
– С каким Левелзмейкером? – мгновенно переспрашивает она, глядит сверху вниз на мой лоб и краснеет до корней волос.
Не то мерзко, что я подловил ее, мерзко, что испугал, полез в ее жизнь.
Она слегка касается моей груди пальцами, смотрит на них, лихорадочно соображая. И решает широко улыбнуться и сказать:
– Ах, с Биллом! – Она пожимает плечами. – Не знаю, я с ним не вижусь.
– Я очень строго слежу, кто как бывает, – говорю я и треплю ее по плечу.
Она смеется и уходит, не забыв попрощаться с Дженис. Когда Мерилин исчезает за наружной дверью, Дженис быстро поднимает на меня глаза из-за машинки. Она, конечно, все знает. Я возвращаюсь к себе и плотно притворяю дверь.
6
Он сидит неподвижно, спокойный, как эпицентр нашего южноиллинойсского смерча. Бородатый лик его лишен выражения, даже огромные небесно-голубые глаза глядят на меня не мигая. Голос у него ровный, в нем нет ни вражды, ни приязни; ровный и нездешний, словно из другого измерения.
– Ваша проповедь начисто раздурила мне мозги, – говорит он – без улыбки, без малейшей иронии, ничуть не извиняясь за свой жаргон. Может быть, он глядит на меня восхищенно, а может быть – разглядывает глубины моей души, прикидывает, зачем я ему могу понадобиться. Мне приходят на память слова полубезумного Крестителя: «Я глас вопиющего в пустыне: „Приготовьте путь Господу“». Не человек, а глас – плоть, поглощенная Словом. Не пойму, то ли он вызывает у меня испуг, то ли желание говорить с ним едва ли не на богословские темы.
– Замечательно что вы к нам пришли, – говорю я. Он не отвечает ни улыбкой, ни жестом, просто глядит на меня. Если он и понимает, что я лицемерю, то ему это неважно. Что ему людские изъяны? Подспудное чувство мое проясняется: это страх, суеверный ужас. В его приветливом, совершенно открытом взгляде – чудовищная сила. Он похож на картину эпохи Возрождения, нелепо, зловеще наложенную на СОЮЗ ЦЕРКВЕЙ КАРБОНДЕЙЛА ПРИВЕТСТВУЕТ ТЕБЯ. Про него ничего не угадаешь, ничего не поймешь. Еврей? Поляк? Итальянец? Из богатой семьи – сын какого-нибудь чикагского врача или юриста? Или сын механика? Может, когда-то он и говорил по-своему, но выварившись в общем котле, речь его стала наречием детей Альбиона. Может, и одевался он по-своему, но теперь на нем затасканная мутно-зеленая армейская форма, с эмблемой мира вместо нашивок.
– Я преподобный Пик, – говорю я, вдруг вспомнив, что этого не было сказано раньше, когда я застал его в бесконечно терпеливом ожидании у дверей моей приемной. – Кажется, мы с вами…
Он глядит на меня и наконец понимает, что мне, погрязшему в чуждом ему быту, от него надо.
– Меня зовут Доу, – говорит он.
– Дао?
Ни тени улыбки, ни признака интереса.
– Доу Кемикл Компани.
Я смеюсь, за неимением лучшей реакции. Его это, кажется, не удивляет. Он даже чуть-чуть улыбается, чтоб мне было свободней.
– Вы студент, из университета? – спрашиваю я. Уже легче. Все-таки можно его хоть как-то называть. Я раскладываю ровным рядом свои ручки и карандаши на стеклянном покрытии стола.
Он приветливо отвечает:
– Был студент. Поехал во Вьетнам – меня вроде как забрили. Теперь я в революции. Бомбы кидаю. – Он улыбается, еле заметно, как бы извиняясь.
Я ему не верю. Если это правда, то сумасшедший он, что ли, говорить об этом? Странный – да, пусть даже страшный, но не сумасшедший. Я вдруг чувствую, что это все когда-то уже было. Был весь этот разговор, я точно знаю, что он скажет дальше, только не могу припомнить своих слов, нужного вопроса. Я спрашиваю осторожно, будто опасаюсь его, хотя убежден, что опасаться нечего.
– Вы в самом деле кидаете бомбы?
Он кивает.
– Не в людей. В дома.
– Конечно. – Я тоже киваю и щурюсь на него. Комната какая-то ненастоящая, и я вспоминаю, что это же чувство было, по ее словам, у Кэрол Энн Уотсон, когда она впервые проснулась с любовником. Невозможно, хотя она – вот она. Никак невозможно. Ни раскаяния, ни страха – этого же просто не может быть! Я представляю, как мисс Эллис, съежившись, с выпученными глазами, стоит у наружной двери приемной, в лице ни кровинки под румянами и пудрой. Коммунист-анархист разговаривает с преподобным, а преподобный с ним, будто случайно встретил на почте дьякона. За любым поворотом можно затеряться в бессмысленной, безмозглой вселенной.
– Я Иисусом не болею, – говорит молодой человек. Ему почему-то важно, чтобы я понял. – Есть которые, знаете… Мне без разницы бог на небесах и прочая лажа. Но третье искушение мне в жилу. – Он не двигается, только три длинных толстых пальца вытягиваются и поднимаются с его колена.
Я соображаю.
– Я, кажется, вас не понял.
– Иисус в пустыне. – За весь разговор он и мускулом не двинул, только вот пальцы поднялись – будто вялое благословение да еще губы шевелятся. – Как можно покорить земные царства. Я читал книжку еще во Вьетнаме. И насчет преследований правильно.
Я недоуменно качаю головой.
– Ну вот Озирис, Кибела, прочие там богини и боги – все было ничего. А когда в Риме стала религия Иисуса, тогда начали преследовать, потому что анархисты.
Я задумываюсь и, распутав его фразы, начинаю понимать.
Он говорит:
– Еще железно было насчет истинной церкви и как бог ненавидит празднества. Я как раз об этом думал и хотел, чтобы вы знали. Вы раздурили мне мозги.
Я улыбаюсь, и меня пробирает дрожь.
– Ну и все. Просто хотел, чтоб вы знали. Да, еще про смоковницу. – Я пытаюсь припомнить, что я такого сказал про смоковницу. Но юноша вдруг оказывается на ногах. – Будем, – говорит он мне, словно отпуская прощальное благословение, и пятится к двери, не сводя с меня глаз. Уж не пистолета ли боится? Но я уверен, что нет. Значит, все-таки просто тронутый, как и говорила Мерилин. Нет, опять не то. Взирая на меня с нечеловеческим дружелюбием, он спиной вперед минует прихожую. В дальних дверях он делает мне двумя пальцами знак мира и вдруг – совершенно неожиданно – улыбается. Улыбка у него изумительная. Глаза как у Брамы. Он исчезает. Я встряхиваю головой. Я ничего ему не сказал, даже не возразил ни на что. Нет, это невозможно. И вдруг я с потрясающей ясностью понимаю, что каждое его слово – слово правды. Я вскакиваю и бегу за ним, пробегаю мимо сурово нахмуренной секретарши – но в храме никого, только старый Сильвестр, склоненный над пылесосом. Он осторожно косится на меня, вращая зрачками.
7
Совещание проходит, как всегда, нудно. Я, как всегда, едва слушаю. Отчету казначея не видно конца. У нас у всех есть копии отчета, могли бы прочесть и сами, но мои старосты-пресвитеры преданы бездумному ритуалу. Бог им простит, а я уж очень устал. Эту неделю что ни вечер – совещание: комитет городского планирования, бойскауты, лига по благоустройству… Читает секретарша, я опять не слушаю. Однако меня озадачивает какая-то общая нервозность. Что-то такое случилось, но от меня скрывают. И не в отчетах дело.
После совещания никто ни с кем, против обычая, не заговаривает; застегивают пальто, надевают шляпы, желают доброй ночи друг другу, а затем – очень сдержанно – мне и нарочито спокойным шагом выходят в тихую теплынь осеннего вечера, напоенную запахом гари. Я прибираю карандаши на столе, думаю, чего-то жду, потом выключаю свет. У наружной двери раздается покашливание, и я вскакиваю.
– Ох, извините, – быстро говорит он. Это доктор Груй.
– Напугали вы меня, – говорю я и улыбаюсь. Он тоже улыбается – улыбка деланная. В церкви темно, горит фонарь над двойной стеклянной дверью запасного выхода и проникает серый отсвет автостоянки. Ветер заметает под арку опавшие листья, они сухо шелестят по асфальту.
Доктор Груй потирает руки, точно греет их.
– Видите ли, преподобный… – Он ужасно расстроен.
Он стаскивает очки и, вытянув из кармана платок, принимается их протирать.
– Разрешите, я вас подвезу, преподобный?
– У меня велосипед, Джон.
– М-м-м. Да. – Он старательно протирает очки. Наконец поднимает глаза и глубоко переводит дыхание. – Преподобный Пик, вы уж извините, что я это говорю. Вы ведь знаете, как я к вам отношусь. Да и все мы, конечно… – Он снова замолкает. Ложь вредит пищеварению, как он мне однажды сообщил. Водрузив очки, он печально смотрит на меня.
– Желательно, чтобы вы были осмотрительнее… – лепечет он.
– В каком смысле? – спрашиваю я, не дождавшись продолжения. Не знаю, смеяться мне или пугаться.
Он опять глубоко вздыхает.
– Тут на днях… вы… то есть…
– Ну давайте, Джон, выкладывайте.
Он кивает. Он чувствует себя очень глупо, как и я.
– Тот молодой человек, с которым вы беседовали у себя в приемной, Джин… тот бородатый… – Ему крайне затруднительно продолжать. – Мы не предубеждены против бород в нашем приходе, вы тому живое свидетельство. Но ради всех нас… – Он опять прочищает горло. – В общем, люди слышали ваш разговор.
Памятка: уволить Дженис.
Памятка: и Сильвестра.
– А вы хотели бы, чтоб я его прогнал с порога? – Сердиться нелепо, я это понимаю в тот самый миг, когда во мне вскипает раздражение. Нет, это не праведный гнев, я себя не обманываю. Мне говорят, что можно и чего нельзя, а я, как невоспитанный, капризный ребенок, с шумом и громом отстаиваю свое право самовольничать. – По-вашему, Джон, он что – не человек? Что он – хуже прокаженного, мытаря, блудницы?
Вид у него совсем уж несчастный. Даже он понимает, что я грубо, пошло передергиваю.
– Лично я другого мнения… – мнется он.
Я трогаю его за руку.
– Ладно, Джон. Спасибо. Простите, я погорячился.
Мы идем к дверям, вместе выходим наружу, я запираю.
– Мне очень жаль. – Он со страдальческим лицом расправляет шляпу.
– Все в порядке, – говорю я и улыбаюсь.
В адской злобе я тут же, на ходу, начинаю сочинять проповедь.
8
Я окидываю взором прихожан. Они сидят, как обычно, в покорном ожидании. Отнюдь не всем я по нраву (там и здесь видны доброжелательные лица, здесь и там – неприязненные), но все готовы принять наставления из уст моих, все признают право учить вере, которое дает мне разделяющая нас кафедра. Я колеблюсь, дольше обычного, сам не зная почему; а, ну да, потому что ищу глазами чужака, дикаря «из революции». Не нахожу и отчего-то – нет времени думать, отчего, – испытываю облегчение. Я подаюсь вперед, рискуя опрокинуть подножную скамеечку. Голос мой нетверд. Это далеко не самая благодушная проповедь. Найдутся и такие из моей паствы – и бог весть сколько их будет, – кому захочется в отместку вздернуть меня.
Я говорю им:
– И вот приблизилась Пасха иудейская. Иисус поведал ученикам своим, что ему надлежит быть убитым. Незадолго до праздника они явились в Иерусалим и проводили ночи в окрестностях, отчасти из осторожности, отчасти же из экономии. Ранним холодным утром они возвращались в город. Иисус взалкал и увидел издали, узнал по листве смоковницу. Он первым подбежал к ней – поглядеть, нет ли плодов. Плодов нет. И он проклинает дерево: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек!» К вечеру смоковница засохла.
Странная история. Большинство толкователей Библии ставит ее под сомнение, хотя она есть и у Матфея, и у Марка. Другие считают, что это явленная притча. Да, но о чем эта притча? О том ли, что Иисус, как и всякий человек, был во власти минутных порывов? Или это доказательство могущества веры? Так ее толкует сам Матфей. Но Матфей – самый поздний евангелист: может статься, он просто цитирует Марка, пытаясь заодно уж и сам объяснить полузабытое происшествие.
Поразмыслим над этим рассказом с точки зрения смоковницы. Заслужено ли проклятье?
Во-первых, еще не время ей было плодоносить. Почти наверняка сам Марк, а не позднейший переписчик, замечает: «ибо еще не время было собирания смокв». Если уж на то пошло, то странно даже, что и листья были. Как же это: вместе с листьями ожидать плодов? Но положим, что и приспела пора плодоносить: дерево-то росло при дороге. Каждый день мимо проходили тысячи людей. Не первым же Иисус заметил дерево и кинулся проверять, нет ли на нем смокв. Может статься, смоковница была увешана плодами и щедро отдала их до последнего. А если даже и не было на ней смокв во время плодоношения, то не вернее ли положиться на будущее? Мало ли что будет в следующем году? Может быть, почва удобрится, может быть, кто-нибудь станет ухаживать за этим деревом. И, зная, что такое может быть, не правда ли, жестоко лишить дерево будущего? Что же это за притча о несправедливом и непреклонном проклятии?
Библия полна рассказами о деревьях-символах. Псалмопевец говорит о праведных: они как деревья у многоводных рек, и плодоносят ко времени. Иеремия говорит об Иудее: «Зеленеющею маслиною, красующеюся приятными плодами, именовал тебя Господь». Однако, говорит пророк, нынче не так. И дерево испорчено, и плоды его нынешние ядовиты. Дохнет Господь на древо, и при шуме сильного смятенья воспламенит огонь вокруг нее и сокрушит ветви ее. И низвергнется дерево – непреложно и навечно.
Подумайте об этом. Издавна возрастало пророческое древо Иудеи. Оно было здоровое и чистое, оно изобиловало пышными плодами. Лишь со временем утратило оно жизнь и цель. Так оно и бывает, знаете ли, с человеческими установлениями. Не первым иудино племя отошло от заветов. Всякое установление, всякий порядок и расчет, изначально жизненные, со временем становятся препонами, заболевают. И древо иудейское стало, по слову Иеремии, «неискупимым». Так вяз, пораженный листогноем, делается жалок: можно лишь выкорчевать его в надежде, что зараза не распространится.
И еще одно дерево. Издатель книги Иеремии соединил две разрозненные части, в которых нет ничего общего – только что о дереве речь идет там и там. В одном случае, как вы слышали, о древе Иудеи. В другом – о древе самого Иеремии. Он праведен и пытается сберечь себя в неправедном обществе, пытается спасти, искупить его культуру – но современники Иеремии, даже и собственная родня с ненавистью строят против него смертоубийственные замыслы, говоря: «Положим ядовитое дерево в пищу его и отторгнем его от земли живых». Опять же чудовищно. Для неизлечимо больного общества надежды нет, но нет надежды и для праведника, заточенного в больном обществе! Напрасно уповал Псалмопевец: увы, праведные также «подобны мякине, развеянной ветром».
Проклял или не проклял Иисус смоковницу – а по свидетельству Матфея и Марка, проклял, – однако первохристиане приняли эту притчу; и, должно быть, вам ясно, как они ее понимали. Иисус начал проповедовать в церкви праотцев своих. Иоанн Креститель возражал, однако Иисус потребовал от него крещения, ибо тот был, как это ведал Иисус, последним из пророков, последним зеленым листом на иссохшем древе иудейском. И по всем евангелиям видно, как сожалел Иисус о запоздании Израиля, ибо сроки исполнились, время пришло. Теперь, если вы еще не убедились, что смоковница есть показная, мертвая религия, гнилой авторитет – что ж, заглянем еще раз в Евангелие.
У Марка за этим сразу следует рассказ об очищении храма. И лишь затем – разъяснение об иссохшей смоковнице: первозаконие новой религии. Имейте веру в Бога и не молитесь, если не можете простить. Иначе говоря, возлюбите Бога – и человека. И следует рассказ о неверных виноградарях, предавших своего хозяина, разграбивших и опустошивших его виноградник и за это преданных смерти. Затем – вопрос о мзде Кесарю. «Чей образ на этой монете?» По-гречески монета – ikon – икона. «Воздайте кесарево Кесарю», – говорит Иисус. Если вы чем-то одолжены земным властям, признайте долг и возместите его. Однако речение подлежит и более радикальному толкованию: если Кесарь ставит себя на место Бога и провозглашает, что безнравственное нравственно, сопротивляйтесь: взорвите Пентагон.
Не впервые говорю вам, что ранняя церковь была церковью анархической. Но если некто бородатый с глазами, как пламя, явится нынче утром к нам в церковь, вы его вряд ли примете за своего – немытого, упрямого, безразличного к нашему уюту. Может статься, мы и вправе прогнать его. Однако не забудем, что не следует нам обращать свой праведный гнев против пламенных радикалов, ниспровергателей и сожигателей смоковниц.
По плодам нашим – если будут плоды – люди узнают нас.
Иссохшая смоковница, опустошенный виноградник – суть смертельный приговор. Чудовищно? Да. Но он непреложен.
Я замолкаю, принимаю торжественный вид.
– Итак, помолимся.
Посредине молитвы я снова обвожу взглядом прихожан. Спина моя холодеет. Бородатый юноша с пронзительными глазами стоит в дверях и смотрит на нас. И я отлично знаю, когда он явился и что услышал, скрытый от взглядов.
9
Я не к тому, что правильно поступаю. На каждый случай у меня есть два объяснения: одно более или менее разумное, другое со сдвигом – я бежал в пустыню навстречу дьяволу, испытать, что истинно, а что ложно; иначе – я бежал от ответственности. За поездным окном мелькают опрятные фермочки с кроваво-красными кирпичными сараями; старинные молотилки, рабочие – коммунисты, пацифисты – подбрасывают вилами снопы, по-старинному неторопливо переговариваясь между собой. Через проход от меня спит негритянка: ей нет дела до какого-то там Юджина Карсона Блейка и его отчаянных сторонников, нет дела до запроса о проторях пресвитерианской церкви. В начале вагона сидит солдат лет восемнадцати, не больше; он полусонно воспивает пиво, воспетое настенными рекламами – девяносто девять красочных подробностей всеобщей гибели всеобщего барахла; и даже эта самозабвенная сладость опьянения проходит, остается лишь бесконечная цепь невольного самоуничтожения.
На сиденье возле меня лежит газета из Карбондейла. ВЗРЫВ У ПОЛИЦЕЙСКОГО УЧАСТКА. Не мой ли поклонник кинул бомбу? Не знаю. И полиция не знает; впрочем, имеется подзаголовок мелким шрифтом: «Бомбист – приятель местного священника». Я уже знал, что так будет, еще когда я нашел у себя на столе записку Дженис: «Позвоните мистеру Леффлеру в отдел ФБР». Я не позвонил. Чем бы я им помог? Где он живет, не знаю, и Мерилин не знает, я у нее спрашивал. Еще что? Дать его описание? А может, я не хочу, чтоб у них было его описание. Так ли уж я его осуждаю? Иначе говоря: неизлечимо ли древо иудейское?
Нет, это я сам себе лгу. При чем тут политика? Я в ответе за другое – за огнеопасную свободу слова с кафедры. Я приобщал их к истине, к тому, что сам полагаю истиной (неведение заранее оправдано); им это надо было услышать. И если б я знал, что он тоже слушает, я бы говорил так же. Я не знал, однако проповедь моя имела свои последствия, и тут уж не отвертишься. Они, мои прихожане, тоже это понимают. И нелегко погасить их воспаленные, пронзительные взгляды.
Можно плакать и каяться, как доктор Груй. Заламывать руки в отчаянии, как мисс Эллис.
Самая мысль об этом больно обжигает.
Я опять берусь за газету, трижды прочитанную. Свет за окном зеленеет: смеркается. Внезапно я встаю на ноги и направляюсь в вагон-ресторан. Захочу – допьюсь до чертиков; подумаешь, какой-то пьяный священник вдали от паствы. Занятное чувство. Или подвернется охочая девица – можно и с нею, пожалуйста. Все можно. Я вспоминаю Левелзмейкера. Чем он мог соблазнить Мерилин Фиш?
В моем вагоне почти никого, зато следующий наполовину занят. Длинноволосые юноши и девицы в бусах и лохмотьях; кислый смрад – наверное, марихуана. Руки и ноги по всему проходу. Я осторожно перешагиваю их. Мясистый мужчина в дорогом сером костюме поднимает глаза от журнала и кивает мне. Я киваю в ответ, хотя уверен, что вижу его впервые, и иду по проходу, хватаясь за спинки сидений: очень качает. Дверь отворяется туго, в уши врывается стук колес. Я отворяю вторую дверь и вхожу в вагон-ресторан.
С первым глотком появляется тот, в сером костюме. Тревога накатывает и отходит. Вряд ли это полицейский. А если и так, то что мне скрывать? Он останавливается, склоняет голову набок, улыбается.
– Не скучно одному, друг мой? – И прежде, чем я успеваю ответить, протягивает лапищу. – Будем знакомы – Макгивер. Пол Энтони Макгивер, доктор медицины.
Не уверен, что он говорит правду. У него тяжелая челюсть, глубокие складки в углах рта. Такие же – между бровями и двойные – от глаз к вискам. Грудь и плечи как у борца или штангиста.
– Садитесь, – говорю я, указывая на кресло напротив.
Он немедля принимает приглашение и втискивается за столик, оберегая свой полный стакан виски. Я думаю, не сказать ли ему, что я некто Джонсон, однако почему-то говорю правду.
– А, священник, – говорит он, оглядывает меня и улыбается. – Да я бы и сам догадался. У меня на людей верный глаз. Правда, священника-то распознать нетрудно.
Я стараюсь не обидеться.
– Заметил вашу газету. Да, ужас что творится.
– Ужас, да. – Я киваю, и мне только сейчас приходит в голову, что газета по-прежнему у меня в руке. Позавчерашняя газета.
Он поднимает одну густую черную бровь.
– Последние-то новости слышали?
Спокойно жду, что он скажет.
– Какой-то мазурик церковь взорвал. По телевидению показывали.
Вагон-ресторан и лицо незнакомца вдруг вырисовываются так четко, так ярко, словно это галлюцинация. С минуту я не могу говорить. Наконец выдавливаю:
– В Карбондейле?
– Да вроде там. Черт те что, ей-богу! – Он склоняется ко мне.
– Вам плохо, преподобный?
Я втягиваю воздух сквозь зубы. Он супится на меня, словно разъярившись, и нагибается вперед, чтобы встать.
– Давайте я вам что-нибудь принесу. У меня там аптечка…
– Нет, нет. Прошло. Что за церковь, не помните?
Он пристально смотрит на меня и не слышит вопроса. Я повторяю, и он немного расслабляется, глядит на свой стакан, качает головой.
– Не уловил, какого исповедания, – говорит он, – может, здесь кто-нибудь знает, – и оглядывает вагон. Два солдата играют в карты; проводник в углу что-то пишет в блокноте; пожилой мужчина в соломенной шляпе пьет вино.
– Не надо, – говорю я. – Это неважно. Не спрашивайте.
Он снова супится, потом, видно, решает, что и в самом деле не надо. Внезапно он улыбается.
– Ну да, я же вас черт те как разволновал. Совершенно не подумал, каково священнику слышать такие новости.
Я улыбаюсь в ответ, замечаю свой мартини, отпиваю из стакана.
– Нет, и правда, черт знает что, – говорит он и внушительно кивает. Потом достает сигареты и протягивает мне пачку. Я жестом отказываюсь.
– Этой публике все нипочем. Я за ними наблюдал – ну, за этими хиппи у меня в вагоне. Я не к тому, что они, мол, злодеи, и не все они, конечно, нигилисты. Не в этом дело.
Насупившись, он глядит в стакан, уясняет свою мысль. Тяжелая челюсть его двигается, резкие складки на лице углубляются. Вид у него разъяренный, словно того и гляди вскочит и примется крушить все вокруг. Когда он находит слова, я уже не слушаю. Мне снова кажется, будто я провалился в пустое пространство. И как бы наяву видится мне Джон Груй, входящий в вагон-ресторан: поджатые губы, горький взгляд, потный лоб. Он без устали ищет меня с тех самых пор, как я пропал. Он знает, как мне стыдно, знает мою гордыню – знает, до чего невозможно мне снова предстать перед ними. Но ведь нельзя же так просто взять и затеряться, говорит он мне. Пальцы его дрожат, глаза увлажнены. Вот он и явился за сотой заблудшей овцою со словами ласки и утешения, прощения…
Я криво усмехаюсь. Давать достойнее, нежели получать. Нет, не придут они за мною. Я исчез с лица земли, обрек себя на свободу. Совсем почти стемнело. На западе тускнеет кровавая полоса заката. Я прихлебываю мартини, и он потоком лавы обжигает мне глотку. Пальцы уже немного онемели. Вот если привыкнуть к мартини, как Мерилин Фиш, как Левелзмейкер… Я вдруг что-то понимаю, но понимание тут же ускользает. «Не будет от тебя плода вовек». Летящая за окнами тьма повергает меня в смятенье, и я впиваюсь глазами в лицо человека, который говорит:
– …фатализмом. Для них нет ничего дурного, вот в чем дело. Они «любят» друг друга – слышали, наверно, их разговоры, – но ничего не требуют, ничего не ожидают. Если ожидают, то предательства. Ты, положим, любишь человека, а он, как у них говорится, «перестроился» – что ж, пожать плечами и разойтись, курнуть закрутку, хлебнуть вина. Странно так жить.
– Да, странно, – киваю я.
– Смысла в жизни нет, говорят они. К чему пробиваться? Вот и напяливают какое попало тряпье, не стригутся, не моются…
Он медленно качает головой, мышцы на его шее вздуваются. Судя по лицу, он негодует, но голос у него спокойный и как бы усталый. Оказывается, нога его прижата к моей, а отодвинуться неудобно. Если он сам еще не заметил… зачем смущать человека?
– Вы верите в Бога? – вдруг спрашивает он.
– Доктор, я же священник!
– Да, конечно, конечно. Простите, пожалуйста. – Он не то очень растерян, не то взбешен. Бешенство передается и мне. Что такое?
– Какое это имеет значение, – говорит он, кажется, больше себе, чем мне. Нога его плотно прижимается к моей, и теперь, я уверен, что он это чувствует. Правая рука под столом, на коленях. Все так понятно, что впору расхохотаться. Сложение тяжеловеса, заигрывающе-серьезный разговор.
«Ну и фрукт», – думаю я и возвращаюсь мыслью к смоковнице, к бесплодному преподобному Пику. А если жизнь моя бесплодна, то в самом деле, какое это имеет значение? За окнами мчится бескрайняя ночь. В самом черном скопище мглы на миг появляется бородатый, голубоглазый лик. Да, никакого значения. Ночь и стук колес разражаются истиной. Мир при смерти – загаженная природа, застарелая вражда, никчемные войны, политические словопрения, похотливые шепотки в номерах дешевых мотелей. Вот-вот прозвучит смертный приговор – громовой и необязательной паузой между двумя молчаниями. Они это знают, дети Альбиона, простертые в проходах мчащихся поездов. Они увидели, поняли – и отринули всякое действие. Я прихлебываю мартини, потом одним глотком допиваю стакан и поднимаюсь за вторым. Меня бросает вперед, мы сталкиваемся головами с доктором, оба падаем и кричим, вцепившись друг в друга. Свет гаснет и зажигается снова. Весь поезд кляцает и трясется. Мы остановились. Слышны чьи-то крики.








