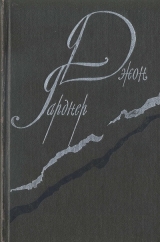
Текст книги "Никелевая гора. Королевский гамбит. Рассказы"
Автор книги: Джон Чамплин Гарднер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 32 страниц)
Он уперся руками в край кровати, ощущая силу своих пальцев. Пригнулся и медленно встал. Прошел к окну над книжными полками.
Картонная загородка в окне на этот раз стояла прочно. Пусть хоть ливень хлещет, вода в комнату не попадет. Он погладил двумя пальцами корешок Библии.
Бороздки на коже были сухие, растрескавшиеся, но почему-то бархатистые на ощупь, словно лепестки засушенного в книге цветка. Страницы выглядели так, как будто их прогладили утюгом и слегка подпалили и они стали желтоватыми и хрупкими. Оба имени – деда и прадеда – были нацарапаны наспех неразборчивыми каракулями. Генри нахмурился, он, пожалуй, не столько думал, сколько поджидал появления какой-то мысли. Он бережно положил Библию и вышел в переднюю комнату за авторучкой.
После того, как он вписал все имена со всеми датами, какие только удалось вспомнить, он хотел закрыть книгу, но так и не закрыл ее и стоял минуты две, разглядывая золотой обрез страниц. Он мучительно старался вспомнить, что за мысль промелькнула тогда у него в сознании и потом, когда он делал запись, возникла еще раз и тотчас исчезла, но, так ничего и не вспомнив, поставил Библию на место и, помедлив еще чуть-чуть, снова прошел в дальний конец комнаты. Ему и оттуда были видны следы, оставленные его руками на нежной оболочке пыли, покрывавшей книжный переплет.
Он неторопливо опустился на кровать и зажмурил глаза. В воображении, а может быть в глазах, все еще маячило золотое тиснение Библии, а за ним – перекрестным узором – ближние и дальние перспективы. Постепенно их очертания складывались в буквы – написанное золотом имя. У Генри напряглись мышцы лба, запульсировали жилы на затылке. Но не успел он разгадать свой сон, как пробудился и опять увидел Библию, так же как прежде или почти так же, но смотрел он на нее уже не так – сместилась точка времени… возможно, всего на несколько минут, а может быть, на несколько часов.
(Что он потерял бы, если бы умер еще тогда, в тот раз? Разве что-нибудь с тех пор произошло? Хоть что-нибудь?)
Этой ночью, пока он спал, голубой грузовичок Кузицкого занесло в сторону, он своротил предохранительный барьер и скатился с высоты шестидесяти футов. Сгорело все, кроме отвалившейся дверцы, которую нашли в зарослях ежевики (стояла ранняя весна, и ветки кустов были еще серые и гибкие), и в лунном свете резко и отчетливо виднелась надпись: С. Дж. Кузицкий, ФИ 6–1191.
6
Незадолго до полудня по пути из Атенсвилла домой, на Воронью гору, подкатил в пикапе Джордж Лумис. Он, как всегда, не выключил мотор – чертов драндулет покамест заведешь, намучаешься – и вошел, насвистывая, веселый, как зяблик. С ходу, рывком сбросил с головы старую кепку и хлопнулся на табурет у стойки неподалеку от кассы, а потом грохнул по стойке затянутым в перчатку кулаком и крикнул:
– Эй, леди!
Кэлли улыбнулась, узнав его.
– Да это Джордж Лумис, – сказала она.
Ему было под тридцать, но лицо как у мальчишки. В свои тридцать без малого он пережил больше, чем любые десять мужчин во всех Катскиллах, – в Корее ему раздробило лодыжку, так что он должен был носить стальную скобку на ботинке, а еще говорили, какая-то японская шлюха разбила ему сердце и он теперь втайне ненавидит женщин, и, словно мало всего этого, возвратившись домой, он обнаружил, что мать его при смерти, а вся ферма заросла лопухами и болиголовом, все пришло в запустение. Но на лице его от переживаний не видно было ни малейшего следа, во всяком случае в эту минуту.
– Ты теперь работаешь тут, Кэлли? – спросил он.
– Уже два дня, – ответила девушка.
Он покачал головой.
– Не позволяй этой жирной старой образине тебя эксплуатировать, слышишь? И пусть платит только наличными. Второго такого жмота не сыщешь во всех наших семи округах.
– Джордж Лумис, не смей так говорить, – степенно ответила Кэлли. Но тут же засмеялась.
– Как это ты вдруг среди бела дня уехал с фермы? – спросил Генри.
– Да я, видишь ли, люблю иногда взглянуть для общего развития на божий свет. – А затем: – Был в Атенсвилле, возил для помола зерно.
– Ты сломал свою мельницу, Джордж? – спросил Генри.
– Не я, – ответил тот очень серьезно. – Чертова механическая лопата ее расколотила. Купишь хорошую механическую лопату, Генри?
Генри засмеялся, а Кэлли смотрела с недоумением, словно она все поняла, но не уловила, что же тут смешного.
– О старике Кузицком слышал? – все еще улыбаясь, спросил Джордж.
Генри отрицательно покачал головой.
– Надумал, как я понимаю, проложить новую дорогу. Одно воспоминание осталось от хрыча.
– О чем ты? – спросил Генри.
Джордж пожал плечами.
– Так люди говорят. Нынче утром нашли обломки у подножия скалы Путнэма. Я завернул туда взглянуть, да там полно полицейских, не разрешают останавливаться.
Кэлли стояла, глядя в окно, тихо-тихо.
– О господи, – вздохнул Генри. – Бедняга. – Он мотнул головой, чувствуя, как воздух распирает грудь.
Джордж сказал:
– Скатертью дорожка, мусорщик.
– Джордж Лумис, ты подонок, – сказала Кэлли, вихрем повернувшись от окна.
Джордж уперся взглядом в перчатки.
– Прошу прощения, – сразу сникнув, сказал он. – Я не знал, что вы имеете к нему отношение.
Генри зажмурился, держась рукой за стойку, и увидел мысленно, словно на одной общей картине, старика с поднятой чашкой в руке, Джорджа, разглядывающего свои кожаные перчатки, Кэлли, стиснувшую зубы и пристально смотрящую в окно. Небо за бурым холмом и густо-синими горами было цвета сухой мякины. Он спросил:
– Что тебе приготовить, Джордж?
Тот, казалось, секунду раздумывал. Потом медленно, обходя Кэлли взглядом, встал.
– Я, пожалуй, поеду, Генри. – Джордж улыбнулся, но его глаза остались отчужденными. – У меня сегодня прорва дел. – Он опять уперся взглядом в перчатки.
Когда он вышел, Генри проглотил таблетку, потом прошел в пристройку и сел. Он слышал, как Кэлли готовит себе бифштекс и колотит скребком по жаровне, словно хочет разнести ее вдребезги. Он закрыл лицо ладонями и думал, перебарывая в себе желание крушить все и вся, начиная, может, с той же Кэлли или с Джорджа Лумиса. Он слышал, как в полумиле от «Привала» тарахтит на склоне «Джон Дир» Джима Миллета, а «формэл» Модрачека завывает в равнине, и немного поуспокоился, вспомнив о простых здравомыслящих и честных взрослых мужчинах, которые работают у себя на фермах и в этом году, как в прошлом, и как в позапрошлом, и как сто тысяч лет назад. С молодежью необходимо терпение. Всем им свойственно поклоняться своим богам шумливо, с картинной истовостью, не допуская и тени сомнения в собственной правоте. Ну и пес с ними. И все-таки он сжимал кулаки, взбешенный их вторжением в святилище его усталости, и, подвернись ему под руку что-нибудь, чего не жаль, он бы эту вещь разбил. Спустя немного времени он вспомнил, что кончился картофель по-французски, и встал.
Кэлли сказала:
– Я, может, не права была, зря на него так набросилась. – Это было извинение, а не признание вины, во всяком случае так показалось Генри. Мысль, что она и в самом деле могла быть не права, ей, конечно, не приходила в голову.
Он стиснул губы.
– Не в том, собственно, дело, – ответил он. Он представил себе, сколько мог бы сказать, какое множество слов, накопленных, в общем-то, целой жизнью, и опять рассвирепел. Но горы за лесом тянулись ряд за рядом, они тянулись сколько глаз хватал и дальше, густая синева блекла, становясь светлее, светлее, сливаясь с небом, а над деревьями парили три ястреба, становясь все меньше, меньше, и Генри не мог придумать, с чего начать.
– Одинокий человек, – сказал он. – Чего ради кто-то должен притворяться, будто огорчен его смертью? – И на глаза ему вдруг навернулись слезы.
Кэлли похлопала его по плечу, проходя к мойке.
– Ну что ж, все, значит, к лучшему.
Вот тут он наконец взорвался.
– Мерзость! – промычал он и с такой силой ударил по стойке, что опрокинул салфеточные автоматы, а горчичница свалилась на пол и забрызгала горчицей пол.
Кэлли испуганно смотрела на него.
– Я просто в том смысле… – начала она.
Но Генри сломя голову мчался к автомобилю.
7
Неожиданно обзаведясь помощницей, Генри Сомс испытал, мягко выражаясь, смешанные чувства. Он так давно управлялся в «Привале» один – летом и зимой, даже без перерыва на рождество, из года в год, отлучаясь лишь на часок-другой, чтобы прокатиться на машине либо съездить за покупками в город, – что совершенно сросся со своей закусочной. Обслуживать посетителей или возиться у бензоколонки во дворе было для него так же естественно, как ходить и дышать, а передать эти обязанности кому-то другому – все равно что откромсать себе пальцы. Добро бы дел прибавилось, тогда в этом имелся бы какой-то смысл, но дел было всегда примерно одинаково, чуть побольше с июля до сентября (в туристский сезон заглядывали к нему лишь немногие: те, у кого не хватило бензина, чтобы проехать еще несколько миль и поесть в более шикарной обстановке), но даже когда оживление в делах достигало предела, Генри вполне справлялся сам. Договариваясь с Кэлли, он как-то не подумал, нужна ли она ему; зато сейчас этот вопрос не давал ему покоя. Надолго ли она к нему нагрянула, сколько это продлится? Девушка она трудолюбивая, и если загрузить ее работой, то самому Генри придется бездельничать. Это бы еще куда ни шло. Раньше он, случалось, немало времени проводил, сидя за стойкой и читая газету или толкуя с кем-нибудь из фермеров о погоде. Но для Кэлли это не подходит – она ведь жалованье получает, девяносто центов в час. Да она и не согласилась бы. Поэтому ему пришлось изобретать для девушки дела, – дела, которые он сам откладывал из года в год, на только потому, что они казались ему маловажными, нем и потому, что, откровенно говоря, он вообще считал их ненужными: покрасить бензоколонку, посрывать с окон старые пожелтевшие объявления, натереть полы, посадить цветы. «Привал» начал приобретать новый облик, и Генри от этого становилось как-то неуютно, словно он не у себя дома… он чувствовал себя неприкаянным, даже криводушным, как человек, с пеной у рта отстаивающий чуждые ему убеждения. Мало того, ему еще пришлось изобретать теперь дела и для себя. Не будешь ведь сидеть и прохлаждаться, пока Кэлли выполняет всю работу. Поэтому он привел в порядок гараж, который вот уже пятнадцать лет напоминал собачью конуру – рассортировал и разложил по ящикам болты, развесил на стенах инструменты (у него оказалось семь гаечных ключей, а он о них и не помнил), вставил в окна новые картонные заслонки, стал подметать и мыть полы и выскреб их до такой чистоты, что хоть обедать садись. Посетители замечали эти перемены, им нравилось, и дела пошли все лучше и лучше. Иными словами, к Генри теперь повадились люди, незнакомые или несимпатичные ему, и стали докучать ему расспросами насчет индейцев и жалобами, что в его меню чего-нибудь не хватает. Главное же – Генри сожалел о прежнем уединении. Всю жизнь он считал себя одиноким человеком, во всяком случае с тех пор как стал взрослым, и только сейчас понял, что это не совсем так. Если раньше его радовало появление собеседника – какого-нибудь фермера, которого он знает лет двадцать пять, старика Кузицкого, Уилларда Фройнда, – то радовала и возможность побыть наедине с собой, вздремнуть среди дня или уйти в пристройку, снять ботинки и посидеть с журналом в руках. Он и теперь себе это иногда позволял, только тут уж совсем не то – приходится сообщать о своем намерении и чуть ли не извиняться.
С другой стороны, девушка нравилась ему, и по временам он радовался, что она тут, рядом. Иногда он просто умилялся, глядя на нее. Она обращалась с ним, как с добрым старым дядюшкой, которого знала всю жизнь, и рассказывала ему, как работала приходящей няней у Дартов и как помогала по хозяйству миссис Гилхули во время молотьбы, когда на ферму нанимали сезонников; рассказывала о своих родителях, о школе и о том, как ездила в Олбани с кузеном Биллом, сообщала ему, сколько у нее уже скопилось денег, чтобы уехать в Нью-Йорк. Право же, временами он любил ее как дочь. Однажды, когда он сидел возле стойки и читал «Лихого кузнеца», Кэлли остановилась перед ним, сняла с него очки в стальной оправе и сказала:
– Вам нужно завести другие очки, мистер Сомс. В этих вы похожи на русского шпиона.
– Староват я для всяких новинок, – сварливо ответил он.
Кэлли улыбнулась, и, когда она снова надела на него очки, в ее движении было столько нежности, что на миг ему почудилось, будто время двинулось вспять и все земные печали – чистейший вымысел.
Но даже нежность, которую он испытывал к ней, когда не возмущался тем, что она так переиначила и «Привал», и его самого, была сложным чувством. Генри Сомс достаточно знал жизнь и мог предсказать, что дружелюбие девушки поостынет с течением времени. Такова природа человека, тут ничего не поделаешь. И хотя он страшился этого предстоящего охлаждения и даже старался ему противостоять, пробуя по временам держаться от нее подальше, в душе он покорился. Однако Кэлли Уэлс удивила его. Дни шли за днями, а девушка болтала с ним все охотнее. Случалось, уголки ее рта вдруг опускались, словно с отвращением, но случалось и так, что она смеялась вместе с ним, да к тому же они – Генри и Кэлли – понемногу начинали понимать друг друга и без слов, скажем, слегка кашлянув или плотно сжав губы, что означало скрытую улыбку или, наоборот, легкое недовольство. Она словно почти не замечала, а может, прощала ему унаследованную им сомсовскую слабость и сентиментальность. Полностью он осознал это как-то вечером, обслуживая одного шофера грузовика.
Шофер, низенький светловолосый человек с толстым носом и беспокойным взглядом, покуривал сигарету, зажав ее между большим и средним пальцами. Когда Генри принес ему кофе, шофер спросил:
– Как дела, Худышка?
– Не жалуюсь, – довольно громко отозвался Генри. – А твои? – Делать ему было нечего, только стоять да смотреть, как тот пьет кофе, и Генри стоял, ухмыляясь и ожидая продолжения разговора.
– Не жалуюсь, – сказал шофер, скользнув взглядом по стойке.
Генри помнил свой разговор с этим человеком, когда тот был в последний раз в «Привале», и со смутной мыслью о себе, о Джордже Лумисе, о старике Кузицком наклонился и, понизив голос, спросил:
– Как жена?
Шофер бросил взгляд на Кэлли – она, согнувшись, выкладывала под стеклом в витрине новый запас жевательных резинок и конфет.
– О, неплохо, неплохо, – ответил он. – Примерно все так же.
Он высунул кончик языка и продолжал с ухмылкой глядеть на Кэлли.
Генри облокотился о стойку и помотал головой.
– Я уверен, все образуется мало-помалу.
Он нерешительно протянул руку, прикоснулся к плечу шофера, но тут же отдернул ее и опять помотал головой.
– Да нет, что ты, все замечательно, спасибо. – Шофер потер плечо, как будто Генри его ужалил, и встал. Он кивнул в сторону Кэлли и негромко спросил:
– Разрастаешься, Худышка?
Генри сперва не понял. Но посетитель подмигнул – Кэлли в этот момент стояла, подбоченившись одной рукой, – и смысл вопроса стал ясен. Генри вспыхнул и сердито крякнул.
– Ополоумел, что ли? – сказал он. – Кэлли просто работает тут, в зале.
Шофер не торопясь направился к витринке, где были разложены конфеты, и улыбнулся, вскинув голову.
– Купить тебе чего, золотко?
Кэлли это понравилось. Понравилось вполне определенно, Генри заметил. Но она сказала:
– Нет, что вы, я здесь работаю. Спасибо большое. – Она улыбнулась и порозовела от удовольствия, но ответила сухо, непреклонно. Генри сначала удивился, потом обрадовался.
Посетитель все так же, с ухмылкой ее разглядывал, но Кэлли не привыкла к шоферам. Может быть, она и рада бы была, как представлялось Генри, продолжить начатую игру, но у нее ничего не получилось, удовольствие пропало, взгляд стал напряженным, улыбка деланной.
– Что-нибудь возьмете? – спросила она.
Шофер продолжал ухмыляться, но явно смутился;
Генри подошел к нему и произнес самым сердечным тоном:
– Лучший набор шоколадок в штате Нью-Йорк. Все первой свежести на этой неделе. Купишь что-нибудь детишкам?
Торопясь и роняя деньги, шофер уплатил за пачку «Кэмела», ухмыльнулся напоследок и ушел.
– Заворачивай к нам на обратном пути! – прокричал Генри, перегнувшись через стойку. Но бедолага во всю прыть спешил к грузовику, стоявшему с невыключенным мотором, да к тому же поднял воротник, так что едва ли что-то услышал. Дверца кабины хлопнула, и грузовик затарахтел вверх по склону, поблескивая в лунном свете никелированными частями.
Генри прикусил губу. Тот человек его боялся… как все прочие, кроме разве что Кэлли, да стариннейших друзей, да пьяниц. Это со страху он сперва выламывался тут, потом сбежал. Все они так, все норовят удрать, когда ты стараешься расположить их к себе, расспрашиваешь о болезни жены, о развалюхе грузовике, чтобы они почувствовали себя как дома. А не удерут, то еще хуже получится. Он вспомнил старика Кузицкого, чего только он, Генри, тут ему не плел, как только перед ним не бесновался, хотя несчастный старикан только и мог что сидеть прямо на стуле. И перед другими тоже, мало ему было одного Кузицкого. Начинал громко хохотать, приходил в раж, дубасил по стойке толстыми руками, блестевшими на сгибах локтей от пота, а ведь речь-то шла всего-навсего о погоде, об ограничении веса перевозок или о том, как вообще все по-дурацки устроено на свете. И уж тут-то они пускаются наутек, улепетывают как миленькие, словно их хотят изнасиловать, и, бывает, больше носа не кажут. А если и возвращаются, то из любопытства, еще раз поглазеть на этакую тушу, или теперь еще полюбезничать с Кэлли. Неподходящее это место для такой девушки – одна шоферня да пьянь.
(«Как ты думаешь, чего это он делает – сидит не спит цельные ночи напролет?» – этот вопрос Уиллард Фройнд услышал в продуктовой лавке. И тот, кто его задал, сам же дал ответ: «Запой у него, понял? Видел его когда-нибудь за рулем?»
Уиллард добавил, опустив глаза и похрустывая пальцами: «Я знаю, все это брехня собачья, Генри. Но я просто подумал, тебе следует знать, что о тебе толкуют люди».)
Запой. Может, они и правы. Он пьян не от виски, но, возможно, пьян чем-то другим. Пьян здоровенной, глупой и нескладной Любовью к Человеку, которая заполонила его и бьется в нем, бессмысленная и пустая, как туман, – Любовью к Человеку, которая в конце концов вылилась в желание отгородиться от всего на свете, в пустой обеденный зал, в пустые столы, в липкие пятна на табуретах, в гараж, по колено заваленный болтами, старыми гаечными и разводными ключами, шплинтами, мотками проволоки. Пьян игрою мускулов и жира, пьян неуемным кружением по вонючей комнатушке, пристроенной сзади к шоферской обжорке. Вот почему он дубасит по стойке, толкуя о погоде и о том, куда бы он поехал, если бы сумел вырваться, или гоняет по горам на «форде» выпуска 39-го года.
В ясную ночь можно промчаться до вершины Никелевой горы и назад, трясясь в высоком черном «форде», где тебя со всех сторон стискивают стены, будто внутри поставленного торчком гроба, по шоссе и проселкам, подлетая на корявых дощатых мостиках, которые ходуном ходят под колесами, и гулкий их перестук далеким эхом разносится по горам и долинам. Деревья с лету вкатываются в полосу света от автомобильных фар, ветер врывается в открытое окно, и у тебя такое ощущение, словно ты сам Иисус Христос, въезжающий в небо на колеснице. Никелевая гора! Там подъемы такой крутизны, даже если ехать только по шоссе. А когда с маху вылетаешь из-за поворота на перевал, взвиваясь ввысь, как птица, над пустотой, и катишь вниз во весь дух, внизу, слева, футах в ста, видна река. Даже при дневном свете это изумительно красиво – голубые плоские выступы сланца, черная река, поля, подернутые дымкой, чешуя кирпичных домиков – поселок Путнэма. Но по ночам, когда сланец, будто стекло, отливает льдистой синевой, а лунный свет играет на воде множеством переливающихся бликов… бог ты мой! Один шофер как-то свалился в этом месте под откос. Возможно, подвели тормоза. Хоронили беднягу в Ютике. Это давно уж случилось. Лет десять, пожалуй. Ну что ж, он выбрал для своей кончины декорации изумительной красоты. Изумительной. Отец Генри Сомса в своей жизни допустил большой просчет: он ждал ее, сидя в постели. Вот она и сыграла с ним шутку.
Генри провел ладонями по груди и бокам. Он все еще не спускал взгляда с двери, прикидывая, не швырнуть ли вслед грузовику свои яростные извинения. Кэлли стояла, прислонившись к доске для резки хлеба, подбоченившись и внимательно на него глядя. Когда глаза их встретилась, она спросила:
– Мистер Сомс, у этого человека в самом деле есть жена?
Он кивнул.
– Диабет. Кроме желе, она ничего есть не может.
Он грузно повернулся к мойке и сунул туда грязную чашку и ложку.
– Ничего себе, я бы сказала, выдержка.
Генри насупился, он снова представил себе, как она стоит, задорно подбоченившись, и, улыбаясь, забавляется игрою в секс, как мальчишки забавляются, подкладывая под колеса поезда пистоны… Представил себе и шофера, у которого дома умирает жена, а он, старый козел, как ни в чем не бывало ухмыляется, пялясь на Кэлли… И себя, Генри Сомса, протягивающего руку, чтобы, видите ли, погладить мужика.
– Я становлюсь старой бабой, – сказал он. Он ущипнул себя за верхнюю губу.
Кэлли не стала его опровергать.
– Вы очень славная старушка, – сказала она без улыбки.
Ее голос звучал устало. Она отвернулась и безучастно смотрела в темноту. Он обнаружил, что плохо различает черты ее лица. Вот и зрение сдает, как и все у меня, подумал он. Острая боль на мгновение пронзила его грудь, затем ушла – похоже на мышку, которая высунулась из норки и сразу юрк назад. В его памяти снова прозвучали ее слова про славную старушку. Генри был тронут. Тронут и подавлен. Он оперся на край мойки и ждал, чтобы успокоилось дыхание. Он сейчас все время чего-нибудь ждет. Ждет посетителей, ждет, когда раскалится жаровня, ждет ночи, ждет, когда наступит утро и под окном у него запоют эти сволочные пташки, серые в белую крапинку. Долго ли ждать? – подумал он. Снова осторожное прикосновение боли. Он откашлялся.
8
Прошло четыре ночи после того случая с шофером, и Генри осознал со всей ясностью, в каком сложном положении он оказался. Суббота. Вошел Джордж Лумис, пьяный в дым, и сказал:
– Генри Сомс, кобель старый, я явился занять место покойного Кузицкого.
Кэлли не хуже Генри знала, что Джордж Лумис говорит это просто так, что это у него своего рода извинение, пусть идиотское, но Джордж Лумис не умеет извиняться иначе. Если же Кэлли этого не знала, то она дура. И все же при этих словах она повернулась как ошпаренная и посмотрела на него с возмущением.
– Надо же такое ляпнуть! – сказала она.
– Ваша правда, мэм, – ответил он.
Она сказала:
– Ты пьян. Ехал бы домой да проспался.
– Ладно, Кэлли, – сказал Генри.
– Пьянство – зло, – кивая, сказал Джордж. – Кто пьет, тот служит дьяволу. Как только не стыдно. Пойди ко мне на ручки и расскажи про «дьявольское зелье». – Он вдруг перегнулся через стойку, пытаясь схватить Кэлли за руку, но она увернулась. Она побледнела и сказала очень серьезно:
– Я тебе башку разобью, Джордж Лумис, вот увидишь.
Джордж Лумис сел с какой-то печальной улыбкой и подпер голову рукой.
– Она отдала свое сердце другому, – сообщил он, глядя на Генри. Потом выпрямился и обернулся в сторону Кэлли. – А ведь он ублюдок, мисс Уэлс, – сказал он. – Говорю это для вашего же блага. Он будет напиваться каждый вечер и колотить вас палкой.
Кэлли посмотрела так, словно сейчас и впрямь его ударит – кулаки стиснуты, скулы напряжены, – а Генри подошел и встал между ними.
– Джордж, давай-ка я принесу тебе кофе, – сказал он. Он вынул блюдечко и чашку.
– Я никого не желал оскорбить, – сказал Джордж. – Просто старался исполнить свой долг христианина.
Генри мрачно кивнул, наливая в чашку кофе.
– Кэлли очаровательная девушка, – сказал Джордж. – И человек она настоящий. От души ею восхищаюсь.
Генри сказал:
– Выпей кофе.
– Всем сердцем предан Кэлли Уэлс. Не шутя подумываю о браке. Но в данный момент… – он замолчал, лицо его стало серым, – в данный момент, прошу прощения… меня будет рвать.
У Генри вдруг расширились глаза, и он махнул рукой Кэлли.
– Подай миску, – сказал он.
Она вскочила, бросилась к мойке и принесла оттуда миску для жаркого. Джорджа вырвало. После этого они перетащили его в пристройку и уложили на ковер, подстелив одеяло. Он сразу же уснул. Генри опустился возле него на колени и, качая головой, гладил его по плечу, как ребенка.
– Что это люди делают? – вздохнула Кэлли. Она стояла на пороге, опираясь затылком о дверной косяк, сузив глаза. А сзади было окно, тускло освещенное отблеском неоновой вывески, и на этом розовом фоне четко белела ее блузка.
– Это любовь с людьми делает, – Генри собирался пошутить, но произнес эти слова не тем тоном. Он встал. Генри прекрасно знал, что не любовь изводит Джорджа. Окажись здесь под рукой не Кэлли, а другая девушка, Джордж точно так же восхищался бы ею.
– Фу, – сказала Кэлли.
Он присел на край кровати, чувствуя себя старым как мир. Джордж Лумис лежал на полу, словно мертвый, вытянув хромую ногу так, что под ботинком сбилось одеяло. Казалось, он упал сюда с огромной высоты и разбился. Кэлли морщилась, видно, ей был неприятен запах перегара.
У Генри Сомса засосало под ложечкой. Ему вдруг показалось очень важным, чтобы Кэлли поняла те запутанные и сложные чувства, которые он даже самому себе ни разу не сумел словесно выразить. Он потянул себя левой рукой за правую и слегка качнулся в сторону Кэлли.
– Джордж Лумис – славный парень, – сказал он. Затем, смутясь, заторопился: – И Уиллард тоже славный парень. И ты славная девушка, Кэлли.
Она слушала, откинув голову, нахмурив брови. И тут его внезапно прорвало, и он стал ей рассказывать – злясь на себя, но не в силах остановиться – о том, как его мать ненавидела отца, и о сестре старика Кузицкого, и о темноте, и о шуме дождя, которые он помнил с детства. Слова вылетали безалаберно, кое-как, скомканная поэзия готовилась взлететь, но вдруг рассыпалась мелким сварливым брюзжаньем, и Генри встал и подошел к ней и схватил ее за плечи и шипел на нее, глядя ей в лицо сквозь слезы, но глаза девушки вдруг широко распахнулись, она отстранилась. Они стояли неподвижно, как два дерева, еле дыша.
– Извини, – простонал он, прижимая к лицу кулаки.
Она долго стояла не двигаясь и ничего не говоря.
Потом сказала, все так же сторонясь:
– Вам, Генри, надо бы поспать.
Он вернулся к кровати, стараясь не наступить на Джорджа, и снова сел. Ни разу в жизни он не был так угнетен.
– Я имел в виду, – начал он, глубоко вздохнув, – что люди… – Он не договорил.
Девушка молчала, наблюдая за ним, словно издали. Потом сказала:
– Погодите, я вам помогу снять ботинки.
– Не беспокойся, – сказал он, огорчаясь, что она чувствует себя из-за него как будто в чем-то виноватой, а может, потому, что из-за его дури ей теперь приходится откупаться от него актом милосердия, как откупаются милостыней от калеки. Но она не послушалась, подошла и стала на колени между ним и неподвижным Джорджем Лумисом. В вырезе расстегнувшейся блузки виднелись голубовато-белые очертания девичьей неразвитой груди. Когда, подняв глаза, она увидела, что он на нее смотрит, щеки ее побледнели и рука машинально потянулась застегнуть воротник. Он перевел взгляд на свое колоссальное брюхо и не сказал ни слова – страдая от унижения.
Кэлли выпрямилась и спросила:
– Так лучше?
Он кивнул.
– Извини, – сказал он. – В другой раз не позволяй мне допоздна тебя задерживать. Ты не представляешь…
– Да ничего, – ответила Кэлли. Она сердито надула губы, но сердилась вроде бы не на него. Было такое впечатление, будто и она, в свои шестнадцать, уже стареет.
Несколько минут ему казалось, будто он смотрит ей в лицо, прямо в глаза, потом он понял, что она уже ушла. На какое-то мгновение он усомнился, а была ли она тут вообще. Неожиданно в его воображении возникли мистер и миссис Фрэнк Уэлс, придирчиво разглядывающие смущенного сутулого шофера, сделавшего предложение их дочери. Увидел он и ликование в глазах старика Кейзи, целующего после свадебной церемонии невесту – поцелуй добряка домашнего врача, не мирового судьи. Генри стащил с себя рубашку и сидел на кровати в одних штанах, пытаясь переплавить слова и жесты в нечто, способное выразить его огромные, неповоротливые, скомканные мысли. Он стиснул кулаки, чтобы не дать ей еще раз, в его памяти, опуститься перед ним на колени. Но память позволила себе и не такое. Этой ночью в сновидениях сомсовское его наследие, словно черно-серое чудище, вылезало вновь и вновь из пучины полуночи: он представлял себя с нею в постели и осквернял ее вновь и вновь, неистово и нечестиво. Он был сам себе омерзителен, в груди пекло, когда, внезапно приподнявшись на постели, обнаружил, что комната залита солнечным светом и за окном поют птицы. Джордж Лумис сидел напротив, прислонившись к стене, крепко зажмурившись и обхватив руками голову. На мгновение он открыл глаза и тотчас же опять зажмурился.
– Все люди – сволочи, – сказал Джордж.
До Генри донесся дальний, еле слышный звон колоколов – это звонили в баптистской церкви в Новом Карфагене.
– Да ладно, – ответил Генри, пожал плечами и сразу как-то обмяк. Некоторое время он думал об этом или обо всем вообще, потом со вздохом кивнул. – Да ладно, – сказал он.
9
Уиллард Фройнд откопал какой-то идиотский конкурс, первая премия тысяча долларов. Ей-богу, он не хуже всякого другого, сказал Уиллард, сумеет смастерить себе автомобиль. Он прочитает Генри напечатанные в журнале правила конкурса и покажет ему чертежи, он их только что сделал. Они прошли в пристройку, и Генри, присев на край кровати и закрыв глаза, стал слушать чтение Уилларда. Уиллард читал медленно, как человек, не привыкший читать ничего, кроме заголовков, или как адвокат, подчеркивающий значение каждой фразы. Когда Генри поднимал на него взгляд, слегка хмурясь, чтобы не показывать своего скептического отношения, Уиллард наклонялся в его сторону и читал еще медленнее и с нажимом. Он все читал и читал, одно условие вслед за другим, а Генри вспоминал те времена, когда он был в возрасте Уилларда Фройнда. Тусклыми прямоугольниками обозначились в его памяти окруженные старыми мальвами желтые кирпичные дома поселка Путнэма. Люди, которых он знал в давние времена, снова вернулись к нему; люди, которые состарились с тех пор, вновь были полны жизни. Вот его отец, огромный, неподвижный, как валун на дне ущелья, и док Кейзи, усмехающийся, с пергаментной кожей, помахивает юрким стеком, косит глаза. Вот мать Кэлли, белая и полногрудая в те времена, и отец Уилларда, уклончивый, лукавый, поглядывает из-под пухлых век на корову голштинской породы, подмечая все ее дефекты, и, как на счетах, производит в уме вычисления. Все они в те дни лелеяли большие надежды. Всем им предстояли важные дела.








