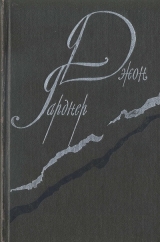
Текст книги "Никелевая гора. Королевский гамбит. Рассказы"
Автор книги: Джон Чамплин Гарднер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 32 страниц)
– Джонатан! – крикнула она мне вслед.
– За книгами вот зашел, – объяснил я старому Иеремии, столкнувшись с ним в дверях.
Он откинул голову, изумленно вздернул брови, во все уши прислушиваясь к моим торопливым шагам.
Книги, как я обнаружил, добравшись до своей койки, были малоинтересные. Делоренсовское мошенническое пособие по индийскому искусству заклинания змей; учебник для младших классов по истории; сборничек стихов (религиозных); иллюстрированный справочник «Величайшие негодяи мира». Я сунул их в свой тайник под выдвижной дощечкой в переборке, имея в виду рассмотреть их внимательнее на досуге (изучить их, налюбоваться ими вдоволь, ведь они принадлежали ей!), а сам поспешил обратно на палубу, где, пьяный поцелуем Августы, немедленно о них позабыл.
XVII
Одна черта в поведении капитана Заупокоя вызывала особое изумление. Как ни чувствителен он был к шуму, свету, вони и суете, не было случая, чтобы он пропустил встречное судно, не окликнув его и не побывав на нем с визитом. Это было бы странностью даже для совершенно здорового китобойного капитана. Конечно, принято общаться со своими собратьями – охотниками за левиафаном, обмениваться почтой и сведениями о местонахождении дичи, но никто не будет останавливаться ради каждого встречного и поперечного. Какой вопрос он там выяснял, я не знал, как не знал и того, почему, отправляясь с этими визитами, всякий раз он берет с собой пустую сумку, а когда возвращается, она у него чем-то набита (на что первым обратил мое внимание Билли Мур); но не было сомнения, что, посещая канонерки, купеческие шхуны и прочая, уходя на вельботе с командой чернокожих гребцов и с Иеремией на корме – как всегда подле своего понурого, согнутого болезнью капитана, – он, капитан Заупокой, имел на то свои, самые серьезные основания.
Визиты эти, по-моему, ничуть не меньше, если не больше, значили и для слепого Иеремии. С той самой минуты, как незнакомое судно появлялось на горизонте, задолго до того, как кто-нибудь успевал оповестить его об этом, в поведении старика появлялись какие-то нервические странности. На него можно было наткнуться где-нибудь в самом дальнем углу – он стоял и бормотал что-то себе под нос с самозабвенной улыбкой на лице, словно вступил в непосредственное общение со святым духом. А когда подходил срок спускать вельбот, чтобы плыть и взойти на борт незнакомца, любая оплошность, любое нарушение протокола – и Иеремия, в обычное время сама кротость, тут вдруг впадал в неистовство и готов был пинать всех, кто подвернется. Он был похож на актера-трагика, который перед выходом на залитую прожекторами сцену в последний раз подтягивает перчатка и дергает носом, чтобы поправить усы. Но, ступив на палубу незнакомца (я сам видел, я следил за ними в бинокль из вороньего гнезда), они как бы менялись ролями, и теперь уже капитан, а не Иеремия походил на актера, жестикулировал и что-то говорил, почти и не опираясь на слепого.
Для Августы эти встречи и поездки тоже имели какое-то важное значение. Почему-то они внушали ей страх. Все время, пока капитан с Иеремией отсутствовали, она без умолку болтала вздор, стараясь отвлечься, но вдруг на полуслове вздрагивала и заламывала бледные руки.
– Ах, Джонатан, Джонатан, – сказала она мне как-то, – ну что они там делают? Почему так долго? – Она держала меня за руку, ее била лихорадочная дрожь. (Дела между нами зашли уже достаточно далеко.)
– Да просто проводят время в свое удовольствие, – ответил я со смехом, чтобы ее успокоить.
– Это преступление! Для человека в таком состоянии, как отец… Ах, если бы мне быть птичкой, я бы полетела туда и подсмотрела!
Я опять засмеялся и стал целовать кончики ее пальцев, хотя сам в глубине души чувствовал, что чего-то здесь недопонимаю. Слишком все как-то эффектно получалось. И этот самоотверженный порыв, и платочек, который она сжимает тремя пальцами той руки, что лежит у меня на ладони. Уголком левого глаза, который у меня косит, я видел, что она смотрит в зеркало, внимательно, как театральный критик, следя за нашей сценой.
– Августа, – позвал я ее. И, не сдержав удивления, воскликнул: – Да ты же рада-радешенька!
Она прижала руки к сердцу, и слезы хлынули потоком.
– Джонатан, ну как ты мог?
В этот миг у меня возникло безотчетное убеждение, что я давно уже знаю об Августе нечто такое, некую ужасную истину, которую призваны скрывать от меня и эта ее бледность, и дрожь, и немощь. Но, встретив ее взгляд, я тут же поверил, что все это мне помстилось, и прогнал от себя такие мысли.
– Не сердись, – сказал я. – Страх и радостное возбуждение проявляются сходно, вот я и обманулся. Прости.
Я поцеловал ее в щеку. И через некоторое время был прощен.
Но вечером, когда я лежал у себя на койке, окруженный тьмой и безмолвием, если не считать храпа моих спящих товарищей матросов, то же чувство вновь посетило меня, и я похолодел с головы до ног. Я никак не мог в нем разобраться. В нем присутствовал страх, это было ясно, но откуда он, непонятно, уж конечно, не от этого прелестного матового лица, не от этих сияющих глаз. Однако страх все возрастал, словно в кошмарном сне, когда тебе со всех сторон угрожает опасность, замаскированная, неумолимая.
И вдруг я, вздрогнув, почувствовал – или, может быть, это тоже во сне? – что в темноте кто-то стоит возле моей койки и что-то или кто-то тянется прямо к моему лицу. Я отпрянул, но сразу же безотчетно выбросил перед собой руку и одновременно закричал. Пальцы мои сомкнулись вокруг какой-то безволосой обезьяньей лапки, влажной, маленькой и холодной как лед. Я тут же разжал их. Я больше не кричал – я вопил. Возле толпились мои переполошенные товарищи, задавали вопросы. Так, значит, это действительно был сон, с великим облегчением подумал я. Но тут раздались убегающие шаги. «Слышите?» – воскликнул я. Однако все утверждали, будто ничего не слышат.
В один из тех дней бывший пират-хитрюга Уилкинс заметил:
– С чего бы это нашему капитану раз за разом все сворачивать к югу?
Я тогда работал у помпы. Мы получили небольшую и вполне безопасную пробоину, и второй помощник Вольф с командой своего вельбота латал ее. Уилкинс как раз сидел отдыхал, раскинув ноги, точно большая лягушка-оборотень в красной головной повязке, зловеще поблескивая глазами в свете нактоузного фонаря, – он ждал очереди сменить меня. Он то и дело сжимал и разжимал кулаки и колотил себя по коленям. И говорил:
– Куда бы мы ни держали курс, на север ли, на запад или на восток – прошу всемилостивейше обратить внимание, – старик всегда снова сворачивает к югу, имея своей целью, если не ошибаюсь, пункт на пятьдесят втором градусе тридцать седьмой минуте и двадцать четвертой секунде широты и на сорок седьмом градусе сорок третьей минуте пятнадцатой секунде долготы.
Я повернул голову и снизу взглянул на него. В последнее время я пытался уверить команду, что на самом-то деле я раньше был могильщиком. Иногда, мол, я копал для божьего храма, а то и для какого-нибудь костоправа – мне все едино. А что я раньше врал, так это потому, что не хотелось сознаваться, к какой вурдалачьей профессии принадлежу. (Это я говорил, потупясь и закатив глаза, – ни дать ни взять жалкий грешник, снедаемый муками совести.) А чтобы придать новой версии правдоподобие, я стал ходить нахмуренный, понурый, то и дело испуская прежалостные вздохи.
Уилкинс ухмылялся, попыхивая трубкой, и от этой ухмылки к его поблескивающему правому глазу тянулась глубокая черная борозда. В тени за шпилем сидели две крысы и облизывали лапки, поглядывая на Уилкинсовы ужимки.
По совести говоря, я уже и сам обратил внимание на то, что Старик периодически возвращается на одно и то же место. Правда, мои наблюдения были не столь точны. Я, должен вам заметить, уже не был тем новичком, который, задрав голову, несколько месяцев назад напрасно разыскивал на ночных небесах хоть одно знакомое созвездие. Проведя много часов в вороньем гнезде или на вантах за разговорами с моим рыжеволосым другом Билли Муром, я благодаря его наставлениям и книгам капитана сделался чуть ли не настоящим астрономом. Я узнавал в лицо любой небесный светоч и космический проблеск от Андромед до Пегасов. Выучил по книгам про звезды переменной яркости, про черные звезды, про звезды-близнецы и про таинственные так называемые блуждающие звезды. Голова моя была до самой верхней палубы набита сведениями, и я возносил их ближе к небу всякий раз, как поднимался на мачту. Там они переставали быть просто мертвыми сведениями и становились поющими частицами вселенной среди объятой сном черноты. И я постигал то, что неведомо людям, которые не умеют раствориться в безбрежной дали океана или в царстве лесов, уходящих зелеными аркадами за тридевять горных хребтов. Я научился воспринимать пространство и время не умом и волей, а более таинственными путями, как понимают друг друга старые супруги или как деревья в долине знают о передвижении малой птахи или паучка. Началось все на вполне сознательном уровне. Помню, я учился определять точное время по звездам, стараясь учитывать при этом меняющееся местонахождение судна. Расчеты эти мне плохо давались, я с завистью смотрел, как легко Билли Мур задирал к небесам рыжую бороду и с ходу бросал мне, будто перчатку, время и наши координаты. И вдруг в одну прекрасную ночь, я словно пробудившись ото сна, понял, что тоже так могу. Все мироздание, обращающееся вкруг меня не как циферблат, а, скорее, как большая, медлительная птица; наше судно, движущееся подо мной размеренно и осторожно; мое сознание в самом центре этого осторожного, как бы вслепую, искания, подобное мысли бога (я имею в виду не отвлеченное божество, творящее суд и прорицание, а того бога, что вечно катит вперед с усмешкой на устах), – все мироздание стало продолжением моей души, моим последним пространственно-временным местонахождением, так что определить позицию шести кубических футов пространства, занимаемых моей внутренней плотской оболочкой, относительно остального мира оказалось не труднее, чем положение моего левого косящего глаза относительно моих же пальцев на ноге. Все это, быть может, кое-кому покажется чистым бредом. Но факт таков – мои слова вам подтвердит любая ворона, – что сознание всегда знает, где находится, покуда не задумается об этом.
Так что я чувствовал себя в происходящем совсем как дома. И понимал прекрасно, на что это так хитро намекает Уилкинс, хотя и не с точностью до градусов и секунд. (Он в этих тонкостях, конечно, разбирался не более моего, он просто знал, старая ящерица с трубкой в зубах, что ищет капитан.) И я благодаря намекам Уилкинса вскоре об этом тоже кое-что проведал. Я держал в уме названные им координаты (насупленный, согбенный, словно всю жизнь налегал на лопату) и при первой же возможности, оказавшись в штурманской рубке, заглянул куда следовало. В означенном месте на карте стояло два слова – если можно было счесть это словами: «Нев. ост.» Безуспешно поломав голову, я обратился с вопросом к слепому Иеремии, который сидел за капитанской шахматной доской и перебирал ощупью фигуры. Он улыбнулся, странно дернув щекой, и перегнулся над шахматами, придвинув лицо вплотную к моему.
– Невидимые острова, мой мальчик! Но тсс! Ни слова! – И он испуганно покосился слепым глазом на капитанскую спальню.
Больше старый дурень не пожелал сказать ни слова, и по охватившему его волнению, по выказанному им страху, который, как у Августы, уже граничил с радостью, я понял: ни к кому другому с этим вопросом лучше не соваться.
– Партию в шахматы, приятель? – предложил он.
– Мне очень жаль, но я не знаю ходов, сэр, – отвечаю я.
(На самом-то деле отец мой выходил победителем на всех турнирах, а я с семилетнего возраста не проиграл ему ни одной партии.)
После того дня я стал внимательнее приглядываться к блужданиям нашего капитана по океанским просторам. В то время мы как раз крейсировали в северо-северовосточном направлении в сторону Аляски. На такие высокие широты мы еще никогда не заплывали; казалось, юг потерял для капитана Заупокоя свою притягательную силу и теперь мы намеревались посетить Северный полюс. В шестистах милях от Аляскинского побережья наше судно взяло резко на запад, увлеченное преследованием большого стада кашалотов. Добыча нам досталась необыкновенно богатая, то была редкая удача, если не считать потери одного вельбота да еще двух гребцов из команды второго помощника. При всем, что мне было известно, я почти готов был к тому, чтобы «Иерусалим» лег на курс к мысу Горн и оттуда – домой. И мы действительно повернули к юго-востоку, словно именно таковы и были намерения капитана Заупокоя. Но на четвертые сутки нас точно могучим подводным течением стало ощутимо сносить к югу. Это видела вся команда, и все были очень расстроены. Имея переполненные трюмы, сворачивать с курса, который должен был привести нас домой, было явным безумием. А мы отклонялись все дальше к югу, усеивая океанскую гладь обглоданными китовыми тушами. (Над ними деловито, как комары, вились птицы, вокруг них плескались акулы, норовя ухватить то, что не прибрали к рукам мы, а при случае сцапать и зазевавшуюся птицу. За несколько миль был виден в лучах солнца белый скелет на плаву и тучи белых брызг, взлетающих вокруг него к небу. «Вон как высоко летят брызги, – наклонившись к моему уху, хмуро заметил мистер Ланселот. – Дрожащие пальцы сразу заносят в судовой журнал: Здесь осторожнее! Мели, рифы, пена прибоя! И на многие годы суда станут с опаской обходить это место. Да, вот вам пример упрямой живучести древних предрассудков…» – «Я унитарий, мистер Ланселот, – сказал я. – Какое бы богохульство вы ни произнесли, меня оно не заденет нисколько».)
А мы забирали все дальше к югу. В команде росло недовольство и озлобление. Даже люди с нежной душой, вроде Билли Мура, стали раздражительными и, хмурясь, жались по углам – не только от холода. Небо и море сделались серыми, как грифельная доска. Птицы, опускавшиеся передохнуть к нам на снасти, имели, по нашим умеренным меркам, удивительный заморский облик. Капитан, недужный, но пламенный, сидел у себя в каюте и упрямо молчал, когда мистер Ланселот или второй помощник Вольф задавали ему вопросы насчет нашего курса. Того, что я мог услышать из соседнего помещения, при всех обиняках и недомолвках, было вполне достаточно, чтобы уловить в их речах ноты решительного несогласия. Даже слепой Иеремия, кажется, был настроен против капитана, хотя он-то не позволял себе речей, помня свое место. Августа, слыша эти яростные речи – громче грома грохочущие в ушах капитана, если у него действительно был такой чувствительный слух, как он изображал, – Августа бледнела, трепетала; ее огромные серые глаза мерцали, как южное небо перед грозой. В кубрике по вечерам Билли Мур сторожко, с оглядкой уже заводил речь о законах смещения капитанов, если те не справляются со своими обязанностями.
Потом, словно затем, чтобы еще осложнить дело, там, куда не заглядывают нормальные корабли, мы повстречали незнакомое судно. Не успел отзвучать крик из вороньего гнезда, как капитан Заупокой выковылял на капитанский мостик об руку с Иеремией – без поддержки он уже почти не стоял на ногах – и распорядился идти на сближение. Как только раздалась эта безумная команда, мистер Ланселот поспешил на ют. И мы следом, вся наша вахта, держась сзади из страха перед яростью капитана, но горя любопытством услышать, что будет говорить мистер Ланселот. Разумеется, мы ничего не услышали: мистер Ланселот не позволил себе ни малейшей бестактности. Но мы смогли еще раз убедиться, что для капитана Заупокоя не существует ничьей волн, кроме собственной. Отчего ему так важно посетить незнакомца – настолько важно, что он готов рискнуть мятежом на «Иерусалиме», – я вообразить себе не мог и тут же, не сходя с места, принял решение, что на этот раз, когда капитан с Иеремией поплывут на встречный корабль, я буду вместе с ними, чем бы это мне ни грозило.
XVIII
Всякий, кому случилось бы в ту ночь пройти мимо моей койки, сказал бы, что юный Джонатан Апчерч спит безмятежным сном новорожденного младенца. Но откинь он одеяло, и взору его, к глубокому моему сожалению (тем более глубокому из-за того, о чем станет известно ниже), открылся бы чернокожий бедняга, связанный по рукам и ногам и с кляпом во рту – печальная жертва самого недопустимого насилия и бесправия. У меня не было другого выхода, как я ему не преминул объяснить. Но кажется, его это не убедило. Возможно, что ему уже и раньше говорили то же самое – в Африке негры, которые его изловили, или в Бостоне христиане, купившие по сходной цене его жену. Дабы заручиться его долговременным сотрудничеством, я пристукнул его по затылку тупым концом свайки. И он незамедлительно отплыл в страну туманных видений.
И вот, упрятанный с ног до головы в рукавицы, робу и зюйдвестку, я уже стою наготове у фальшборта вместе с моими товарищами неграми и только молю бога, чтобы брызги не смыли с лица наведенную жженой пробкой черноту. Иеремия, как обычно в такие минуты, выходил из себя от волнения, одной рукой он поддерживал капитана (довольно небрежно и даже как бы досадливо), а другой размахивал, точно дерево в ураган, желая как можно скорее спуститься в шлюпку. А вокруг нас, но на приличном расстоянии, словно озлобленные волки, бегали матросы «Иерусалима», чуть не в полный голос осуждая прихоти Заупокоя. Суровые взгляды мистера Ланселота не оказывали на них действия, а второй помощник Вольф был скорее на их стороне.
Заупокой, если и слышал ропот, вида не показывал. Он стоял вялый, обмякший, прислонясь к Иеремии, облаченный в парадную черную пару, с лицом застывшим, будто холодная картофелина, и смотрел, как приближается большое незнакомое судно. Оно не несло флага, что иным из нас показалось зловещим знаком. Однако весь вид старой тяжелой посудины, явно невооруженной – какому пирату приглянется неповоротливая трехмачтовая тихоходная шхуна? – да и ее капитана, стоявшего у поручней, не внушал страха. Это был грузный старик, то ли русский, то ли славянин, то ли поляк, одет он был в котиковую шубу и такую же шапку, а руки для тепла держал в муфте. Он кусал сивый ус и то и дело опасливо озирался, видно, не знал, как быть, и вообще, что все это значит, однако его природная крестьянская учтивость – или же настырность нашего капитана – не оставляла ему выбора: он согласился принять нас у себя на борту.
– Негров в шлюпку! – распорядился капитан Заупокой. Голос его прозвучал еще глуше обычного. Мистер Ланселот нехотя отдал команду; слепой Иеремия свободной левой рукой – правой он поддерживал капитана – замахал на нас еще яростнее, чем раньше. Мы со всех ног побежали садиться в вельбот, словно за нами гнались с пушками наготове, и, как мартышки, рассыпались по банкам. После нас Иеремия, не без помощи матросов, усадил на корму капитана и сам уселся рядом. Еще через десять секунд капитан Заупокой приказал спускать вельбот на воду. Лодка устремилась вниз, будто собралась лететь до самого лона серых, напористых волн, но на полпути вдруг споткнулась и продолжила спуск, медленно раскачиваясь. На борту остался Уилкинс, он смотрел нам вслед, скрестив руки на груди, и непонятная улыбка застыла на его загадочном лягушачьем лице. Несмотря на это, мне почудилось, что он взбудоражен происходящим не меньше, чем старик Иеремия. Но вот мы столкнулись с первой волной. И сразу же пробкой подлетели вверх, с силой ударились о борт «Иерусалима» и, точно ведро в колодец, ушли под воду. «Ну, конец нам», – пронеслось у меня в голове. Однако мы не утонули, а уже через две секунды снова вынырнули на поверхность, словно кит из водной пучины, и я, глядя на остальных, тоже навалился на весло. Через полминуты мы выгребли на большую воду и заскользили с волны на волну, отчаянно работая веслами и напоминая упавшую в корыто тысяченожку. Иеремия, не имея возможности видеть, что происходит, обеими руками вцепился в капитана и вопил, обращая свои вопли то ли к небу, то ли к нам – бог весть.
Чернокожие вокруг меня были перепуганы не меньше моего, они повыпучили глаза и, задыхаясь, ловили воздух разинутыми ртами. Наш вельбот, ко всеобщему ужасу, то вздергивал нос отвесно вверх, то вдруг увиливал в сторону, горизонт головокружительно взлетал и проваливался, и один только капитан среди нас сохранял совершенное равнодушие. Он неподвижно сидел, подавшись вперед, разглядывая носки своих башмаков и попыхивая трубкой, у меня даже возникло впечатление, что он спит. Впрочем, все это мельком, разглядывать не было времени. Я работал веслом, надсаживаясь изо всех сил, стараясь достать до воды, когда лодка оказывалась в провале между волнами. Но вскоре меня встревожило еще одно мимолетное впечатление: чернокожий гребец слева позади меня, кажется, отличался от остальных. Улучив минутку, я быстро оглянулся еще раз. Впечатление только усилилось, хотя выразить его в определенных словах я бы затруднился. Но потом, заново перебирая в уме то, что мелькнуло перед глазами, я вдруг осознал: во-первых, он был малорослый, много ниже других гребцов. Но это было еще не все и не самое главное. У него были глаза не черные, а серые, как морской туман. Правда, когда она меня осенила, показалась невозможной. Когда я все понял, я едва сам себе поверил. Этот гребец был… Августа! Как раз в ту минуту на нас обрушился огромный пенный вал, и я протянул руку назад, чтобы поддержать мою подругу. Меня остановил ее ледяной, бешеный взгляд, и я заработал веслом с удвоенным старанием.
За это время мы успели приблизиться к незнакомцу. Матросы бросили нам канаты, мы закрепили их за кольца и, раскачиваясь, взмыли кверху. Когда наша лодка поднялась вровень с палубой, капитан и старый Иеремия ступили на борт, и капитан с поклоном обратился, жестикулируя, к их закутанному в шубу капитану. Мы все еще выкарабкивались из вельбота, а они уже удалялись по направлению к капитанской каюте. «Рад знакомству, с вами, сэр», – донеслись до нас слова капитана Заупокоя, произнесенные гораздо более громким голосом, чем мы привыкли. Он по-прежнему тяжело опирался на руку слепца, но при этом до того энергично дергал и тряс головой, что мне поневоле подумалось: полно, уж так ли он в самом деле немощен, как любит прикидываться на «Иерусалиме». Проходя мимо грот-мачты, они остановились посмотреть на медведя, который сидел на цепи, безмолвствуя и глядя на всех печальными очами ливерпульского сироты. Меж тем моя вычерненная сажей Августа очутилась подле меня, украдкой тронула меня за руку и отвела к другому борту, подальше от остальных.
Когда поблизости не оказалось ни одного «иерусалимского» негра, хотя чужие матросы обступили нас довольно плотно, Августа проговорила:
– Джонатан, что ты наделал? Это безумие!
Я кивнул головой на толпящихся вокруг чужих ухмыляющихся ражих парней.
– Глупости, – сказала она, – они ни слова не понимают по-английски.
И заглянув в лицо тому, кто стоял всех ближе, – невысокому смугловатому мужичку с носом, похожим на луковицу, и добрыми карими глазами, – она медленно и раздельно произнесла:
– Вы говорите по-английски?
Он еще шире заулыбался, закивал и ответил какую-то тарабарщину. Тот же вопрос она предложила еще нескольким матросам. Было очевидно, что мы можем говорить среди них все, что нашей душеньке угодно.
– Ну, а ты-то сама? – торопливо зашептал я. – Пойти на такой риск…
– Не спрашивай меня, Джонатан! Уверяю тебя, у меня были на то причины.
И ее пальцы в рукавицах сдавили мне локоть.
Очевидно, она говорила правду. Глаза ее сияли азартом, внушая мне тревогу и уверенность в том, что никакие мои уговоры нисколько на нее не подействуют.
– Раз уж мы здесь затем, чтобы подглядывать, давай займемся делом, – сказал я.
Она одарила меня ослепительной улыбкой и снова сжала мне локоть – благодарно и восторженно. С преувеличенно вежливыми поклонами мы выбрались из толпы окружавших нас матросов и вдоль борта прошли на ют, куда удалились для беседы два капитана. Но с десяток матросов последовало за нами, бессмысленно улыбаясь и словно бы не теряя надежды, что мы еще найдем с ними общий язык. У трапа на капитанский мостик я в нерешительности замешкался. Старший помощник их капитана (а может быть, другой офицер, знаков различия на них не было) стоял у входа в капитанскую каюту словно на часах, хотя, как видно, относился к своей роли не слишком серьезно: вокруг собралось немало закутанных в меха моряков, они теснились, норовили заглянуть в окна, в дверь. Августа смело поднялась по трапу. Часовой смотрел на нее невидящим взглядом. Тогда и я стал подниматься вслед за ней. Достаточно взглянуть на ее бедра, подумал я, двигаясь позади нее, и любой мужчина сразу поймет, что это не матрос. Впрочем, вздумай старый Заупокой пристальнее взглянуть на мой косой левый глаз…
От страха за нее и за себя у меня кружилась голова, но делать было нечего. За нами по трапу, не переставая улыбаться, робко поднялись два их матроса. Но даже когда мы потеснили какого-то человека с черной кожаной нашлепкой на одном глазу и острыми красными ушами и заглянули прямо в окно капитанской каюты, тот, кто был на часах, не спохватился.
Внутри собралось довольно много народу, почти никого из них мы раньше не видели – все в меховых шубах (некоторые еще и с серьгой в ухе, а у одного был попугай, отчего, признаюсь, мне стало уж вовсе не по себе). Они стояли все больше спиной к нам. А посредине, за столом, прямо супротив их капитана, сидел Заупокой, разодетый в пух и прах, а подле, как всегда, – слепой Иеремия. В одном Билли Мур мне солгал. Заупокой говорил только по-английски, а их капитан только на своем родном заморском наречии. Но при этом оба разглагольствовали с большим одушевлением, капитан Заупокой неистово дымил трубкой и пропускал по стаканчику виски между залпами словоизвержения, а тот капитан посмеивался как-то гулко, не по-нашему, подливал в стаканы и то и дело недоуменно поглядывал на Иеремию. Тот сидел подле нашего капитана, улыбался, словно в глубоком трансе, и не слышал ни единого слова, даже когда к нему прямо обращались.
– Есть Господь Бог в небесах, – вещал капитан Заупокой, подняв три пальца в белой перчатке. – Наше спасение видно невооруженным глазом, как мне виден нос на вашем лице. Свидетельствую об этом. Вся вселенная одно огромное чудо.
Тот капитан горячо закивал в знак согласия, хотя, по-моему, отнюдь не представлял себе, с чем соглашается.
Заупокой, качнувшись, поднялся на ноги, прошел несколько шагов – до этого я почти не видел, чтобы он ходил без поддержки слепца, – потом вернулся на место, все время разглагольствуя о божией святости и власти и изрыгая дым, словно Везувий, постоял и сел. Я чувствовал, что рядом со мной Августа охвачена сильным волнением. Сам же я совершенно не понимал, что происходит, вся эта абракадабра была выше моего разумения.
– Смерти не существует, – рассуждал меж тем капитан Заупокой. – Я говорю не о таком вздоре, как воскресение на небесах. Отнюдь. Я утверждаю, что эта каюта до верхнего транца набита теми, кто отошел в мир иной. Вот слушайте! – Величаво, как преподобный Дункель, толкующий о Любви, он воздел перст к потолку. – Дух Илии Брауна! – позвал он. – Говори с нами!
Все замерли, глядя в ту точку, куда указывал палец Заупокоя, и вдруг с потолка прозвучал стон, исполненный бесконечной, невыразимой муки. Тогда капитан перевел взгляд и указующий перст на переборку.
– Дух Хайрема Биллингса, если слышишь меня, отзовись!
И снова раздался стон, на этот раз от переборки. Все вокруг меня только рты поразевали. Я покосился на Августу. Она стояла сияющая, с широко раскрытыми глазами, будто новообращенная грешница. А капитан Заупокой говорил:
– Вот видите! Мы находимся в районе Невидимых островов. Иеремия, подай сюда лоции.
Слепец замигал, словно пробуждаясь от транса, и вынул из кармана свернутую в трубку карту. Те, кто были в капитанской каюте, столпились у стола; их капитан поднялся на ноги и низко склонился над столешницей. Иеремия раскатывал карту, и в это время рослый пышноусый матрос рядом со мной тронул меня за плечо и зашептал по-английски: «Это не настоящий капитан, капитана нет в живых. Этот, что здесь всем заправляет…» Тут лицо его исказилось, и он, давясь, упал к моим ногам. Августа, стоявшая от него по другую сторону, вскрикнула, и одновременно с нею я тоже заметил струйку крови. В горло матроса по самую рукоять черненого витого серебра был всажен маленький кинжал. Я сразу подумал на толстяка с черной повязкой и заостренными красными ушами, который стоял у меня за спиной. И что было силы заорал:
– Измена! Пираты!
Один из тех, что столпились в каюте у стола – могучий детина, – обернулся, и я узнал в нем старого знакомца – пирата Благочестивого Джона.
– Измена! – попытался я крикнуть снова, но на нас со всех сторон набросились с воплями матросы, точно стая диких павианов.
Здесь бы истории Джонатана Апчерча и конец пришел, но неожиданно произошла очень странная вещь. Слепец Иеремия раскинул руки, нащупал и обхватил могучую грудь Благочестивого Джона и зашептал что-то прямо в волосатое ухо; Благочестивый Джон закачался, затряс головой, захлопал глазами, как ошарашенный черт, уставившись на капитана Заупокоя. А потом крикнул! «Нет злого умысла! – и покосился на Иеремию. – Нет злого умысла! Отпустите их!»
Иеремия наклонился над капитаном Заупокоем – тот сидел и попыхивал трубкой, словно наблюдал подобные сцены тысячу раз в жизни, – помог ему подняться, они вдвоем вышли из каюты, и дьяволы, державшие меня и Августу, опустили руки по швам, точно кроткие овечки. Словно заговоренные, мы прошли к своей шлюпке, уселись на места и через двадцать минут уже стояли целые и невредимые на палубе «Иерусалима». Августа делала вид, будто озадачена ничуть не меньше моего, однако я отлично знал, что в хитрой ее головке есть немало такого, что недоступно постороннему взгляду. Не дав ей ускользнуть, я поймал ее за руку и прямо сказал:
– Открой мне тайну, Августа. С меня довольно! Говори правду!
При этом я добивался от нее не признания – очевидного и малоинтересного – в том, что сумка на плече капитана предназначена для сбора пожертвований.
– Какую тайну, Джонатан? – У нее задрожали губы. Но я не отпускал ее руку; в голове у меня мелькнула мысль, что черный, пробочный цвет ее кожи кажется не менее естественным, чем прежний белый. Я еще сильнее сдавил ей локоть.
– Открой тайну!
Поблизости стоял Билли Мур и смотрел на нас.
Она испуганно покосилась на меня и сразу же отвела взгляд в сторону. И я вдруг понял, что Августин недуг зашел куда глубже, чем я полагал. Я как бы увидел ее, как она есть – без грима, без подсветки прожекторов. Такая хрупкая, совсем дитя, и однако же вот – обречена на погибель, безнадежно, безжалостно, страшно.








