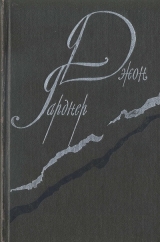
Текст книги "Никелевая гора. Королевский гамбит. Рассказы"
Автор книги: Джон Чамплин Гарднер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 32 страниц)
На этот раз мысль его ясно отразилась на лице – или мне так показалось? Девятнадцать – это очень мало, думал он, и нет ничего на свете нелепее, никчемнее, несусветнее молодости. Но он этого не сказал.
Я прибавил:
– Уже почти двадцать! – Бессовестная ложь, но голос мой прозвучал твердо, я держался вполне непринужденно. Я сам себе удивился.
Капитан Заупокой просительно тронул за руку слепого Иеремию, как бы ища помощи. Иеремия встал и помог подняться капитану. Капитан сказал:
– У меня есть дочь, мистер Апчерч, и я бы хотел, чтобы вы были ее наставником.
Я сделал вид, будто колеблюсь.
– Ее имя – Августа.
Горло у меня пересохло, словно затканное паутиной; голос не прозвучал.
Капитан Заупокой, опершись на слепца, отковылял к дверце, приоткрыл ее и позвал к нам дочь.
XIV
Августа! Даже величайшие алхимики мира не смогли бы разгадать тайны моего темного вертограда, объяснить ее противоречия. Она была загадочна и неуловима, как сама жизнь. Воплощение женственной щедрости, и при этом злобная и коварная; честна, как солнечный свет, и в то же время неискренняя, лукавая; мягкая, немыслимо нежная – и жестокая. Она была особое царство, дальняя сторона за краем неба, но пути туда я не знал. Она была Аркадия и Содом, идеальный образ Природы, идея Зла. Все это я краем сознания понял в первый же миг. Мы словно были знакомы не одно столетие.
Она вошла, но я оторвал от нее взгляд и посмотрел на чудовище, ее сопровождавшее, – Аластора, огромного, вислобрюхого дога, пыльного и могучего, как лев. Он презрительно повел мимо меня глазом. Его хозяйка незаметно разглядывала меня. Я вдруг превратился в неживой безмозглый предмет – лишенный лица и воли, как бочка из-под сидра, – и вот я уже одно несуразное, вопиющее нагромождение деталей. У меня кружится голова от сознания непропорциональности моих рук и ног, сжимается сердце от стыда за недостаток, к которому до этого я относился философски: разнонаправленность моих глаз. Каюта ощутимо наполняется ее эдемским природным ароматом и чуть слышным убийственным шелестом ее подола.
Капитан стоял сгорбившись и попыхивал трубкой, особенно безобразный рядом с дочерью.
– Августа, – промямлил он, – это Джонатан Апчерч, он будет твоим учителем.
Старик Иеремия, казалось, прислушивался к чему-то у себя в душе, воздев в никуда незрячие очи. Одной рукой он поддерживал капитана, обнимая его за плечи.
– Рада с вами познакомиться, – проговорила Августа и не то потрепала, не то погладила по голове пса движением, исполненным такой невинности, что сразу проснулась моя мужская плоть.
Мне ничего не оставалось теперь, как взглянуть ей в лицо. Она присела в едва заметном реверансе и подарила мне свою умопомрачительную улыбку. Я не в состоянии был в ту минуту ни о чем думать, я мог только поклониться, неловко, как школьник, продекламировавший стихотворение, но позже я употребил немало часов – вернее будет сказать, недель – на обдумывание этого реверанса и этой улыбки. Лежа на койке с широко открытыми, но слепыми, как у Иеремии, глазами или верхом на рее машинально сжимая рукой шкаторину паруса или канат, я снова и снова вызывал перед своим мысленным взором этот соблазнительный образ и мучительно искал, в чем его тайна. Немного озорства, быть может, словно она уже воспользовалась своим неоспоримым школярским правом дразнить учителя; но это не все; было и еще что-то – некий намек на знакомство с такими явлениями, какие навеки сокрыты от человека с моими мозгами. Однако же улыбка ее была доброй, думалось мне, будто она одним взглядом определила все мои недостатки – даже погребенные на самом дне моей души – и легко, с готовностью мне Их простила. Но при этом еще в ее обращении была светская равнодушная любезность, словно слова отца случайно привели в действие механизм ее хороших манер. Благодаря тому общему направлению, которое приобрели мои мысли с тех пор, как мистер Ланселот принес мне Боэция (потом он еще давал мне труды Эдвардса и Спинозы о свободе воли), я склонен был рассматривать озорство Августы как необходимость, доброту – как свободу и светскую холодность – как слепую игру случая. Тогда все сразу становилось ясно как день. Но еще через минуту меня сокрушало сознание того, насколько все эти концепции бессильны объяснить тайну Августы.
Ей было семнадцать лет, по словам отца. У нее были смолянисто-черные, в цвет платья, волосы с огнистыми проблесками синевы, как вороново крыло. Волосы были густые, роскошные, хотя она скромно связывала их лентой. Лицом не так бела, как бледна, даже мертвенна, она производила на меня этим самое неожиданное действие: я боялся, я дрожал за нее, я горячо, страстно желал быть на страже подле нее, как ее огромный дог – хотя от вреда ли внешнего я хотел бы ее защитить или же от некоего мистического исчадия ее духа, я не имел ни малейшего понятия. Но самым прекрасным и самым загадочным в Августе были ее глаза. Они сияли серым, точно грозовые сумерки, и были больше, чем глаза газелей в стадах долины Нурьяхадской; и когда Августа приходила в возбуждение – от стихотворной ли строки, от небывалого заката, или когда спускали вельботы, или от более грозных страхов, затаившихся в глуби ее загадочной души, – красота их становилась неземной, иначе не скажешь; словно ее нежное, совершенное тело было лишь вместилищем некоего духа, снизошедшего, по Плотину, из иного, сумеречного мира посмотреть, что происходит у нас.
Капитан сказал:
– Ты бы в общих чертах объяснила мистеру Апчерчу, на чем ты остановилась, Августа.
Она опять присела: – Показать вам мои книги? – снова такая невинная, так ничего не ведающая о мире женщин и мужчин и жадном прибытке моей плоти, точно шестилетнее дитя.
– Да, это, пожалуй, было бы полезно, – согласился я.
– Тогда сюда, прошу вас.
Она улыбнулась – хитровато, подумалось мне, а может быть, с презрением к моей матросской одежке, и к матросскому духу, и к моему косому глазу. И пошла к своей двери. Я вместе с капитаном и Иеремией последовал за ней и за ее псом.
Тускло освещенная комната за дверью напоминала мне гостиную в каком-нибудь приличном доме на суше – только мебель, что потяжелее, принайтована к палубе, а к креслам – темно-синим, бархатным, насколько можно было разглядеть в полумраке, и с медными кнопками – тянулись цепи от переборок. Все четыре стены – сплошь в книжных шкафах, с промежутками для дверей и больших квадратных иллюминаторов, тоже завешанных тяжелым синим бархатом; две спермацетовые лампы цедили слабый свет, и еще между шкафов, почти неразличимый, висел сильно попорченный портрет мужчины, при усах и с безумным взглядом. Я хотел было подойти и получше рассмотреть его, но при первом же моем шаге Августа пропела трепетным голоском, в котором я, ей-богу, различил ноту настоящего испуга: «Ах, вот, пожалуйста, мистер Апчерч!» Я обернулся, и она сильно дрожащей рукой протянула мне том Овидия в старом кожаном переплете. Из глотки пса вырвалось глухое неуверенное рычание.
Испуганный, недоумевающий, я взял у нее книгу и открыл. Она стала мне объяснять, до какого места она успела пройти и в чем состоят ее трудности, а я делал вид, будто слушаю, тогда как в действительности все внимание мое поглощала происшедшая с ней удивительная перемена. Речь ее лилась бурным потоком, грудь вздымалась, серые глаза метали молнии, она не в силах была скрыть от меня дрожь своих пальцев. Я, хоть убейте, не представлял себе, чем мог так ее напугать, чем вообще один человек может так испугать другого. И от этого держался еще скованнее, еще робче. У меня возникло странное ощущение холода, словно мы очутились на грани многожды воспетой мистической «Запредельности». Реальным ли был ощущаемый мною холод или же это просто плод моего волнения – меня со всех сторон окружали книги о чудесах, духовидении и тому подобном, – я определить не мог. Но я сумел изобразить удовлетворение ее классическими познаниями, и мы перешли к арифметике. Она сразу же стала спокойнее. (Неужто это древний сластолюбец Овидий привел ее в такое смятение?) Я, обернувшись, кивнул капитану, что, мол, все обстоит так, как надо. Он успел, по-прежнему опираясь на Иеремию, несколько продвинуться вперед и стоял теперь так, что совершенно загораживал от меня картину. В ответ он опять странным образом, чуть надменно мне поклонился, но мне почудилось в полусвете, что он сильно побледнел. Однако я снова обратил, сколько мог, внимание на Августу, и вопрос о том, с какого места продолжить ее образование, был вскорости разрешен. Я задал ей урок на следующий день, и было условлено, что завтра под вечер явлюсь ее проверить. Покончив с делом, я снова почувствовал глубочайшее смущение. Она глядела на мой подбородок – за девятнадцать лет я привык к тому, что так смотрят на меня те, кто старается не видеть моего косого глаза. И вдруг она улыбнулась, на мгновение встретилась со мной взглядом и тут же посмотрела в сторону.
– Я ужасно вам признательна, мистер Апчерч.
Я тоже улыбнулся – одной вежливости мне бы для этого не хватило, я улыбнулся потому, что иначе было невозможно. Я был порабощен.
– Напротив, это я должен благодарить, – произнес я условную фигуру речи, над которой сам бы расхохотался, если бы не давешнее странное смятение и трепет Августы – она словно ждала от меня такой чинности, и я исполнил ее ожидание, исполнил не раздумывая, как самую естественную вещь на свете.
Потом я обратился к капитану и опять попытался при этом бросить взгляд на картину, но он помешал мне, шагнув расслабленно навстречу, и, нарочито не замечая моей протянутой руки, стал теснить меня к двери. В салоне он вдруг спохватился о чем-то, попросил извинения и, все так же поддерживаемый слепцом, ушел обратно – сказать несколько слов дочери. Вернулся он рассеянный и хмурый и, как показалось мне, все еще мертвенно бледный и, попыхивая трубкой и глядя в пол, вяло объяснил мне, что мое появление на китобойце – редкостная удача. Затем с помощью Иеремии вывел, вернее, мягко вытолкал меня на мостик. Здесь, сам оставаясь в тени на пороге каюты, он еще мгновение задержал на мне взгляд – его глаза казались настолько же мертвыми, насколько глаза его дочери неестественно живыми, – и, на минуту замешкавшись, проговорил:
– Я ценю вашу воспитанность, мистер Апчерч. Я отлично понимаю, как странно видеть молодую девицу на борту китобойца, не говоря уж о моих… – Он неопределенно повел рукой, подразумевая то ли свои немощи, то ли еще что, и вяло заключил: – Я ценю вашу сдержанность и ваш такт.
– Спасибо, сэр, – ответил я.
Он словно не услышал меня. Видно, думал о другом – у него ведь свои старые, привычные заботы: недовольство матросов, быть может, или какие-нибудь неприятности на далекой планете, откуда он сюда явился. Я вдруг понял, как хитро он отрезал мне всякую возможность задавать вопросы о тайнах судна.
– Вы успели подружиться с кем-нибудь из команды? – спросил он.
– О да, сэр. – Я кивнул.
Он смотрел на меня, зажав бороду в кулак и наклонив вперед голову, до удивления похожий на большого, горбатого черного медведя; меня даже дрожь пробрала. Глаза его стали совсем неподвижны, в них мерцало убийство, так чудилось мне.
– Молодец, – проговорил он в конце концов. – Возможно, в этом мире все имеет свое назначение. Но не теряйте бдительности.
– Не буду, сэр, – ответил я озадаченно.
Слепец Иеремия за спиной капитана кивнул мне в знак того, что капитана Заупокоя больше не следует утруждать.
– Доброй ночи, сэр, – сказал я.
Капитан не ответил. Он успел забыть о моем существовании и завел глаза в подбровье, чтобы взглянуть на небо. Руки его в черных шелковых перчатках все еще покоились на бороде, огромное бессильное тело повисло на Иеремии, точно жизнь совсем покинула его.
На следующий вечер, когда я явился выслушать урок у моей ученицы, капитан спал непробудным сном у себя на койке – я видел его через дверь. Он ужасно храпел. Слепца Иеремии нигде не было видно. Портрет, который они не дали мне рассмотреть, исчез.
XV
– Ну и россказни! – восклицает гость, взорвавшись смехом. – Ей-богу, фейерверкам Шахразады до них далеко!
– Вы находите? – оживляется мореход.
Но ангел бездумно уставился в окно. Леса потемнели. В верхушках деревьев копошатся вороны, и даже в корчму проникли запахи осени. Пустоглазые мертвецы спохватились и снова тащатся по своим делам. Бесшумно пересекают они овечий выгон.
Мореход видит, куда смотрит ангел, и трезвеет.
– Закруглиться, конечно, всегда проще, чем продолжать, – говорит он. – Сколько еще мертвых штилей надо переплыть, если говорить честно, сколько скучных препятствий одолеть.
– Это верно, не спорю, – соглашается гость. Он вдруг обеспокоенно смотрит на часы. Но здесь еще время раннее. Так он себя успокаивает. И утверждается в принятом решении. – Будем делать свое дело, нам выбирать не приходится. – Он сурово покашливает. Вид у гостя положительный, надежный. Он старается откашляться погромче. И, положив ладонь на рукав морехода, другой рукой стучит по стулу – стук-стук.
– Эй, ты, с крыльями, – неси сюда спиритического!
Ангел торопливо встает, машинально прячет трубку в карман, где она продолжает куриться, выходит и сразу же возвращается с бутылкой. Гость и мореход склоняются над столом, серьезные, как черти, но улыбаются, надеются, тщатся понять. Ангел разливает.
XVI
Так началась эра моего радостного рабства. Ни рейки, ни лоскута парусины не осталось от моей хваленой независимости – от младенческой дурости, как я называл ее теперь; нарядный и напудренный, точно нью-йоркский паж, разодетый в пух и прах, точно француз на прогулке. Куда ни обращалась моя мысль, мир сразу наполнялся сладостной надеждой и дышал благоуханиями, как жилище Августы. Задним числом я испытывал теперь глубочайшее уважение к преподобному Дункелю, словно это его проповеди над угольным погребом пронесли по волнам из пучины хаоса и раскрыли для вселенной, лепесток за лепестком, Истинного Браму. «Порядок»! Да, да, теперь это слово и для меня звучало фанфарами славы. Никто не знает, каким целям в великой, но неведомой нам программе Провидения служат самые пустяковые события. Теперь я благодарил бога за то, что он в один прекрасный вечер свел меня с пиратами, а потом едва не утопил в океане, и переломал мне ребра, и заморочил мне голову латынью, и загнал меня на верхушку мачты, откуда я… Цель этого последнего шага была не совсем понятна, очевидно, планы бога на мой счет открылись еще не во всех подробностях; но меня это обстоятельство не особенно смущало. Общий замысел был ясен и ослепительно благословен!
Когда я заговорил об Августе с Билли Муром, он был потрясен.
– Быть не может, – сказал он. – Да провалиться мне на этом месте, нет у нас здесь никакой женщины. Не иначе, как ты снова взялся россказнями воду мутить.
И хотя он при этом посмеивался, вид у него был хитрый, как у Эбенезера Фрая на ярмарке, когда он подозревает, что его хотят одурачить.
– Думай что хочешь, – говорю я. – А я что знаю, то знаю. И все.
За спиной у нас, за низким верстаком, работал – или прикидывался, будто работает, – Уилкинс, скрючившись, как обезьяна, чуть не уткнув лицо в расползшиеся пружины. С каждым днем, что он трудился над этими развинченными частями, они все меньше походили на часы, но и ни на что другое похожими не становились.
– И капитан, ты говоришь, утверждает, будто это его дочь? – переспрашивает Билли Мур.
– Так он ее представил, – отвечаю и знай себе навожу блеск на свои штиблеты.
– Ну, лопни мои глаза, – бормочет он и трясет головой, не переставая ухмыляться.
Он окликает Уилкинса – можно подумать, будто они закадычные друзья:
– Слыхал, Уилкинс, что наш пират теперь выдумал?
Уилкинс подымает от верстака злобную жабью рожу, жабий рот приоткрыт, глазки – как фонарики за шторками.
– У, он хитер, наш Джонатан Апчерч, – говорит Уилкинс и подмигивает мне. Отверткой для крохотных, как блошиные гниды, винтиков служит ему обоюдоострый шестидюймовый кинжал, и он лежит в его лапе легкий как перышко. – Он добром не кончит, помяните мое слово. – И Уилкинс подмигивает мне еще раз. – Не иначе, как он затеял какое-то мошенничество, или же я – не я, а криволапый альбатрос.
– Опиши нам, какая она из себя, – говорит Билли Мур.
Я выполняю его просьбу, насколько это в моих силах, – ведь я и сам ее не видел, только один раз при свете звезд и дважды в полутьме каюты. Я говорю, и на лице Билли выражается все более глубокое изумление. Наконец он меня прерывает, ударяя кулаками по своим могучим ляжкам.
– Ей-богу, чем больше я смотрю на тебя, Джонни, тем больше сомневаюсь, что ты вправду был когда-нибудь пиратом. Расписал нам капитанскую дочку, ну тютелька в тютельку! Да я сам ее видел – только не на борту, понятное дело.
– У тебя лишней шляпы не найдется? – спрашиваю я.
– Ха-ха! – смеется Билли Мур, глядя, как я оглаживаю бархоткой носы штиблет.
Если он еще не вполне мне поверил, то вина тут не столько его, сколько моя, признаюсь. При всем благом влиянии Августы я был недаром сын своего отца – неисправимого выдумщика, ловкача и карточного фокусника, – чтобы все у меня было просто и ясно. Есть для некоторых особое наслаждение в том, чтобы спрятать за подтяжку запасную карту. (Даже брехун Дункель и тот сознавал это, когда говорил мне, что вещи, доступные нашему пониманию, не суть важны.) То, что я рассказал Билли Муру, была чистая правда, но нечто в глубине моей души – некая мудрость, быть может, древняя, как девонская рыба, – побудило меня вставить эту правду, как в рамку, в кривую пиратскую ухмылку Благочестивого Джона. Каждый из нас в сей юдоли слез утверждает, что ищет клад с ослепительной истиной, со звонкими дублонами определенности; однако утверждение это, как и все во вселенной, – обман, мошенничество, хитрая уловка для того, чтобы перехитрить нечистых на руку богов.
Но с капитанской дочкой, в отличие от простых смертных, я тем не менее собирался быть честным, как чистое стеклышко. Потому я ночами накручивал себе на пальцы локоны и наващивал их до блеска, и чистил зубы, покуда они не засверкают, не заискрятся, будто гавайские жемчужины, и следил за тем, чтобы с уст моих не сорвалось ни полслова, неуместных на заседании синода. Вот вам честность в добром старом смысле слова – золотая обманка из Платона и Библии (в изложении журналов для юных девиц)! Короче говоря, я был влюблен. И безотчетно хитрил, послушный инстинкту, как павлин, который вдруг разворачивает во всем блеске хвост, обычно тянущийся за ним колбасой по земле. И в точности как павлин или прихорашивающаяся мышь, я сам был введен в заблуждение собственными моими ужимками – и Августиными тоже.
Занимаясь с нею чуть не каждый вечер, я постепенно перестал так остро воспринимать то, чем был потрясен вначале – ее несравненную красоту. Как и с прочими корабельными темными тайнами, я свыкся через какое-то время с ее красотой и уже почти не замечал ее, как не замечает богач своих сокровищ. Вернее, замечал, но лишь тогда, когда в Августе вдруг проглядывала ее, как я считал, «истинная природа».
Обычно Августа была само воплощение девственного простодушия и доброты. Она с улыбкой склонялась над работой и радовалась жизни, радовалась урокам, и мирному волнению моря, и моему присутствию. В розовых лучах солнца, пронизывавших шторы и цветные стекла иллюминаторов и вспыхивавших новым светом на ее смолянистых волосах, с бледным открытым лицом, исполненным невинности и безмятежного спокойствия, она приводила мне на ум средневековый образ девы Марии – не утоляющую печали заступницу отверженных, но живое человеческое существо, сбывшийся идеал во плоти и крови. В такие минуты я наслаждался ее сообразительностью, ее удивительной способностью добираться до самой сути сложных философских проблем, которые смутили бы женщину раза в три старше; наслаждался ее здоровыми реакциями, ее умением, например, писать стихи, верно передающие ее ощущения и стоящие на грани между недооценкой и переоценкой роли эмоций в общем миропорядке. И мне неважно было, что это я поставил перед нею философскую проблему, я обучил ее поэтическим приемам свободного и правдивого отражения в стихах ее душевного облика. Мое удовлетворение исходило из той чистой Правды, которую я помог ей достичь, которая относилась и к нам обоим и останется, когда нас обоих уже не будет.
Над сочинением стихов она корпела часами, так что я уже стал беспокоиться, как бы ее отец не разгневался на меня за то, что я допускал это в ущерб другим занятиям. В стихотворчестве она была не просто прилежна. Казалось, с нечеловеческим усердием свивая изощренную сеть из сознательного выбора и колдовства, она пыталась ею оградить себя от врага, о чьем близком присутствии свидетельствовали ее мертвенно-бледные щеки. Движимая безотчетной мудростью слабейших, она стремилась ухватиться за добро, назвать его истинную, не условную цену и поднять над собой ради спасения, точно крест против нечистой силы. Она дала мне, например, вот это любопытное стихотворение, протянула с кроткой улыбкой и с такими словами:
– Вот вам грустный любовный стишок, Джонатан.
Назывался он «Призыв».
Отзвучит погребальный звон,
И умершей девы дух
На земной возвратится круг,
Как тихий осенний свет,
Обратится память в гранит,
И складки каменных слов
Оденут ту,
Которая спит.
– Красиво, – сказал я.
Она улыбнулась искушенной улыбкой, и едва заметный румянец тронул ее щеки. Так она сидела, разглядывая свои бледные ладони на коленях, и улыбалась.
– Благодарю, – промолвила она.
И в этот миг моя девственница преобразилась в средневековую Еву. Она ведь сказала – любовный стишок. И называется «Призыв». Теперь покраснел я. Августа же опять была такой, как прежде, вся – воплощенная невинность, только глаза затуманились и чуть повлажнели губы. Руки она сложила на животе, так что натянулась ткань кофты, вызывающе подставляя взору груди. «Бесстыдница!» – сказали бы по этому поводу в «Наперснике благородных девиц». Да только почтенным дамам и докторам богословия, печатающимся в подобных журналах, не пришлось бы особенно надрываться, не будь соблазнительница Ева такое же чудо, такая же тайна, как и Святая Девственница.
Но бывали минуты, когда дурные черты в характере Августы могли сыграть с ее благородными свойствами зловредные шутки. Как-то вечером, сидя бок о бок за ее черным столиком, мы с ней читали стихи Крэшоу. Морда пса была у самых наших ног. И вдруг, глядя на меня блестящими невинными глазами, она сказала, что горячая религиозность Крэшоу и простота его зрительных образов вдохновили и ее написать стишок в такой же искренней и сердечной манере. Я спросил:
– Можно мне прочитать?
– Он очень короткий, – был ее ответ.
– Дайте посмотреть.
Она колебалась.
– Лучше я сама вам его прочту, – сказала она. – Он довольно неважно получился.
Великолепным усилием воли она придала своему лицу – кроме сияющих глаз – выражение ангельской кротости. Набрала полную грудь воздуха, поднесла к сердцу сложенные щепотью пальцы и продекламировала:
Млеко нашего обеда
Не киснет в полных сосцах Его,
Ожидая свершенья обета,
Мы сосем и поем о дарах Его.
Она кончила, раскрасневшись, взглянула на меня и при виде моего смущения вдруг расхохоталась, раскованно, роскошно. То был смех женщины гораздо более взрослой, более опытной, чем Августа.
Я сжал руки, уязвленный до глубины души.
– Интересная рифма «обеда» и «обета», – заметил я. Как мне ни было трудно, я оставался сыном своего отца, хитроумным до последнего вздоха.
– Я так и думала, что вам понравится.
Она прикоснулась к моему рукаву так ласково, по-детски. Меня словно током ударило от ее прикосновения, и в ту же секунду я понял, что она заранее, как на сцене, рассчитала этот жест – быть может, даже стихи сочинила нарочно ради него. Наверно, у меня расширились зрачки. Она покраснела и убрала руку, поняв, что попалась.
– Простите меня, – тревожно, шепотом попросила она.
И вдруг заплакала, и я сразу уверился, что все это неправда, что стыд и позор мне так думать, хотя мгновение назад не сомневался в своей правоте. Она неплохо знала Библию, ее отец был один из самых религиозных капитанов, плававших по океанским просторам. Поэтому она поспешно вскочила из-за стола, убежала в дальний угол и стала там ко мне спиной. При мысли о том, какого классического дурака я свалял, мне захотелось засмеяться, но уже в следующее мгновение я готов был проливать слезы. Ее горе открылось мне как горе и стыд всей ищущей женской молодости, а эта комическая мелодрама, такая древняя и от нашей воли не зависящая, поразила меня своей вопиющей несправедливостью, я увидел в ней безжалостную и безвкусную шутку пресытившейся вселенной. Смущенно кусая губы, я поднялся и сделал несколько шагов в направлении того угла, где стояла она. Когда между нами оставалось пять футов – и пес, – я остановился и протянул к ней руку через его голову.
– Августа, не могу передать, до чего мне жаль… – начал я.
Она молчала, спрятав лицо в ладони. Я придвинулся еще ближе.
– Бедное мое, милое дитя, – продолжал я. – Если каким-нибудь образом я…
Она резко обернулась, лицо ее выразило негодование. Пес в страхе шарахнулся прочь.
– Джонатан Апчерч! Не смейте меня так называть, слышите?
По щекам ее струились слезы, губки дрожали.
– Как называть? – удивился я.
– И я требую, чтобы вы извинились.
– За что?
– За все!
Я тут же, опасаясь худшего, попросил прощения.
– Пожмем тогда друг другу руки, – сказала она.
Мне показалось, что она смотрит уже не так свирепо и, если я попробую ее убедить… Однако на всякий случай я протянул ей руку. Она взяла ее в свою и решительно тряхнула. У меня мелькнуло летучее и, разумеется, совершенно неправдоподобное подозрение, что, несмотря на настоящие слезы – безжалостная соблазнительница и колдунья, – она втайне злорадно упивается грозовым могуществом своих дурацких капризов. Кончив трясти мою руку, она спросила:
– Теперь мы снова друзья?
– Друзья, – ответил я, улыбаясь и косясь на милую собачку.
– Ну и хорошо. Тогда можете поцеловать меня.
Я изумленно отпрянул.
– Августа!
– Джо-на-тан.
Но где-то всему должен быть предел.
– Августа, вы всего только семнадцатилетнее дитя, а я ваш наставник, что возлагает на меня ответственность за ваше интеллектуальное и нравственное….
– Больше в жизни никогда ни о чем таком не попрошу. Вот честное слово, Джонатан!
– Мистер Апчерч, – поправил ее я.
– Ну мистер Апчерч… – Она улыбалась, словно это она меня прощала.
Ничего не поделаешь. Я вздохнул и поцеловал ее, метя в щеку. Но такую, как Августа, не проведешь.
Где-то я читал, вспомнилось мне, когда ее руки обвили мне шею, что поцелуи нередко бывают причиной инфарктов.
В ту ночь я не сомкнул глаз. И в следующую тоже.
Как обычно в таких случаях, насколько я понимаю, любовь со всеми ее осложнениями одолевала меня вдали от моего предмета нисколько не меньше, чем в его присутствии. При ней я был рабом запахов и звуков, всегда каких-то загадочных, многозначительных знаков, неуловимых простым, ничтожным глазом. Вдали от нее становился жертвой собственного воображения, неотступного обморочного помешательства. Стоя у борта и глядя на колеблющееся лоно вод, я тщетно пытался понять, что со мной происходит. Один поцелуй – и я сгорел, погиб, не в состоянии был больше ни думать, ни грезить ни о чем, кроме Августы, даже высоко на мачте, где предпочтительно было не забывать о своем положении относительно вечности. И ветер, и море, и качание судна – все было Она. Она была сладостная, невыразимая, всеохватывающая истина, в которой тонули узколобые суждения Платона и Плотина, Локка, Юма, и Ньютона. Часы без нее тянулись и гнули меня, как ненужная ноша, испытывающая мое терпение.
На слове «терпение» я споткнулся. Оно было из лексикона преподобного Дункеля и означало теневую сторону «Порядка». Наморщив лоб, я всматривался в полночную даль океана. Мир, назначенный мне, чтобы я терпел его без Августы – звезды, черная вода, – оказался полон жизни, которой я не замечал в нем прежде. Он был ее двойником, ее продолжением. Когда-то я наглядно вообразил, как буду падать, рассекая воздух, с верхушки мачты вниз, – теперь я мог безопасно позволить своему воображению играть с другими образами – представить себе, как я мирно, даже радостно тону, погружаюсь в воду, в мою родную, братскую стихию. Так, вспомнилось мне, в лунном сиянии, безмолвные, как лисы, идут по лесу индейцы, и души их слиты воедино с черной чащей.
А внизу подо мной раздавалось невольничье пение. И рабы тоже были Августой, не демоническим началом, а лишь частью всеобъемлющего целого, их усталость, их озлобление составляли какую-то сторону ее многогранного характера и заслуживали такого же благоговения, как и девственная доброта, венчающая всю сложную структуру. Ее светлая, совершенная поэзия, думал я, была бы невозможна без этой темной, зловещей музыки глубин. Чтобы достичь таких высот духа, потребна полнейшая, ничем не стесненная праздность. Без рабовладельчества не было бы Гомера, Перикла и тысячи одного образа богини Сострадания, украшающих храм в Киото. Что такое египетские пирамиды, и сочинения Аристотеля, и трехсотвосьмитонная статуя Будды в Наре, как не гимны труду рабов в прямом или переносном смысле? Пусть Августа обладает врожденной гениальностью, рассуждал я, но ведь ее стихи – это не просто пернатого жильца дубрав златые трели. Всю свою жизнь она читала – располагала досугом, чтобы читать, – первоклассную поэзию. Значит, свобода воли не такая простая вещь, как я воображал. Она зиждется на рабстве точно так же, как дух расцветает питаемый, смятенной, страждущей плотью – трепетной зеленью, если верить пражским экспериментам, о которых говорил мистер Ланселот. И все мы – рабы либо бессмысленной природной силы приливов и штормовых южных ветров, либо же какой-нибудь человеческой многозначительной идеи, вроде той тайной, до сих пор от меня сокрытой цели, что преследует китобоец «Иерусалим». И может быть даже, в конечном счете они сводятся к одному, ибо и то и другое – бури и течения всеведущего Духа, перст архангела в вихре события. Будем надеяться мы, метафизики, что так оно и есть. Лучше универсальная система зла, нежели беспочвенное бессистемное добро, болтающееся, как цветок в проруби.
На следующий день я отправился к ней с утра, много раньше назначенного часа – капитан спал, недвижный, как мертвец, – и, хотя она была заметно взволнована и смущена (она притворилась, будто рисовала, когда я постучал, а на самом деле, конечно же, была занята другим), я навязал ей разговор. Чтобы лучше разглядеть рисунок, над которым она якобы трудилась (фантастические цветы), я склонился к ней и, захваченный врасплох легким веянием духо́в, не выдержал и поцеловал ее. Мгновение она упиралась, потом ответила на мой поцелуй со всем пылом молодой души и потянулась ко мне, поднимаясь со стула. Теряя голову, я сжал ее в объятиях. Но у порога раздались шаги, и тогда в страхе я, вдохновленный, без сомнения, каким-то добрым ангелом, схватил первую попавшуюся стопку книг и обратился в бегство.








