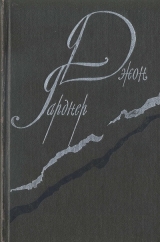
Текст книги "Никелевая гора. Королевский гамбит. Рассказы"
Автор книги: Джон Чамплин Гарднер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 32 страниц)
Он по-обезьяньи прытко вскарабкался выше и, выдыхая клубы пара, перебрался по рее к следующему пострадавшему штагу.
– Так ты раскаиваешься, что дал клятву, Билли?
– Я об этом не думаю. Не позволяю себе думать. Фаталист я, понятно? Ты вот лучше на Уилкинса посмотри. Его в ту ночь не было среди нас, он никогда раньше не плавал с Заупокоем. Но о нашем уговоре слыхал. Да что там он – весь Нантакет слыхал. «Клятвы для дураков и психов» – это Уилкинс так говорит. Капитану ведь не удалось собрать команду, он ее докомплектовал рабами – а это уж последнее дело, на Уилкинсов взгляд. И раз капитан смухлевал, значит, уговору конец. Вот как Уилкинс рассуждает. И мистер Ланселот, можно сказать, одного с ним мнения. Его бы спросить, так он бы все честь по чести поставил на голосование и первым вопросом: вправду ли существовала та картина или примерещилась. Обе картины…
– Какая-то картина погубила, можно сказать, целое судно.
– А может, и нет. Может, просто время такое нам подошло – плыть к черту в зубы, пусть там рабы, не рабы, и даже с капитанской дочкой на борту – ведь женщина на борту нам не больше по сердцу, чем рабы в трюме. Вот и поплыли. И ничего с нами не случилось. Тогда мы вернулись к китобойному промыслу, стали снова гарпунить и разделывать физическую суть вещей, отложив покуда свою потустороннюю цель; и промышляли успешно – наполнили ворванью и спермацетом всю тару на корабле, как и рассчитывал капитан – и просчитался. Надо увлечь, отвлечь их, вот что у него было в мыслях. Пусть силушка по жилушкам бежит! Так мы приплыли сюда во второй раз – и опять ничего! И снова взялись промышлять китов. Кое-кто на борту стал выражать недовольство капитанской великой целью. С тех пор как мы, будто равные, сидели все вместе у капитана в большом доме, прошло изрядно времени. И с каждым днем мы, понятно, становились все менее и менее равными. Трюм наполнялся. Все мы – кто больше, кто меньше – это примечали. Самое было время повернуть домой, и каждый получил бы на берегу свое небольшое богатство, тем более что рабам-то не причиталось вообще ничего, меньше даже, чем достается простым матросам после того, как судовладельцы и офицеры отхватили свою львиную долю. Пошли разговоры, что все это обман. В том духе, что, мол, мы собирались совершить нечто Великое – употребить великую силу для великой цели, и как можно скорее, – совершить нечто и заплатить за это страшную цену, как Иисус Христос. Но величие нашего дела словно иссякло, я бы так сказал, Джонни. От общей мечты осталась только мечта капитана. Наша цель переродилась, как случается со всякой отдаленной целью, ведь все в природе подвержено изменениям. Великий успех слишком долго оставался недостижим, и цена стала казаться нам непомерной – в счет него мы ведь поплатились свободой, правом каждому быть самим собой, а не винтиком в большой машине, что-то там такое вырабатывающей, до чего никому из нас нет дела.
Я бы мог задать несколько вопросов. Я спросил:
– Ты говорил об этом с капитаном?
Он улыбнулся и печально кивнул.
– Но у капитана все книги на руках.
– Книги?
– Книги, карты, теории – все одно. С ним поспоришь – останешься в дураках. Братва стала рассуждать так: значит, ребята, больше никаких разумных доводов! Одна слепая вера. Нелогично? Тем лучше!
– Ты, я вижу, наслушался недовольных.
Он улыбнулся.
– И они меня наслушались тоже.
– А капитан Заупокой это знает?
– Все знают.
Его улыбка вдруг напомнила мне, как он мне когда-то советовал держать в уме ту грань, за которой – ничто. Видно было, что он сейчас находится за гранью. Но я чувствовал, что у меня есть и более веские причины для беспокойства.
– А хорошо ли ты рассмотрел в ту ночь капитанскую дочку?
– Вроде она была с нами почти все время – возилась на кухне. А может, потом ушла спать. Помню только, что она нам приносила суп.
– Значит, ты только видел ее, когда она принесла суп да еще когда выглянула в дверь и состроила гримасу мистеру Ланселоту?
Я думаю, раза два-три она нам показывалась.
Такого ответа я и опасался.
Позже мистер Ланселот говорил мне в полумраке кубрика, твердо глядя перед собой:
– Одно могу вам сказать, мистер Апчерч. В этот портрет-призрак не надо было верить. Кто выудил его из моря, должен был бы в тот же день и сжечь. Есть такие вещи, которые не нашего ума дело. Мир создан так, что у нас и здесь забот хватает. От нас требуется только одно: чтобы мы понимали явления физического мира. Вопросы, которыми занимается это дьявольское Общество…
– А по-моему, – перебил я, – оба портрета относятся к области естественной механики.
У него заходила нижняя челюсть, четче обозначились две борозды у рта.
– Да, мы рискуем, – проговорил он. – Рискуем скатиться к утверждению механистичности мира, поскольку иначе его не изучишь… – Он сурово кивнул. – Это большой риск. Да, да.
Судно роптало. Билли Мур качал головой, глядя на море.
– Три причины приведут нас к погибели.
Матросы молчали, прислушиваясь к его словам.
Пели рабы в трюме. Из глубин им отзывались еще более странные, более темные голоса.
Позднее, когда настала ночь (настала бы в иных широтах), закончив ежедневный урок, я вышел с Августой на ют и мы поговорили.
– Джонатан, ты бы все равно не поверил, если бы я сказала тебе правду. Прошу тебя, не спрашивай. Умоляю.
Ее рука нежно лежала на моей руке.
Но я молчал холодно, точно айсберг, и ждал. Ледовитый ветер принес с собой дивные запахи, ароматы спелых полей, а ведь мы плыли в тысяче миль от обитаемой земли. Августа стояла бледная, похолодевшая не только от дыхания ветра. Она решилась, я видел по ее трепету, но много ли она решилась мне открыть, угадать наперед я не мог. От стужи она стала еще прекраснее прежнего, смолянисто-черные волосы колыхались в ледяном дыхании ветра вокруг ее бледного-бледного лица в обрамлении мертвенно-недвижного мира. Казалось, еще мгновение – и заиграет органная музыка.
Она пристально посмотрела мне в лицо, глаза ее заметно расширились, губы приоткрылись. Все это делалось нарочито, профессионально. Она еще раз глубоко вздохнула и, опустив веки, крепче стиснула пальцами мое запястье.
– О, Джонатан, – выдохнула она.
На палубе под нами старый Иеремия поднял на нас незрячие глаза. Но не потому, что он подслушивал, воздев кверху невзрачное бородатое слепое лицо, сорвался с ее уст этот возглас. Неужто честность вовсе неведома моей маленькой собеседнице – мелькнуло у меня в мозгу. Неужто невинность, которую я в ней чувствовал, служила лишь свидетельством ее листригонского мастерства? Она взяла мои руки, положила себе на талию, сама положила руку мне на бедро, а другой обхватила меня сзади. Так мы постояли мгновение. И я обнял и прижал ее к себе, натянутый, как струна, объятый желанием и подозрением, теряя, как обычно, душу.
Потом Августа спокойно проговорила, и голос ее странно прозвенел:
– Джонатан, поверь, если можешь, что существует такой корабль – корабль призраков под названием «Иерусалим».
Я ждал, скосив глаза.
– Его многие встречали на разных широтах. – Она отвернула голову и посмотрела в даль моря. И словно бы издалека, словно медиум, дитя потусторонних областей, продолжала: – Он появляется время от времени вот уже несколько лет. И всегда мой отец, и ты, и я, и все мы… С тем судном связана какая-то трагическая тайна. Есть одна картина… мне запрещено показывать ее тебе… Она – единственное, что осталось от кораблекрушения, которое произошло вблизи Невидимых островов, где за сто лет до того… Но картина… картина… – У нее перехватило дыхание, словно бы от страха перед тем, что она собирается сказать. Она дрожала, прикусив нижнюю губку. Чтобы успокоить, я, не глядя, крепче прижал ее к себе. – Это портрет одного знаменитого артиста. Человека по фамилии Флинт. – Она потупилась. – О, Джонатан, – прошептала Августа. Ее била сильная дрожь.
Я сказал:
– Ты повесила его портрет у себя в комнате, Августа? Ты каждый божий день глядела на этого инфернального урода и так притерпелась к его злодейству, что даже позабыла его спрятать, когда я в первый раз пришел для переговоров?
Я почувствовал, как она вся напряглась, задрожала точно натянутая струна. Но ответила она так:
– Я на него даже не смотрела, Джонатан. Незачем было. Он запечатлелся у меня в глазах, точно пятно на сетчатке, и виделся мне всюду, куда ни взгляну. Мы держали его на стене, потому что надо было научиться с этим жить, ведь мы…
Выражение внезапного ужаса в чертах ее застывшего лица побудило меня резко обернуться. Не отпуская ее, я поглядел назад – в десяти шагах от нас стоял капитан, фигура, материализовавшаяся из Ниоткуда. Просто стоял, сгорбленный и безмолвный, как неживой, и разглядывал носки своих башмаков. Сердце у меня бешено стучало, но я сказал:
– Рассказывай дальше.
– Мы здесь, чтобы найти его, Джонатан.
– Но ведь он давно утонул. И портрет, и корабль…
Не отводя безумного взгляда от неподвижной старческой фигуры, переполненная страхом – а может, это был дикий, буйный восторг, – Августа повторила:
– Мы здесь, чтобы найти его, встретиться с ним, понять его, если возможно, понять… все.
Кругом нас, повсюду, стоял запах суши, осязаемый, живой; зеленые деревья тянули к нам ветви через тысячу миль водной глади, неколебимой, как мегалитическая дверь, как слепой каменный глаз во мраке. Мир потяжелел. Корабль низко сидел в воде – большое черное надгробие убитому киту.
Я спросил:
– Многие ли на судне знают о вашей дели?
– Одни офицеры, конечно.
– И, вы думаете, они одобряют?
Она ответила не сразу, все так же дрожа и крепко сжимая пальцами мои запястья. Выражение страха и восторга не покинуло ее лица.
– Джонатан, доверься мне. Доверься нам, мне и отцу. Верь в нас!
Она закинула голову, словно старалась изобразить деревянную древнюю статую какой-то святой.
Я молчал.
– Верь в нас! – шепотом. Голова вскинута, а сама следит за мной из-под приспущенных век. Вся – напряжение, вся – страх: а вдруг все-таки не поверю? Ну, и я не выдержал в конце концов, кивнул. Слепой Иеремия подбрел к нам ближе.
Капитан позвал: «Августа!»
Она рванулась было к нему, потом нерешительно остановилась и вдруг, как бы в дерзком порыве, поцеловала меня в губы. Отпрянула она разрумянившаяся, трепещущая, чуть не в обмороке. Я поддержал ее, потом отпустил, и она с закрытыми глазами пошла к своему отцу, ступая медленно и нетвердо, словно еле живая, словно она от страха, от собственного предательства вдруг сделалась совсем больна. Взяла отца под руку. И, слегка обернувшись и приложив пальцы щепотью к сердцу, проговорила:
– Джонатан! Божья воля неотвратима!
Я стоял один, потрясенный. Пение рабов в трюме доносилось тихим и ровным гудением, будто храп какого-то зверя, пробуждающегося от вековой спячки. Я поспешил в кубрик прямо к тайнику в переборке.
В «Величайших негодяях мира» я нашел ее портрет – я так и знал, что найду, хотя в книге она еще не выкрасила свои золотистые волосы и не придала своим чертам жалостного выражения подсадной капитанской дочки, на которую я попался. Она была Миранда Флинт, единственное чадо гнусно-прославленного доктора Лютера Флинта, мага, гипнотизера и экстраординарного профессора шарлатанства, известного повсюду от Шанхая до Джоплина (штат Миссури), где он родился (и Миранда тоже), своими фокусами, как приятными, так и зловредными. Вот почему старый Заупокой так заволновался, когда узнал через Уилкинса, что якобы я раньше жил на берегах великой реки. Что ж, приходилось отдать ему должное. Даже теперь, зная, я едва мог поверить, что под этой личиной скрывается блистательный Флинт.
А когда я перевернул страницу, меня ожидал еще один сюрприз. Там был изображен Августин черный ньюфаундленд, чудо-пес, а против него сидел «Свами Хавананда», Флинтов ассистент, изобретатель иллюзий, аккомпаниатор, персональный телохранитель и головорез. И это был Уилкинс.
История их шайки, если верить книге, кого угодно привела бы в дрожь. Они были безродные бродяги и маниакальные мошенники, просто одержимые какие-то. Флинт, может быть, и заслуживал славы первейшего иллюзиониста на аренах мира, но его пожирала страсть морочить всех и вся. Кролик в шляпе, женщина, поднятая в воздух силой левитации, дитя, окаменевшее в гипнотическом сне, хоть гвозди в него забивай, – все это лишь камешки в окно его необузданного эгоизма. Нет, ему надо обчищать божьи храмы, обставлять многоопытных мудрых банкиров на целые состояния; ему надо угнать корабль, принадлежавший отчаянным кровожадным пиратам Китайского залива, а вскоре вслед за тем выкрасть золотую, усыпанную изумрудами корону шведского короля. Настоящее его местонахождение, говорилось в книге, последние несколько лет неизвестно.
Итак, теперь я знал все – вернее, так я думал. Вопрос в том, что я могу со всем этим поделать? Ибо, как верно то, что ее зовут Миранда Флинт, и то, что кинжал в горле матроса был не чей-нибудь, а именно Мирандин, – так же верно и то, что эту беспощадную хищницу я любил всю мою жизнь.
– Э, ладно, – промолвил гигантский, наполовину невидимый голубь и печально мотнул головой, – глядишь, еще чего-нибудь и вытанцуется.
– Никогда, – горько ответил я и захлопнул книгу.
На следующее утро Билли Мура подвергли порке за подстрекательство к мятежу. Кнутом орудовал, страдая, мистер Ланселот. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» – прошамкал старый капитан Заупокой, глядя себе под ноги. Лицо Иеремии было белым, слепые глаза распахнуты. «Раскайся, капитан Заупокой! Небеса отвратили лицо свое! Заклинаю тебя!»
В обед начался мятеж.
XXII
– Мятеж, говорите? – спрашивает гость. Ему не по себе.
Старый мореход смущен. Он и сам понимает, что хватил лишку – рассказ чересчур растянулся и слишком закручен и сумбурен для приятного вечернего времяпрепровождения. Мертвецы давно ушли с полей и овцы тоже (уже полночь). Ангел, упившись, спит мертвецким сном. Для живущих остались дороги, по которым идти, а утром – свиней кормить, коров доить, торопить детей на остановку школьного автобуса. Тиканье часов на каменном камине отдается в тишине недоверчиво и звонко.
«Раз уж мы зашли так далеко…» – говорит взгляд морехода.
На полпути в горы, в белом доме с башенками живет пятидесятилетний Скульптор. Он болен смертельной болезнью и с бесконечным терпением, глубоко сосредоточившись, пишет маслом светло-желтый лимон на белом поле. С каждым новым легким мазком лимон выявляет склонность к исчезновению. Да, хорошо такому человеку, как Флинт, водить за нос мир, воздвигать свой свод на чистом безумстве! У того, кто живет в доме с башенками, есть сын, которого надо растить, есть жена, для которой жизнь уже сейчас теряет смысл. Рука его становится тверже, она жестка, как железо, в его восприятии действительность стремится к белизне.
Стучат. Дверь таверны распахивается. Глядите, пожалуйста! Это Лютер Флинт собственной персоной, глаза горят огнем, одна рука вытянута вперед; у него за спиной страшная, истерзанная Миранда! Он срывает с головы цилиндр и хватает ее за локоть. У обоих лица серые-серые, как у только что поступивших трупов в мертвецкой. Он еще раз молитвенно вытягивает руку. Плоды фантазии, условные фигуры, они, однако, куда реальнее, чем камни в моем подземелье или виселицы на площади. Неужто для них не найдется правды, какой-нибудь церковнотвердой опоры, в которой – единственное спасение для призраков?
За сараями стоят, прислушиваясь, деревья, сквозь тьму они тянут ветви к змеям и жабам, к спящим овцам, исходя материнской заботой, прислушиваются взволнованно к шагам заблудшего паучка. Ни слова больше о тысячемильном звере, о философ! Вот тебе зверь огромный, как мир, слепой и дрожащий от страха, не ведающий о цели, ищущий смысла.
– Так точно, сэр, – кивает мореход. – Так точно, мятеж.
Гость теперь тоже чувствует, как шарят ветками, склоняясь, деревья, черные, вековые, безгласные и незрячие – как бедный Милтон, томимые жаждой – как сердце Скульптора и его собаки.
Гость смотрит на циферблат часов.
– Рассказывайте дальше.
XXIII
Капитан Заупокой сидел в трюме и замерзал, молчаливый, неподвижный, бешеный. Тонкие одежды на нем были смяты, скручены и туго перетянуты крепкими серыми веревками, глаза плотно закрыты, пальцы застыли, как у мертвеца. Уилкинс сделал ему кляп из грубого каната и трижды обмотал конец вокруг шеи, затянув помокру узлы, и теперь, когда канат смерзся и стянулся, кровяные сосульки алели на кружевном жабо и в огромной клочковатой черной бороде. Через час он перестал дергаться, словно осознал наконец, что воскресения ему не будет. Мистер Ланселот был убит. Билли Мур тоже. Иеремия пропал. Меня мятежники пощадили, вернее, отложили решение моей судьбы. Я выпучил глаза, ходил на полусогнутых ногах и голосом уроженца Золотого Берега клялся, что в действительности я – чернокожий, просто ученые психи в Цюрихе меня обелили. Как ни потешались надо мною белые мятежники, как ни стучали себе пальцем по лбу, вызвать недовольство ими же освобожденных рабов они не решались. А Билли Мур клятвенно подтверждал мои слова. Когда же Билли Мура самого убили – одновременно с мистером Ланселотом, по той же ошибке, – мятежники обо мне забыли, оставили меня привязанным к обледенелой фок-мачте и вспомнили о моем существовании лишь тогда, когда резня была окончена.
Я видел все казни. Мятежники, начинавшие с одними топорами и топорищами, разграбили каюты и были теперь вооружены порохом и мушкетами. Снова оказавшись на палубе, они поспешили к кубрику. Люк в него был задраен и запечатан коркой льда, по обе стороны стояли на часах два мятежника с топорами; еще двое стояли поблизости. Внизу содержались те, кто сохранил верность капитану – одни потому, что у них в самом деле было верное сердце, но большинство из-за своей убежденности в том, что мятеж обречен на провал. Мистер Вольф, второй помощник, взломал топором ледяную печать и крикнул:
– Эй, в кубрике! Вы меня слышите? Поднимайтесь сюда по одному! Да поживее. И чтоб не ворчать у меня! – Прошло несколько минут, прежде чем в люке появилась первая голова – это был матрос-англичанин. Он плакал и жалобно просил помощника сохранить ему жизнь. Вольф ударом топора расколол ему череп. Бедняга упал на палубу без единого стона, алая кровь его дымилась, а китаец-кок поднял тело под мышки и сбросил рыбам. Мистер Ланселот побледнел. Все произошло так быстро, что не было времени вмешаться, но теперь он в гневе подскочил к мистеру Вольфу, попытался отнять у него топор. Билли Мур шагнул вслед за ним. В одно мгновенье на них набросились два вооруженных негра, стали теснить их мушкетными дулами, и Вольф пошел на них с занесенным за плечи топором. Мистер Ланселот, глазам своим не веря, попятился, но его прикончил мушкетный выстрел. Билли Мур возмущенно вскрикнул – второй мушкет заставил замолчать и его.
– Не будешь больше вмешиваться! – орал Вольф. – Кончилась твоя власть!
Сам он был низкорослый, почти карлик, и в очках; прямые желтые волосы бились у него за плечами, словно под ними трепыхались вспугнутые птицы, а ноги, как у пьяного, путались в полах меховой шубы, которую он сорвал с капитана. Два изувеченных трупа лежали, касаясь один другого. Эти двое были ни за, ни против; истинные демократы, они предоставили событиям идти своим чередом, а когда дошло до убийства (кто бы подумал, что Вольф станет так самоутверждаться?), оказались бессильными что-либо изменить.
Шум на палубе насторожил тех, кто еще оставался в кубрике; теперь уже ни угрозами, ни посулами на удавалось выманить их наверх. Тогда Уилкинс сказал своим громким, высоким голосом, пригнувшись к самому люку и насмешливо скосив и прищурив черные, заплывшие, узкие, как бритва, глазки:
– Почему бы их не выкурить, а?
В ответ узники предприняли атаку, и какое-то мгновение казалось, что судно перейдет к ним в руки. Однако мятежники изловчились закрыть люк, когда на палубу успело выскочить всего шесть человек, и те, убедившись, что противник настолько превосходит их числом, пали духом и сдались. Вольф говорил с ними вежливо, зная, что его слышат в кубрике. И остальные не замедлили подняться. Они выходили по одному, их тут же хватали и связанными бросали на палубу – общим числом четырнадцать человек.
А потом была бойня. Связанных моряков одного за другим волокли к борту, где у трапа стоял китаец-кок с топором и, неуклюже размахиваясь, проламывал каждой жертве череп. С кляпом во рту я поднял голос протеста, но крики мои остались не услышаны – они звучали тише шепота по сравнению с отчаянными воплями обреченных. Когда семеро таким образом уже очутились за бортом, к китайцу молча подошел черный гарпунер с костью в носу и произнес: «Больше – нет». Кок покосился на него, злобно, но испуганно, и обратился за приказаниями к Вольфу. В то же мгновение все с тем же царственным спокойствием, с каким он разил кита, гарпунер ударил кока сжатым кулачищем по виску, словно молотом по наковальне, и кок, корчась, упал на палубу. Через минуту он был мертв. Четыре раба, из них двое в кандалах, подошли и встали рядом с гарпунером, готовые начать новый мятеж, хотя все их оружие было четыре топорища. Вольф и Уилкинс, перепуганные до полусмерти, сразу же изменили тактику.
– Довольно, – сказал Вольф. – Остальных швырнуть в трюм, к капитану!
Связанный, с кляпом во рту, я смотрел, как мятежники и освобожденные ими рабы тащат прочь своих пленников. Иеремии все это время нигде не было видно. Я решил, что его тоже убили.
Вскоре черный Нгуги еще раз выказал потрясающую человечность. Когда Вольф и Уилкинс с мятежной свитой поднялись из трюма на палубу (почти все с каменными лицами, лишь кое-кто улыбался, точно сдуревший осел), черный гарпунщик – он оставался наверху – шагнул им навстречу, перед собой он за оба конца держал топор. Уилкинс как бы ненароком взял наизготовку мушкет. Черный великан что-то сказал ему и указал на меня. Глаза его еще источали пламя, но речь, по-видимому, была мирной. Уилкинс и Вольф ему ответили, но так тихо, что я ничего не разобрал. А вокруг недвижный воздух был полон запахами земли, хотя земли не было. Руки у меня, туго стянутые обледенелыми веревками, онемели. Глаза слезились.
Ко мне подошел Вольф, сзади него Уилкинс. Вольф сказал, вежливо, как странствующий проповедник, но без убеждения – скорее автомат, чем живой человек:
– Мистер Апчерч, вашей обязанностью будет позаботиться о дочери капитана.
И, не произнеся больше не слова, разрезал мои веревки. Сначала я не мог сдвинуться с места, ноги у у меня были каменные. Он стоял и ждал. Уилкинс у него из-за плеча подмигивал мне и улыбался, кривил и растягивал рот. Вращая выпученными глазами (я все еще изображал негра – на случай, если именно это послужило к моему спасению), я, как только смог, волоча плохо слушающиеся ноги, поднялся по трапу на ют и вошел в капитанский салон. Здесь нашелся фонарь, масло и фосфорные палочки, и скоро помещение было освещено ярче, чем когда-либо при мне прежде. Все оставалось на своих местах. На шахматной доске ждали капитана расставленные фигуры.
Не стану подробно описывать, какую картину осветил мой фонарь во внутренних капитанских покоях. Я ни разу не бывал дальше полутемного салона, где занимался с Августой – Мирандой. Сюда выходили две каюты, не считая штурманской рубки: спальня капитана и спальня его дочери. В каюте капитана все было изорвано и разбито. Койка изрублена топорами, рундук взломан, капитанские пожитки разбросаны от одной переборки до другой. На полу, полузасыпанный перьями из вспоротой перины, валялся портрет Флинта. Пристальный взгляд, свирепая линия рта под черными усами заставили меня содрогнуться: если бы я раньше хоть раз поддался гипнотической силе этого дьявола Флинта, я бы, верно, и теперь подпал под его воздействие. Не для того ли Флинт и повесил этот портрет у Миранды, чтобы не выпускать ее из-под своей власти? Вокруг головы на портрете было изображено сияние, как у Иисуса, только церковные портреты манернее: глаза виновато закачены, руки воздеты в молитве, словно подымают невидимую завесу, идя навстречу пожеланиям зрителя, зря его не затрудняя, – почтительные, как натюрморт, как ваза с бледными лимонами. Я поднял портрет с полу, по-прежнему стараясь глядеть вбок. Но все равно почувствовал, как меня охватывает странная сонливость, и поспешил выпустить полотно из рук, точно гадюку.
Во второй комнате я нашел Миранду. Она лежала, застыв в немом бешенстве, под подбородком – сжатые кулачки, разодранное платье – как окровавленные лохмотья лунного света. Вся в синяках и ушибах. Глаза расширены от страха.
– Миранда! – забывшись, со стоном выговорил я и опустился подле нее на колени.
Глаза ее еще больше расширились. Она прошептала: С каких пор ты знаешь?
– С самого начала. – Это была отчасти правда. Где Иеремия? – спросила она.
– Исчез. Убит, вне всякого сомнения.
Она закрыла глаза, испуганно спряталась внутрь себя, безжалостная Миранда Флинт, наконец-то теперь виноватая. Я сжал ей руку. Она не пожелала очнуться.
XXIV
Вольф стоял над шахматной доской капитана, словно размышляя о том, как закончить партию. Он говорил, как всегда, гнусаво и книжно:
– Капитан не понимал природу власти.
Он ухмылялся, поверх очков глядя на доску и двумя пальцами закручивая конец уса. Уилкинс сиял, ему явно нравилась декламация Вольфа, хотя не думаю, чтобы он был согласен с ним по существу. А Вольф – руки в боки – профессорским тоном продолжал, не отводя глаз от шахмат:
– Он употреблял свою власть неограниченно и в этом был прав – но не сознавал того, что надо придавать своей деятельности видимость заботы о благе всего корабля. Благо всего корабля в целом, надо было внушить команде, ценнее, чем жизнь любого из ее членов. Корабль – это особое существо, у него есть свое предназначение, недоступное нашему уму, а каждый из нас – всего лишь клетка в его организме. Скажем, капитан – это мозг, надо им объяснить, но и мозг служит целому. Долг каждого на корабле – необходимо было, чтобы они это ясно поняли, – безоговорочное подчинение. Корабль – это Отец, – он заговорил решительнее, отрывистее. – Нужды корабля – наша религия, и любой отход от этой религии следует встречать со строгостью и не давая ни малейшей воли воображению. Вы удивлены, мистер Апчерч, мистер Жонглер-Словесами? А ведь я говорю дело. Если дать волю воображению, то можно дойти до сочувствия даже киту. «Как он величав! – кричит нам воображение. – Как огромен, как могуч!»
Он ухмыльнулся.
Уилкинс тоже ухмылялся и щурил глаза, заплывшие еще сильнее обычного благодаря капитанскому вину.
А Вольф поднял указательный палец, бесконечно суров, бесконечно доволен собой.
– Но что бы ни кричало нам воображение, друг мой, кит – это враг китобойца. Насилие – вот смысл жизни на этой земле, в нем единственная наша свобода. Раз я умнее тебя и сильнее, значит, я капитан на «Иерусалиме». Захочу – в дугу тебя согну. Думаешь, ты, значит, бедная жертва? Ничуть. По логике вещей я представляю тебе угнетать тех, кто под тобой, те в свою очередь угнетают тех, кто под ними, и так до самого последнего паука, обдирающего крылья мухам. Вам, я вижу, не слишком по вкусу такая система, мистер Апчерч, и вам, мистер Уилкинс, тоже. «Где-нибудь в другом месте – пускай, – говорите вы, – но не у нас, не на „Иерусалиме“». Но я вам говорю: так всюду! Успокойтесь. Не я выдумал эту систему. Мать-природа ее создала. Она выработала один кодекс для всего живущего:
1. Не доверяй Разуму.
2. Отрицай Равенство.
3. Преуспевай посредством Лжи.
4. Властвуй Насилием.
5. Оспаривай все Законы, кроме Законов Биологических. Под водительством Вольфа, друзья мои, на «Иерусалиме» восторжествует порядок.
Он опять свирепо ухмыльнулся, обнажив превосходные квадратные зубы, и с поклоном направился к выходу. По пути он снял с доски черного слона, потом, словно бы передумав, поставил назад на то же самое поле. На самом-то деле у черного слона не было хода. Это был пустой жест, он просто притворялся, что разбирается в шахматах.
– Хорошенько лечите вашу пациентку, мистер Апчерч, – сказал он, бросив взгляд на дверь Мирандиной спальни. – Она единственная женщина на судне, а у нас есть свои потребности.
Он хмыкнул, скорее как актер, играющий роль негодяя, чем как негодяй. Уилкинс улыбался и смотрел в потолок. И, глядя на Уилкинса, я понял, что Вольф – вовсе не самый сильный и умный человек на корабле.
XXV
Я лежал во тьме на полу перед койкой Августы, или Миранды, как я должен ее теперь называть. Я задраил иллюминаторы, не давая просочиться неизбывному полусвету высоких широт. Корабль наш стоял на месте, захваченный мертвейшим штилем, с которым едва ли что в мире могло сравниться – разве что полнейшее онемение моего ума или неподвижность Миранды. Она даже дышала беззвучно. Что она еще дышит, я мог удостовериться, только положив ладонь ей на живот. Словно все ее существо замерло и к чему-то прислушивалось, словно у нее, как у тех одушевленных деревьев и цветов, о которых рассказывал мистер Ланселот, все ощущения, все способы восприятия свелись к одному – слуху, к неотступному, ужасному, всепоглощающему вслушиванию. Такое у меня возникло чувство, вернее, смутное впечатление. Но я от него отмахнулся. Я и сам был, мягко выражаясь, не в наилучшем виде. Надо все взвесить и выработать план действий, твердил я себе, но ум мой теснили кошмарные видения: занесенный топор кока, удар, судороги жертвы, дымящаяся кровью палуба, безжизненные, окровавленные тела Билли и мистера Ланселота… Но самым невыносимо-жутким был образ Миранды Флинт, какой я нашел ее в каюте, – изнасилованной, раздавленной, уничтоженной. Я чувствовал то, что чувствуют у гроба ребенка, – онемение, невозможность поверить. Снова и снова я протягивал руку и прикасался к ней. А она все спала сном невинности – а может быть, затаившись, прислушивалась, если смутное впечатление меня не обманывало. Прислушивалась, ждала в абсолютной тьме своего подсознания, словно старый железнозубый капкан. Всякий раз, прикасаясь к ее телу, рука моя сама отдергивалась, как отшатывалась мысль от истины, которую рано или поздно все равно надо было принять: Миранда больше уже не была красивой. Синяки сойдут, опадут отеки, но безобразие останется – останутся выбитые зубы, сгорбленные плечи и побитый, вкрадчивый взгляд старой нищенки. Никуда не денешься. И еще одну истину мне предстояло усвоить: то, что было в Миранде, на мой взгляд, ужасного, дурного, тоже ушло и никогда не вернется – упоение ложью и это ее чудовищное хладнокровие. Низость еще может быть, но злодейства в ней больше не будет. И это я вдруг ощутил как горькую утрату. Достоинство обманщика – да не достоинство, а можно сказать, его слава – в умении убедительно, прочувствованно, правдиво говорить такие вещи, о которых ему точно известно, что они – ложь. Но тот, у кого дотла сгорел дом в грозу, не может здраво судить о молниях. Достоинство убийцы – в том, что он мнит себя богом, безупречным и бессмертным. Нам жаль его жертв, но еще более того жаль самого убийцу, если он вдруг уверует, что напрасно отягощает собою землю. Словом, я питал надежду, что Миранда Флинт умрет.








