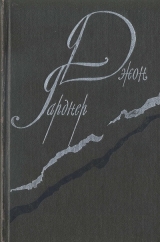
Текст книги "Никелевая гора. Королевский гамбит. Рассказы"
Автор книги: Джон Чамплин Гарднер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 32 страниц)
Наверное, я переборщил. Мистер Ланселот раздраженно протянул руку за моей тарелкой и сказал:
– Кончай травить! Ежели ты пират, то я президент Линкольн. Да ты в жизни на милю от Бостона не отплывал.
– Считайте, как хотите, – говорю я, пожав плечами. И облизываю дочиста вилку, как учила меня моя хорошо воспитанная матушка.
А он уставил в меня указательный палец, огромный, как придорожный столб.
– Ну-ка, опиши мне Сингапур! А кто плавает капитаном на «Серебряном когте»?
Я улыбнулся эдак сокрушенно и дал ему немного покуражиться, а потом ответил на все вопросы. (Вот когда отцовы россказни пришлись мне кстати!) Мистер Ланселот был смущен. Он отвернулся, хмуря брови и теребя подбородок.
– Джентльмены ученые и утонченные, а? – проворчал он, направляясь к двери.
Я откинулся на спину и заложил руки за голову.
– Мы на корабле, бывало, иной раз разговаривали по-латыни, чтобы мозги не заскорузли. А то капитан вздумает погонять команду по логарифмам…
Он вышел и запер за собой дверь.
В тот вечер он принес латинское «Утешение философией» Боэция в кожаном переплете. Я словно бы между делом раскрыл Боэция и сразу погрузился в чтение, рассеянно поднося ко рту вилку. Когда я краешком глаза взглянул на мистера Ланселота, тот стоял, подавшись вперед, голову склонив на плечо и прищурив блестящие глазки, точно часовщик – он пытался определить, в самом ли деле я читаю или только притворяюсь.
– А может быть, я вовсе и не пират, мистер Ланселот, – сказал я, – а, скажем, например, школьный учитель. – И улыбнулся ему пиратской улыбкой Благочестивого Джона.
Мистер Ланселот склонил голову на другое плечо и прикрыл один глаз, разглядывая эту улыбку, как разглядывал бы скворец чугунного червя. Потом он подхватил мою тарелку, хотя я не успел ее очистить, и, ни слова не вымолвив, вышел.
Назавтра пищу мне принес и проверил повязку человек по имени Уилкинс. Был это, мягко выражаясь, не очень-то приятный субъект, хотя с обязанностями костоправа справлялся вполне. На китобойце всякий может вправить вывих, остановить кровь или приладить искусственную конечность. Все это входит в круг обязанностей китобоя, равно как, скажем, установка новых мачт у берегов Японии, если старые унесло штормом аж в Калькутту. В противоположность мистеру Ланселоту, который всегда был сдержан, как то приличествует старшему помощнику, Уилкинс, простой матрос, мог любого заговорить до полусмерти; при этом он вплотную придвигал к лицу собеседника свою плоскую физиономию под кумачовой налобной повязкой и, выгнув туловище, точно китайский борец, весь подергиваясь, хватал тебя пальцами за локоть, плечо, загривок – тут уж добра не жди. Это был человек, в которого словно ударила молния и все никак не могла найти выход, то и дело вдруг просверкивая в его взгляде. Был он полукровка, вернее, многокровка (негритянско-китайско-индейская и бог знает, какая еще, помесь), толстые африканские губы, постоянно растянутые в улыбке, угольно-черные глаза скошены под острым углом. Откуда у него такая фамилия – Уилкинс, – сказать не могу. Дело в том, что половина команды звала его Яванский Джим, а были и такие, которым он был известен как Ник Живая Ртуть. На мои вопросы он без дальних хитростей отвечал (сам при этом, однако, подмигивая и тем опровергая собственные слова), что, мол, никаких чернокожих рабов в трюме нет и что женщина отродясь не ступала на палубу «Иерусалима». Я вскоре догадался, что он прежде плавал с пиратами и приставлен ко мне для удостоверения моей пиратской личности. За дверью каюты я замечал на переборке длинную, изогнутую тень мистера Ланселота – он подслушивал.
Я сразу понял, что и против Уилкинса сохраняю все свои преимущества. Он состоял в команде, был скован всякими сложностями, соображениями. Может быть, когда-то мистер Ланселот его пригрел; или капитан, ради его бедной матери, спас его от виселицы. Как известно было даже Боэцию – правда, он повернул это на богословский лад, – для такого человека, как я, не страшны сети, в которые попадается эта публика. Я, конечно, зависел от них, это верно – питаться в трюме крысятиной у меня пока охоты не было, – но я был к ним безразличен и, как лицо неизвестное, быть может, опасен, а потому неуязвим.
– Ты пришел сюда посмотреть, не узнаешь ли во мне знакомого пирата? Смотри же, приятель! Смотри хорошенько! – И я поднял лицо к самому его лицу.
Он ухмыльнулся – не настоящая улыбка, а кожаная улыбающаяся маска, лишенная всякого выражения, – но этот фокус был мне знаком. Я тоже ухмыльнулся, как зеркало.
Он задумался, хотя ухмылку с лица не согнал.
– Ты пират, это точно. Сразу видать. Только ты пират мне незнакомый. – И подмигивает.
– Глупо, мистер Уилкинс. Я маг и фокусник и по совместительству проповедник. – И мигаю ему в ответ.
– Точно, – говорит он. – Ты проповедник с фокусами, это ясно как божий день. И с доктором Флинтом, понятное дело, знаком.
– Да, и с Флинтом, – отвечаю. Меня немного беспокоило, что они так за это ухватились. При одной мысли о дьявольском кудеснике у меня на лбу выступал пот, оттого-то, верно, его имя и подвернулось мне на язык, когда я врал мистеру Ланселоту.
– Самый ловкий фокусник на свете, говорят. Был, пока не пропал. – Глазки его пристально наблюдали за мной сквозь узкие прорези век. Страх холодными толчками пробежал у меня вверх и вниз по спине. Я не сомневался, что в этом замечании содержится ловушка, но какая – одному небу известно.
– Пропал? – переспросил я, невозмутимый, как яйцо.
Он откинул голову и засмеялся. Вскоре после этого он ушел.
В тот же день к вечеру – ребра мои уже почти зажили – пришел мистер Ланселот, принес мне матросскую робу и без дальних слов поставил меня на работу с теми, кто драил палубу. Сознавая, что у меня нет никаких навыков, естественных для человека, который бывал в плаванье, хотя бы и пиратском, я работал подчеркнуто неумело, словно нарочно прятал сноровку: то вдруг случайно угожу ногой в ведро и никак не могу вытащить босую ступню, то опутаю себя и товарищей канатом. Мистер Ланселот и Уилкинс наблюдали за мной из-за угла – своим косящим глазом я видел каждое их движение, – и оба в замешательстве потирали подбородки. На следующее утро меня перевели с повышением на камбуз – подручным кока, тучного и страшного одноглазого китайца, прокопченного дымом корабельных плит и ошалевшего от нескончаемого шипения сковородок. Кок, лишь только увидел, что я беру в руку мясной секач – инструмент, за который, должен признаться, я взялся с удовольствием, вроде как Одиссей за свой старый лук, – перепугался до потери сознания. К обеду он умудрился спрятать все камбузные ножи, большие и малые. Тогда я стал поигрывать скалкой и шпиговальной иглой, шепотом при этом что-нибудь приговаривая. Кок переговорил с мистером Ланселотом, тот задумчиво потеребил кончик носа, и меня перевели на мачты – и я повис в высоте, одурев от страха и неумело связывая и развязывая узлы. Преодолевая головокружение и дурноту, я смотрел, как бывалые матросы вроде Уилкинса пляшут на верхушке грот-мачты, или скачут, словно гиббоны, со штага на штаг, или, болтая ногами, ползут, рука за руку, по реям. Тут уж было не до шутовства, тут не приходилось прикидываться еще более неумелым, чем ты есть. Все, что я мог, это вцепиться в снасти и висеть, не разжимая рук. Но те внизу все равно с сомнением потирали подбородки.
В тот же вечер, не снимая с меня слежки, мне выделили рундучок и перевели из каюты на менее удобную квартиру – тесное обиталище матросов, кубрик. Там-то я и познакомился – на счастье, как покажет дальнейшее повествование, – с улыбчивым, рыжебородым, конопатым матросом по имении Билли Мур.
В бегучем свете раскачивающейся лампы он сидел на койке, расположенной впритык с моей. Я, продолжая свою игру, завязал с ним такой разговор:
– Не работа это для бывшего мясника, – говорю, – сидеть в поднебесье на снастях, точно чайка, чтоб ей повылазило.
– Так ты мясником работал? – отозвался он с такой простодушной и приветливой усмешкой, что мне стало немного не по себе.
– Ну да, у нас в Олбани, – отвечаю. – Бедная моя бабушка. То-то ума не приложит, куда я запропастился. Я ведь вышел на минутку, только курам корму высыпать. – И я покачал головой.
Он тоже покачал головой и усмехнулся грустновато, верно, подумал о своей бабушке. Опять я ощутил к нему расположение и поспешил переменить тему.
– Странно, что капитана не видать, – сказал я. – Интересно, что он за человек.
– Ничего, ты с ним, верно, скоро познакомишься. Чудной он джентльмен, наш капитан.
– Чудной?
– Ну да, – отвечает Билли Мур. – А уж какой образованный он у нас, старина Заупокой. Бог знает на скольких языках говорит.
– Ей-богу?
– Сам увидишь, вот только повстречаем какой корабль. Как нам попадается чужестранный китобоец и мы идем на сближение, чтобы обменяться письмами и новостями, наш капитан Заупокой всегда говорит на ихнем языке. Для него это дело чести. Ученый человек, можно сказать. Книг у него полно – по истории, и естествознанию, и еще бог знает каких.
– Ну и ну.
Билли сидел и задумчиво кивал головой, словно перебирал в памяти слово за слово все, что сейчас говорил, и выражал себе одобрение. Но потом вдруг о чем-то встревожился и стал тянуть себя за пальцы, щелкая сочленениями.
– Но только он очень переменчивый человек, наш капитан Заупокой. – И он опять закивал.
– Переменчивый, говоришь?
– Я видел, как он уходил в погоню за китом, точно дьявол в него вселялся. В прошлый раз, как я плавал с ним, он ни одного вельбота вперед своего не пропускал. Сам сидит на корме, глаза красные, что твои рубины. Как волны ни бьют, старый Заупокой сидит, будто принайтованный, а на море даже и не смотрит. Лицо – как фонарь. Это в прошлый раз. А в этот… Да, сэр, чудной он человек.
– В этот раз он не так рвется в погоню?
– За китом – нет. Но, конечное дело, его хвори…
– Так он хворый?
Но Билли Мур уже все сказал.
Только теперь я увидел в сумраке у него за спиной Уилкинса – тот сидел и ковырялся в пружинах и колесиках разобранных настенных часов и слушал в оба своих огромных обезьяньих уха. Он работал в почти полной тьме – то ли искуснейший в мире часовщик, подумал я, то ли притворщик, делающий вид, будто полностью поглощен своим занятием. Впрочем, у меня сомнений не было. Билли Мур, увидев Уилкинса, побледнел как призрак.
IX
Я должен и намерен был разгадать тайны «Иерусалима»: пение, которое я слышал в первую ночь на борту (с тех пор о неграх в трюме не было ни слуху ни духу), и, еще более невероятное, голос, который тогда до меня донесся – или мне примерещился, – голос женщины. (Этот голос преследовал меня наяву и во сне, как некогда взгляд Миранды Флинт, хотя, видит бог, это не был голос бродячей циркачки, он принадлежал благородной даме. Взаимоисключающая связь, при всей моей молодости и неопытности, была мне ясна. Как раньше я обожествлял бедняжку Миранду – преображая ее то в ангела, то в демона во плоти, покуда она не выросла и я остался в дураках, – так теперь на основе смутно слышанного голоса я построил другой неземной образ, образ существа, которому так же не место в нашей действительности, как индейской коронованной принцессе не место на борту «Иерусалима». Я сознавал, что фантазирую, но остановиться не мог и при этом говорил себе совершенно разумно, что женщина на судне, хотя бы и одноногая калека, – это, черт побери, загадка, и я должен в интересах собственной безопасности разрешить ее, если сумею.) Я лежал у себя на койке, прикрыв глаза и настороженно вслушиваясь в сонное дыхание матросов, и рисовал в воображении лицо той, которой принадлежал голос. Кажется, это была любовь. Болезнь в крови, проклятие молодости; радость и горькое унижение.
Когда я убедился, что весь корабль, кроме вахтенных, спит, я вылез из койки и в темноте пробрался к трапу. Ощупью я стал двигаться к корме, туда, где был люк, сквозь который я видел тогда чернокожих. Нигде не проблескивал ни один огонек – Ионе в китовом брюхе не было темнее. Я миновал поворот, откуда падал в ту ночь свет лампы, прошел дальше мимо кают, но неожиданно наткнулся на полированную переборку, совершенно загораживающую дальше проход. Я растерялся. С одной стороны, меня тянуло туда, откуда мне слышался женский голос, с другой – хотелось все же разыскать люк, сквозь который я видел негров. У меня под ногами не было ни кольца, ни свежей доски и вообще ни малейших признаков отверстия в настиле. Я должен был доказать себе, что не бредил, не сошел с ума; забыв про таинственный голос, я опустился на четвереньки и стал прислушиваться, не доносится ли из трюма музыка.
На море был штиль, «Иерусалим» казался недвижнее обомшелой усыпальницы. «Удивительные дела! – сказал я себе. – Если бы здесь уложили новый настил, я бы слышал по крайней мере стук». На минуту я вернулся к мысли, что все это мне, может быть, просто приснилось; но я ведь умел отличать сон от обыкновенной мелодрамы. (Не хочу сказать, что театральные представления вредны, но они заставляют человека принимать позы, которых мы не наблюдаем в природе, это мне известно по собственному, пусть и жалкому, опыту.) Рабы сидят в трюме, это факт, и еще где-то на этом корабле находится юная дева – быть может пленница, многострадальная красавица принцесса или… усилием воли я остановил себя, вовсе не желая, чтобы ночь подслушала мои догадки. Под тем сомнительным предлогом, что, в растерянности крутясь на месте, я мог спутать направление, я стал продвигаться дальше к носу, хотя и знал, что ничего не спутал (опять спектакль). Я уже убедился, что ползу не туда, как вдруг неожиданно набрел на открытый люк, откуда слышались голоса. Трое, простые матросы, как мне показалось по выговору, разговаривали о капитане. В речах их было много чувства – страха и гнева, насколько я мог понять, – но говорили они вполголоса, и до меня доносились лишь обрывки фраз, главным образом ругательства, и один раз мне послышались слова: «Отомстим за него!» Кто они такие, я понятия не имел, и за чьи обиды они хотят отомстить капитану – тем менее, однако, было очевидно, что от этих свирепых людей мне следует держаться подальше. Я попятился прочь, поднялся на ноги и быстро пошел по направлению к корме.
У главного трапа я остановился, подождал, пока уляжется сердцебиение. Люк у меня над головой был открыт, и в него я увидел небо – ясное ночное небо, унизанное алмазами звезд, – впервые с той ночи, как был поднят на борт «Иерусалима». И только теперь, заметив, как оно перемещается в отверстии люка, то чуть клонясь на правый борт, то на левый, я понял, до чего привык к судовой качке, она стала для меня мерой земной стабильности. В этих размышлениях я провел, однако, немного времени и молча поспешил на палубу. Едва голова моя поднялась в темноте над досками настила, как меня овеял ветер, полный запахами леса, такими живыми зелеными ароматами, словно мы плыли по водам Амазонки. Однако суши нигде не было видно. На небе, когда я стал приглядываться, чтобы определить наше местонахождение, ни одна звезда, ни одна планета не оказалась на своем привычном месте. Даже Большая Медведица куда-то пропала. Поначалу я совсем растерялся от такой странной перемены в обычно столь устойчивой вселенной. Но вскоре я все сообразил. В воздухе ощущалось ледяное дыхание. По-видимому, мы находились где-то значительно ниже экватора и шли на юг, вероятно, к западу от Южной Америки.
Рассуждения эти не слишком-то утешили меня. Во-первых, я больше не мог прятать от себя всю вздорность моих попыток разыскать женщину, которую я никогда не видел, которая, очень может быть, даже вообще не существует. Во-вторых – если только это не то же самое, – меня начало мучить странное чувство: я оказался отрезанным от всего, что меня, так сказать, определяло – от мясной лавки ван Клуга, от пропыленных мелом классов, – и мне вдруг стало страшно. Половиной моего существа я хотел бы, чтобы меня обнаружили, схватили и тем положили конец этой зловещей отъединенности. Высоко на мачтах в трех вороньих гнездах не заметно было и признаков жизни. И на капитанском мостике – ни малейшего движения. Судно словно обезлюдело, вымерло, словно чума по нему прошлась. Я, осторожно ступая, вышел на палубу и побрел вдоль темного борта по направлению к кормовому люку. Где-то там, возле капитанской каюты, слышал я тогда ее голос. Никто меня не видел, не останавливал. Я по-прежнему желал проникнуть в тайны «Иерусалима», но рядом с этим желанием во мне быстро нарастало другое, противоположное: быть застигнутым, поверженным.
Потом у меня возникло еще одно ощущение, совсем уж необыкновенное. Мне стало казаться – быть может, не без влияния Боэция, – что моя видимая свобода на этом безмолвном, черном китобойце всего лишь нелепая иллюзия; тихо передвигаясь во враждебной темноте, я словно чувствовал на себе равнодушный, пыльный взгляд космического шахматиста, существа механического, вроде автоматов, демонстрировавшихся в бостонских балаганах. (Мне много раз приходилось видеть этих механических кукол, так ловко играющих на фортепьяно, или тасующих колоду карт, или разгуливающих по сцене, кивающих головой и поглаживающих бороду – настоящие банкиры с Уолл-стрит, – поклянешься, что там внутри сидит человек, хотя иные автоматы ростом едва ли с трехлетнего ребенка.)
Не поверите, я с трудом удержался – чуть было не заорал, не пнул что-нибудь, только бы они услышали и объявились. Незнакомые созвездия у меня над головой могли бы с таким же успехом сиять в небе над Юпитером. Оттого и кружится у меня голова, говорил я себе, оттого и мерещатся мне на борту корабля следящие за мною призраки. Я потерялся, плавая в незнакомой мне вселенной, на меня отовсюду тайно глядит черная бесконечность, которая здравомыслящего человека наводит на мысли о величии Господа Бога и Его Творения, а меня – весьма недвусмысленно – на представление о пустой пиротехнической бессмысленности. И тут не помогает думать только о близлежащем, конкретном. Ответы на мои вопросы, когда я их получу, будут прозаичны и неинтересны, это я понимал. Капитан, наверно, сумасшедший, а экипаж состоит из кретинов, нелюдей. Все это старо, как Ноев ковчег. И тем не менее я, бедный невольник и глупец, продолжал, крадучись, подыматься на ют, имея столько же причин идти вперед, как и вернуться назад. Так я терзался, пробираясь, точно вор, к предмету моих желаний – к женщине, которой я никогда не видел. (Ах, кровь, кровь! Да не презрит ее тот, кто не слышал ее темных биений!)
Лишь только я поднялся на кормовую галерею, куда выходило окно капитанской каюты, странным образом затянутое, как мне показалось, алым бархатом, схваченным золотыми кольцами – достаточно удивительная подробность для китобойца, – как вдруг раздался звук, от которого развеялись и канули все мои умствования. Я еще не понял, что это за звук – может быть, даже рев тропического тигра, таким ужасом он во мне отозвался, – как из полутьмы на меня набросился какой-то огромный зверь, опрокинул меня, навалившись лапами мне на плечи, и вместе со мной, лязгая зубами, свергнулся вниз по трапу, на твердую, как камень, палубу. Я упал и замер, недвижный, точно надгробье. Ни охнуть, ни шелохнуться я не мог. Бешеные глаза зверя сверлили меня, в темноте белели оскаленные клыки. Стоило мне чуть-чуть, непроизвольно, дернуться, как из его глотки сразу же вырвался новый рык, подобный громам небесным. Вдруг вверху на капитанском мостике появился свет и женский голос властно позвал: «Аластор!» Рев изменился – стал ниже тоном, утратил свирепость, – и вот уже чудовищный пес (ибо это была собака, хотя таких огромных я в жизни не видывал) отпустил меня, подобрался и взлетел вверх по трапу к хозяйке. Она стояла не двигаясь и смотрела вниз на меня, и душу мою затопил стыд. При виде ее померкли все мои жалкие, смехотворные фантазии – она была столь прекрасна в свете фонаря и мигающих звезд, что я тоже замигал, желая убедиться, что не сплю. Рядом с нею чернобородой жабой стоял капитан; он молчал. Я попытался сказать что-нибудь, может быть, попросить прощения, но не мог произнести ни слова. С минуту, наверное, они молча стояли и сверху смотрели на меня. У меня перехватило дыхание, лицо мое пылало горячим и, вполне могло статься, последним в жизни румянцем. Наконец, они повернулись – она поддерживала его, словно инвалида или лунатика, на нетвердых, несгибаемых ногах, сама грациозная и равнодушная, как богиня, – и удалились. Я, задыхаясь, хватил ртом воздух.
Голос, мне уже знакомый, произнес:
– Будешь совать нос не в свое дело, сидеть тебе в колодках, приятель. Он ведь хуже черта, когда обозлится, капитан Заупокой.
Я повернул голову, чтобы разглядеть того, кому принадлежал голос (я слышал его в первую ночь, когда лежал в каюте). Должно быть, этот человек все время находился поблизости, прятался от взгляда в тени. Теперь он склонился надо мной. Лицо его было трудно разглядеть в обрамлении ночи, но я видел, что на скулах и в ушах у него, как у старого индейца, росли густые космы волос, свободно ниспадая на грудь. Они были белые как снег. Опять загадка! Человеку такого преклонного возраста так же не место на китобойце, как и женщине.
– На, приятель, держи руку, – прохрипел он, словно забавляясь моей дуростью, и протянул мне большую узловатую ладонь. И снова меня пробрало тревогой: по его ощупывающему прикосновению я понял, что он слеп.
– Кто вы такой? – спросил я, приподнимаясь на локте. – Кто вы все такие? Куда, мы, черт возьми, плывем? – От напыщенно-театральных звуков моего собственного голоса (окрашенного, как мне казалось, густыми философическими обертонами) страхи мои только возросли. Что это за судно? – спрашивал я. Я стал говорить громче, безмолвие на борту повисло вокруг, как черные драпировки в зале, где должен начаться спиритический сеанс. Вопросы мои, такие для меня важные, звучали неубедительно, словно строки из давно заученной роли. – В какой порт это судно направляется? Где я смогу сойти на берег?
– Не все сразу, приятель, – отозвался старик. Он нащупал наконец мою руку и с неожиданной силой поднял меня на ноги. Нажимая ладонью мне на плечо, он повернул меня лицом к люку. Я сделал один шаг, но остановился. Он отпустил мое плечо. И, помолчав, продолжал: – Кто такой я, например, ты, верно, уж понял. Я – безумец, зовусь Иеремия, плавал когда-то первым помощником с капитаном д’Ойарвидо на доброй шхуне «Принцесса», что открыла Невидимые острова в южной части Тихого океана. А другие здесь, кто они, этого никто с точностью сказать не может, ясно только, что они мертвецы, праведники, восставшие из мертвых.
Тут я вдруг заметил, что нас внимательно слушают – вокруг, из люков и иллюминаторов, торчали матросские головы.
– Да вдобавок еще одна мертвая женщина, – сердито сказал я, решившись вырвать у него всю правду.
– Пожалуй, что и так.
– А меня спустят на берег?
Старик повернулся, словно вздумал заглянуть мне в лицо. Глаза его отсвечивали, как два белых морских голыша.
– А это сомнительно, приятель. Крайне сомнительно. Смотри туда!
Я посмотрел, куда он показывал, и на долю секунды мне почудилось, будто я и в самом деле что-то вижу, – как это ни нелепо. (Ведь он-то был слеп, и ночная тьма сгустилась.) Что некогда начал в театре Флинт, морскому мистику удалось еще и превзойти. Я, понятно, сопротивлялся, как мог. Но многие дни после этого у меня сохранялось странное ощущение, будто вслед за нашим судном летит белоснежная птица, похожая на огромного голубя.
X
– Неслыханно! – восклицает гость. – Клянусь душой, за всю мою жизнь, за все время моих странствий, я не слыхивал россказней вздорнее!
Мореход глядит на него с тревогой. В помещении холодно, в сумерках за окнами таверны летят к амбару летучие мыши. На окрестные леса пал туман.
– Вопрос, собственно, не в том, что правдиво, а что ложно, – говорит ангел, но в золотых его глазах смятение. Он еще сильнее обычного дымит трубкой.
Мореход с головы до ног охвачен дрожью, он перебирает в уме доводы, ищет какой высокопарнее.
– Правда бывает разная, – ворчит он, как грозовая туча. – Ежели рассказ кажется бессмысленным, копни глубже – вот что я скажу.
Но ангел бледнеет, это бесспорно, и у морехода синие губы.
(Что же мне, раздеться донага и бесстыдно воззвать к глухим могилам и нерожденным младенцам: «Братья, сестры, вот как это все было в наше время»? Нет, уж лучше укрыться в темнице вымысла, не менее хладной и сырой, оттого что она – вымысел. Уж лучше беседы полоумного морехода и его рассудительного гостя и ангеловы подношения – точно Время и Пространство между ними – или страницы книги.)
– Один – ноль в вашу пользу! – говорит гость, фыркая, как паровоз на путях, и наливает еще по одной. – Ну и что, какое дело! Значит, на этом судне была женщина, так?
Увядший ангел чудесным образом расцветает, и мореход сразу приобретает суровый, солидный вид человека, то ли знающего нечто важное, то ли, может, просто скрывающего свое торжество.
(Мертвецы, шаркая равнодушно, бредут к лесу, но, встретив взгляд морехода, задерживаются в нерешительности.)
Гость в кресле развалился как король. Он облокотился о стол, барабанит пальцами, словно раздумывает. Он понимающе подмигивает мореходу:
– Валяйте рассказывайте дальше!
Ангел допивает свою кружку, и к нему снисходит необыкновенная легкость мыслей.
XI
Мистер Ланселот и Уилкинс продолжали следить за мной, и мне казалось, что они следят также и за моим рыжим приятелем Билли Муром. Я был постоянно настороже, упорно и хмуро размышлял, но был совершенно сбит с толку. Было очевидно, что мистер Ланселот и Уилкинс между собой в сговоре и что Билли Мур в присутствии Уилкинса бывает как-то скован, если не сказать – парализован; и, однако же, я несколько раз видел, как мистер Ланселот и Билли шептались, будто два заговорщика. («Иерусалим» вообще кишел заговорщиками – все кругом шушукались, таращились, ворчали, – в жизни ничего подобного не видел.) Более того, при всем его, казалось бы, очевидном добродушии, при всей, казалось бы, очевидной прямоте было кое-что и в Билли Муре, приводившее меня в недоумение. Подобно мистеру Ланселоту и Уилкинсу, он делал вид, будто ничего не знает о женщине на судне, а когда я рассказал ему, что видел еще и огромного пса, он посмотрел на меня так недоверчиво, что я уж и не знал, верить ли мне собственным глазам.
И еще одно в нем озадачило меня. Он снова и снова принимался расспрашивать меня о том, как я жил с бабушкой в Олбани, словно хотел убедиться, что я действительно происхожу оттуда. Но я приготовил ему разочарование. Сам Майк Финк не мог бы давать ответы осмотрительнее и хитроумнее и подтверждать свои вымыслы более правдоподобными фантазиями. Очень мало что зная про Олбани, я признался, что вообще-то я из Квебека, а позже еще добавил, что моя родина Арканзас. Я рассказывал о том, как работал коммивояжером аптекарской фирмы, и до того увлекся, что получил от Билли Мура и от мистера Ланселота заказы на «Эликсир доктора Ходжкинса» – по ящику на брата. Но большей частью на душе у меня было не так весело. Даже можно сказать, просто совсем нехорошо. С того самого дня, как пес опрокинул меня на палубу, я ходил всеобщим посмешищем – по крайней мере в моих собственных глазах: последний дурак, самый ничтожный, самый обозленный и к тому же самый безнадежно влюбленный человек на свете.
В это время – на восьмой или девятый день после моего водворения на горах «Иерусалимских» – со мной едва не произошел несчастный случай, который, безусловно, положил бы конец всем моим треволнениям.
Я забрался высоко на грот-матчу, под самые краспицы вороньего гнезда, где мне нужно было сплеснить перетертый штаг, как вдруг, неизвестно зачем, вздумал взглянуть вниз. Я уже раньше, на менее головокружительных высотах, усвоил, что со мной бывает от такого гляденья. Минуту назад я не видел ничего, кроме куска растрепанного каната, над которым трудился – помнится еще, он привел мне на ум высохшую косу индейской скво в бостонском музее, – и вот уже в голове моей теснятся мысли о том, как далеко от меня до палубы и как ненадежна коварная пеньковая лестница – моя единственная дорога к спасению. Напрасно я гнал эти мысли. Чем прилежнее я старался не думать, тем упорнее они роились у меня в голове, маня навстречу погибели. Я уже ощущал, как буду падать – головокружение, судорожные попытки удержаться и стремительный полет вниз головой; я уже испытывал мистическое влечение упасть, потребность нырнуть в безграничную свободу самоубийства. Я уже не мог, я уже не хотел больше смотреть только на канат. С каким-то диким чувством, наполовину ужасом, наполовину облегчением, я обратил взор мой в бездну. Палуба внизу оказалась на удивление маленькой, она была где-то справа подо мной – из-за крена судна. Я почувствовал, как разжимаются мои пальцы, как сердце наполняется восторгом, и я различил, словно бы уголком моего косого глаза, едва уловимую тень некой конечной идеи. Страх вдруг покинул меня. Я словно перестал быть самим собой, слился с мистической ширью океана, что простерся у меня под ногами, – этот образ единой синей бездонной души, которая повсюду в человечестве и природе, подобно пеплу Крэнмера. И в тот же миг сверху на меня молнией упал Билли Мур – с душераздирающим воплем, который перепугал меня гораздо сильнее, чем сама угроза гибели. Его мускулистые ноги стиснули мои бока, вышибив из меня последний дух, колючая рыжая борода воткнулась мне в затылок, жилистые руки вцепились в снасти железными крючьями, которые не вырвать до вселенского распада.
– У-у-ух! – прозвучало надо мною. – Держись брат!
Откуда он свалился, бог весть, однако же, вот свалился, обрушился, неоспоримый, как ангел, что пал на Авраама. Сказать я ему ничего не мог, я не в силах был дохнуть, да и ему было не до разговоров, когда он, точно паук с добычей, спускался по вантам. На остаток дня меня освободили от работы – ребра мне пекло и саднило сильнее, чем в первый вечер, – и оставили лежать на спине и размышлять о собственной дурости. А Билли Мур, ни слова не говоря, полез обратно на мачту, однако лицо у него было озабоченное.
В тот вечер он подошел ко мне, хитро озираясь, в руке он держал два обрезка троса. Сел осторожно на краешек моей койки, стал рассеянно завязывать и развязывать какие-то узлы, ухмылялся, смущался, будто школьник из моего класса, и, наконец собравшись с духом, произнес:
– Это обычное дело… на мачте… один шаг в Никуда. Не теряй курса, вот и весь секрет. – Он пожевал губами, закатил глаза в поисках слов, способных выразить его мысли. Наконец медленно, вдумчиво проговорил. – Твердо знай в глубине души, на чем стоишь, пусть тебе даже там и не нравится, и не позволяй своим мыслям уходить в Никуда, не верь в него, в это Никуда. Как по натянутой проволоке через пропасть. Гляди прямо и далеко вперед. А коли не можешь не думать, думай о вере. Пой псалмы или рассказывай про себя библейские истории. Если станешь представлять себе проволоку, по которой идешь шаг за шагом, и как ты переступаешь ногами, тут же вниз-то и ухнешь камнем – бух! Вера, в ней весь секрет! Безоглядная вера, как у чайки.








