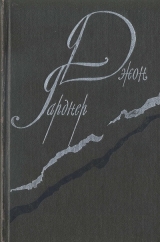
Текст книги "Никелевая гора. Королевский гамбит. Рассказы"
Автор книги: Джон Чамплин Гарднер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 32 страниц)
10
Совершенно непонятно, что происходит. Я бегу по шпалам вслед за доктором и бригадиром поезда. Мелькают фонарные огни, бегают лучи. Перед нами мечутся хиппи в развевающихся лохмотьях, они визжат, вопят, орут друг на друга. Кто-то призывает пассажиров разойтись по вагонам. Я оборачиваюсь через плечо на остановившийся поезд, огнистое чудище среди непроглядной тьмы. Красный фонарь на задней площадке виден словно сквозь кровавую пелену. За путевыми огоньками по обе стороны насыпи – глубокие сухие рытвины, а за ними – старые деревья, до самых ветвей увитые, задушенные сухим, мертвым плющом. Мы подходим к молчаливому скоплению людей: лица их точно взяты с какой-то военной фотографии.
– Пропустите, пожалуйста, – говорит бригадир. – Это врач.
Толпа с ропотом расступается. Я протискиваюсь за бригадиром и доктором. Посреди толпы – юноша громадного роста; он стоит на коленях, склонившись над чем-то, извиваясь и корчась. Он стонет и что-то выкрикивает, слов не разобрать.
– Это врач, – повторяет бригадир.
Юноша закидывает бородатую, взлохмаченную голову, глаза у него крохотные и злые, козлиные. Он дико вопит:
– Нам нужен священник, а не врач!
– Я священник, – говорю я, но никто меня не слышит.
– Пропустите, – говорит доктор.
Юноша с бешеным криком выпрямляется, и мы видим, над чем он склоняется. Я тут же отворачиваюсь, едва успев заметить огромный живот в родовых схватках, размозженное лицо, разметанные космы, мертвый древесный ствол.
– Господи, – шепчет доктор.
– Она жива? – спрашивает кто-то.
– Разгоните их всех к чертям, – цедит сквозь зубы доктор.
Бригадир распрямляется, отирает лоб и начинает повелительно кричать. Его никто не слушает: глядят на тело, испятнанное фонарными лучами и красными бликами.
– Она перекурилась, – объясняет мне кто-то, цепляясь за мою рубашку и размеренно выговаривая слова, как бы отводя вину от себя. – Перекурилась. Не видела, куда идет.
– Да разгоните же их! – орет доктор. В его расчерченном складками лице – дьявольская злоба, голос сиплый и ломкий от бешенства.
Я отступаю на несколько шагов, бросив еще один взгляд на смятое тело, на завернутую назад ногу, как у сломанной куклы. Поездная бригада расталкивает, разгоняет толпу. Высоченный дикарь со всклоченной бородой и желтыми козлиными глазами потрясает кулаками и кричит на нас или, может быть, взывает к небесам – неизвестно.
– Сумасшедшие! Где вы были? Будьте вы прокляты!
Сцепив пальцы, он стискивает свои длинные руки, локти мотаются вправо и влево, туловище скрючено, колени сжаты, носки огромных туфель плотно сведены.
– Будь они прокляты! – завывает он. – Будь они, Господи, прокляты! Будьте вы, Господи, прокляты!
Он выбрасывает вперед руки и рывком вскакивает с колен. Буйно треплются его цветные лохмотья. Проводники гонят всех чуть ли не взашей, но к этому исполинскому козлу никто не смеет подступиться.
Жидкобородый юнец берет меня под локоть и ровным голосом объясняет мне, будто ищет совета:
– Это была его чувиха. Уже давно… – Он пытается заглянуть мне в лицо.
Дикарь причитает, раскачиваясь взад-вперед.
– Она теперь от вас свободна, будьте вы, Господи, все прокляты! Свободна, слышите! – Он пронзительно хохочет. – Свободна! Свободна! – Теперь уже нет сомнения: он грозит кулаками звездам – холодной шрапнели, разлетающейся из черной бездонной дыры в центре мироздания.
Я делаю шаг к нему, почти поневоле, хотя прекрасно знаю, кого он во мне увидит.
– Слушай! – зову я. – Возьми себя в руки!
Он застывает и неистово смотрит на меня – ужасное лицо его с козьим приплюснутым носом, красновато-серое в фонарных отсветах.
– Слушай, что я тебе скажу, – говорю я. – Я священник.
Он роняет голову на грудь, вращая налитыми злобой глазами; я почти уверен, что еще миг – и он кинется на меня в ослеплении боли и ярости. Но кидаться не на кого. Я – никто, бесплотный голос, посланник Божий.
Дикарь шатается, падает на колено, стонет и заливается слезами. Я бережно трогаю его за плечо.
– Доверься мне, – говорю я. Провал бездонен. Всякая достоверность – обман. Но я заставляю себя продолжать. У меня нет выбора.
ДЖОН НЭППЕР ПЛЫВЕТ ПО ВСЕЛЕННОЙ
© Перевод Р. Райт-Ковалева
1
Моя Джоанна ведет машину медленно, как всегда после ужина с выпивкой, вцепившись в руль побелевшими руками и выставив подбородок. У меня кружится голова – до того она хороша: скулы высокие, как у индианки, медно-рыжие волосы, серые глаза. Словно видение, словно марево в смутном свете склепа, в роще, под завесой тумана.
Я гляжу в ветровое стекло, сквозь свое шутовское отражение, и, хотя я уже позабыл о своем поведении, меня мучит совесть и злость. Ох и настрадалась она из-за меня, бедняжка… Ужас, ужас… У моего отражения дрогнули губы. Тут я улыбаюсь (и она тоже) непривычно мрачной улыбкой и нахлобучиваю свою черную потрепанную шляпу так глубоко, что поля касаются воротника пальто. Она-то меня простит. Бедная Джоанна понимает, на что обречены мы с ней. Потухнуть, стать лишь оболочкой самого себя. Мы пережили столько испытаний – моя Джоанна и я, бедные, несчастные художники (она – композитор, я – поэт). С годами мы стали походить на хитрых, закоренелых отщепенцев, увядших, раздражительных, забившихся в свою нору. Мы и одеваемся во все черное.
Фары машины близоруко ощупывают дорогу, мимо пьяных телеграфных столбов, мимо мертвых амбаров.
Приехали. Наш дом и курятник голы, как камни надгробий, в мертвенном свете ночного фонаря. Она ставит машину, цепляя крылом за покосившийся забор, и, открыв дверцу с моей стороны, помогает мне выйти; опираясь друг на друга, мы проходим по двору на крыльцо и входим в белый скелет дома, слишком просторного в эту ночь для нас двоих, – дети ночуют в городе у знакомых. Меня терзают мрачные предчувствия печальной старости. Вот две тени входят в дом. Везде портреты детей, внуков. Тешусь этой выдумкой, нарочно горблюсь, ощупываю языком – целы ли зубы.
– Пожалуй, пойду посижу в кресле, кресло у меня славное, старенькое, – хрустя пальцами, говорю я ей, моей любви, радости моей долгой жизни.
– Ложись-ка ты спать, – говорит она.
Гляжу на нее. Раньше я бы ей наподдал как следует, а теперь мы старики. И я повинуюсь. Она останавливается на верхней ступеньке – отдышаться, одной рукой схватилась за перила, другой за сердце. (Тик… Тик… Ох, горе, горе.) А какая была красавица. Вижу – смотрит на портрет нашей дочки. Переводит глаза на меня – верно, задумалась. (И она, наша Люси, станет взрослой женщиной, красавицей, но время испепелит ее красу, ее тело обмякнет, обвиснет, как у старого пса. И для них тоже все мгновение, всему свой черед, как и для искусства, для мачехи Белоснежки, для Клеопатры, для Евы.) Джоанна смотрит вниз, молчит. Время застопорилось. Наконец с трудом мы продолжаем наш тяжкий путь, пыхтя и задыхаясь, входим в нашу спальню – потолки потрескались, – мы неуклюже помогаем, как водится, друг дружке улечься в постель, вынимаем зубы. Мне девяносто два года, наша планета гибнет – чума, голод, непрестанные войны. Наш народ в руках растлителей малолетних…
В темноте слышу голос жены:
– А я соскучилась по Джону Нэпперу.
Я что-то бурчу, приплывая обратно, раскручивая время назад, и хитро улыбаюсь. Я похлопываю ее по руке. Мне вдруг хочется встать и написать такие письма, чтобы моих врагов хватил инфаркт. Я протрезвел, я затих, как полночь, я счастлив.
2
Это был огромный старик, с взлохмаченной длинной седой шевелюрой, в потрепанном платье – впрочем, эта потрепанность уже преобразилась, стала великолепной нелепостью, стаей диких птиц в полете, китайскими бумажными змеями, заполнившими всю комнату, все континенты – последний, благороднейший довод в защиту монархии. Он был полон радости, безумный ирландец. Он наслаждался жизнью до нелепости – казалось, что медведь вразвалку тащит домой целый улей с медом – и меня, – даже меня поражала эта жизнерадостность. Он расплывался в блаженной улыбке, даже когда пел грустные песни (он был художником и певцом). Когда он пел о смерти Хайрема Хаббарда, с ухмылкой наклоняясь, словно гора в снеговой шапке, над своей гитарой, он становился самим Брамой, воплощением Брамы, он был за пределом, за гранью, вне реальности, сияя глазами, он создавал свой мир из ничего, и рядом с его спокойствием мое банджо звенело, захлебываясь.
– Наверно, сущий ад – быть его женой, – сказал я как-то, горбясь в своем углу, моргая покрасневшими веками. Но его поклонникам это и в голову не приходило. Они очень удивились, растерянно надули губы, закивали головами, словно стая ворон.
Однако жена у него была мужественная. Она рассеянно улыбалась, слушая, – как он поет, или помогала ему собирать разрозненные части магнитофона, когда он хотел записать блеяние коз за окном их спальни или грохот проходящего поезда. Круглый год, днем и ночью, у них было полно гостей.
– Заходите, когда хотите! Чудесно! – И все рассаживались на полу в их пустом, как раковина, доме, а Джон Нэппер, широко разводя руками и сияя улыбкой, разглагольствовал на вечную тему – «Обо Всем», а его жена Полина, лукаво посмеиваясь, искала шнур от электрической кофеварки – Джон куда-то его нечаянно задевал, и она все же умудрялась варить ему грог.
– Превосходно! – говорил он, воплощение счастья. Конечно, радоваться глупо, опасно, но в его радости был какой-то таинственный секрет, какой-то хитрый поворот мыслей. Я угрюмо следил за ними, надвинув шляпу на глаза, чтобы никто ничего не заметил.
Иногда полиция из городка устраивала бездарные облавы, с дубинками наготове, принюхивалась – не попахивает ли опиумом, присматривалась – не подложили ли бомбу замедленного действия, разглядывала бородатых гостей, словно тарантулов. Джон Нэппер улыбался так хитро, что мне самому трудно было поверить в нашу полную невиновность. Когда полицейские уходили, он говорил:
– Невероятно! Просто невероятно! Главное – спокойствие! – шепотом добавлял он, и, видно, говорил искренне и подмигивал нам.
Я записал в своем блокноте: Хитрый старик.
Я писал:
«Когда люди, резко расходясь во мнениях, нападают друг на друга при Джоне Нэппере, у него есть два главных приема. Первый: повторять „Вот именно! Вот именно!“ трезвым, вдумчивым голосом в ответ на каждое высказывание обоих спорщиков, пока эти спорщики не начинают сбиваться, а второй прием – разрешить спор каким-нибудь безапелляционным утверждением, например: „И валлийская музыка, и музыка ирландская – просто чудо! Но лично я валлийскую музыку ненавижу, а люблю музыку ирландскую“».
Смешно сказать, но тут все начинают хвалить ирландскую музыку, хотя давно известно, что валлийская музыка лучше.
Я наблюдал и ждал. Все больше во мне сгущалось ощущение мировой скорби, черной злобы. Я уходил со всех сборищ в тоске, почти убежденный, что все мои стихи фальшивы и я превратно понял Вселенную.
– Какой у них счастливый вид! – говорила моя жена, опираясь на локоть, выставив подбородок.
– Помолчи, – говорил я, мельком взглянув на нее. Моя рука лежала у нее на колене. – Об этом я и думаю.
Окончился срок его пребывания у нас, и он вернулся в Париж, в свою мастерскую. В его доме поселился типичный преуспевающий художник – умелый, напичканный избитыми истинами. Он презирал Джона Нэппера, не умел играть на гитаре и разговаривал, как обыватель, о «шедеврах». Я писал этому пришельцу угрожающие письма, подписываясь «Обер», или «Стрела», или «ККК», намекал полиции, что он педераст, и не встречался с ним. Он был псих. И немец. Что касается меня, то я писал все мрачнее и мрачнее. Думать я мог только гекзаметрами.
А Джоанна совсем перестала писать музыку.
– Не могу, – сказала она мне. Дети, вместо того чтобы делать уроки, прятались за спинкой дивана, мастеря флажки.
– Пиши! – сказал я. – Я волк у дверей. – И, сделав страшное лицо, выпустил когти. Я говорил всерьез.
– Ничего не выйдет, – сказала она. – Я потеряла веру.
– Планета гибнет, – сказал я. – Наш народ в руках…
Она обернулась ко мне медленно, как оборачиваются слепые или журавли в сумерках, словно услышав шепот, не слышный никому:
– Почему бы нам не поехать в гости к Нэпперам?
– В Европу? – Я просто взвыл. Я стукнул кулаком по роялю. – Мы же нищие! Забыла, что ли?
– Беднее, чем ты думаешь, – сказала она деловито и очень грустно. Дети выглянули из-за спинки дивана.
И я стал писать прошения о стипендии, работая в подвале, при свечах. Я похохатывал. Прошения вышли блестящие: они подействовали.
3
Я видел только репродукции его картин, главным образом черно-белые, в небольшом каталоге выставки в Нью-Йорке, когда он приезжал в Америку. Пейзажи с цветами, люди с цветами, цветы с кошками (едва намеченными). Я криво усмехался (memento mori). Что красиво, думал я, декоративно, с тонким вкусом, во всяком случае, одно хорошо: видно, что их писал старик с добрым горячим сердцем. А это тоже чего-то стоит…
Когда мы пришли в его парижскую мастерскую в знаменитом старом доме со множеством мастерских, так называемом Улье – темноватом, закругленном восьмиугольном здании, запрятанном, как в пещеру, под сень деревьев, мрачном, как «Дом Эшера», но потеплевшем от множества детишек, собак, плетей полуувядшего плюща, от разбросанных обломков скульптур и автомобильных частей, собранных и выброшенных поколениями художников Левого берега, – Нэпперов мы не застали дома. Они сдали мастерскую друзьям и уехали в Англию. Мы выпили вина с этими друзьями, он – сияющий двадцатидвухлетний американец, и она – хорошенькая девочка, но только при ближайшем рассмотрении, потому что совершенно сливалась со светло-серыми стенами. Потом мы вытащили из-под кровати старые картины Джона Нэппера. Я был потрясен: мрачные, яростные, умные, полные презрения и самоубийственных мыслей. Почти везде – мрак, проблески света терялись в нем. Джон знал все направления, овладел всеми приемами и отлично понимал, что делает он сам – искусный мастер третьего поколения. Да, казалось мне, он все понял, но почему же он продолжал драться, вместо того чтобы перерезать себе вены? Никаких признаков шутовства в этой мировой скорби. Никакого ощущения, что человек нарочно вырядился, нацепил серые гетры на похороны. Нет, видно, я не очень-то внимательно смотрел на красивые картинки с цветочками в нью-йоркском каталоге.
– Потрясающе, а? – сказал американец, работавший в мастерской, и вид у него был невинный, беспомощный, может быть, чуть испуганный, когда он подергивал концы своих длинных, как у Джона Леннона, усов. Карикатурист. Глаза – как у Сиротки Энни, дома он играл в джаг-оркестре, там и познакомился с Джоном Нэппером. Я кивнул, покосился из-под опущенных полей шляпы. Джоанна с улыбкой превосходства рассматривала мозаики, сложенные у стены. Мы выпили еще вина, поговорили о Париже. Раньше было еще два знаменитых дома, таких, как этот Улей. Один из них взорвали во время беспорядков, как раз после того, как дом перешел к государству. Приятелю Нэппера об этом рассказал седобородый скульптор, который жил внизу, в темной мастерской, с умирающей женой.
Когда мы приехали в Лондон, я позвонил Джону. Он пригласил нас к себе. Квартира – на третьем этаже, под ними – очень чувствительная немолодая дама. «Она прелесть! Просто прелесть!» – уверял нас Джон. Мы видели, как она подглядывала из-за занавески, когда мы пришли. Мы спустились на второй этаж, в его мастерскую, захватив виски и чай (виски – для меня, чай – для них), и стали смотреть картину, над которой он работал сейчас, и другие работы, исключительно портреты всей той же Полины, которые он недавно закончил. Новый портрет был довольно большой, не огромный, потому что в мастерской было тесно, но все-таки большой, щедрый… «Дама среди цветов». Ничего особенного. Он немного подцветил его легкими, почти незаметными мазками. Искоса поглядывая на Джона, я навел разговор на его картины в парижской мастерской.
Джон Нэппер затих, он высился надо мной, вздернув нос, выпятив живот, босой, ероша рукой путаные серебряные космы, – голова Христа (таинственная и безумная) в нимбе из блестящей проволоки. Он улыбнулся – довольный собой, убежденный маньяк. – Потрясающе, верно? Я был тогда сумасшедшим! – Он хлопнул в ладоши: – Совершенно сумасшедшим! – Он был в восторге, в изумлении, как бывший пират, который после долгих лет праведной жизни вспоминает свои преступные деяния. Ухмыляясь, я не спускал с него глаз, и Джон Нэппер сказал: – Но это пустое! Пустое! – Вдруг, резким броском, он нырнул под стол, где лежали кисти, в груду старых холстов, фотографий. Он стал разбирать их, складывать в отдельные рассыпающиеся стопки. Джоанна вместе с нашими детьми – Люси и Джоэлем и с женой Джона – Полиной стала подбирать то, что разлетелось по комнате: огненно-яркие пятна света на полу, подле окон. Джон показывал историю своей жизни – то, что сохранилось. У него погибло больше работ, чем у многих других художников: бомба, случайно попавшая в английский дом, сырой, темный подвал во французской галерее, где нацисты устроили камеру пыток и где плесень вместе с призраками палачей разъела краски (так считал Джон Нэппер). Когда он отобрал то, что хотел нам показать, мы, сдвинув головы, стали рассматривать ретроспективную выставку Джона Нэппера. Жуткие лица, люди-обрубки, страшное предвидение Хиросимы, печальные городские пейзажи, словно написанные запекшейся кровью. Кое-где виднелся чахлый цветок, раздавленный осколок света.
– Поразительно! – повторял Джон. Джоанна улыбнулась, заговорила с Полиной, и они обе отошли.
Там было и несколько портретов. Одно время он зарабатывал на хлеб, рисуя портреты. Среди них был заказной портрет английской королевы Елизаветы Второй. Сильно идеализированный.
– Все критики заявили, что меня за него надо повесить, – сказал Джон. – Они хотели, чтобы она была пополнее. – Он улыбнулся, глаза – яркие, как васильки. – Они любят ее именно такой, как она есть, – сказал он. Он улыбнулся еще шире и вдруг расхохотался, искренне радуясь нелепой добропорядочности этих критиков – патриотов до мозга костей. Он сказал:
Люси попросила:
– Джон, нарисуй, пожалуйста, мой портрет.
Он призадумался – не то леший, не то просто дедушка:
– Сколько ты можешь мне заплатить, Люси?
Она немного подумала: в восемь лет она уже знала, что такое деньги. Вынув кошелечек, она пересчитала монетки:
– Семь пенсов. – Вот хитрая! Она откинула волосы со лба, как делала ее мать.
Джон весь просиял, глаза лукаво сверкали. Хитрецы наследуют землю!
– Превосходно!
Джоэль смотрел, завидовал, делал непроницаемое лицо.
Мы условились встретиться в Уоллесовском музее, где Джон обещал показать Джоэлю коллекцию оружия и сделать набросок для портрета Люси. Полина с моей женой Джоанной и детьми поднялись наверх в их квартиру – посмотреть мозаику Полины. (Унылая штука, эти ее мозаики. В молодости она делала вещи яркие, полные тепла). Я бродил по мастерской Джона, рассматривал фотографии. Сумрачные ранние полотна, смертельно мудрые, гневные. Реалистические портреты, умелые, профессиональные. Ни те, ни другие нельзя было назвать высоким искусством, хотя они были явно хороши. Что-то в них было неуловимое, я чувствовал это (сутуля спину, тычась в них носом, как ворон). Дело было в игре света. Где-то в глубине за всем этим – за всей технической легкостью, за схваченным, даже преодоленным движением – крылось в игре света что-то тягостное, смутно-зловещее.
– Поразительно, правда? – спросил он весело, словно все это было сделано тысячу лет назад.
Я кивнул, отвернулся. Дымный, мертвенно-желтый свет солнца с аспидно-серого неба проникал в окно, проталкиваясь меж утыканных трубами крыш к западу от мастерской. Отсветы ползли к картинам, словно притянутые к ним, как Грендель из легенды о Беовульфе.
4
Мы встретились в галерее Уоллеса, и Джон показал нам оружие. Он стоял большой, взъерошенный – огромная птица с алмазными глазами, в потрепанной, как у анархиста, спортивной куртке. Он показывал нам мечи и пистоли, изукрашенные такой тончайшей резьбой, будто ее сработали разумные пауки. Иногда он наклонялся, почти касаясь своим мощным клювом стекла, словно близорукий орел перед зеркалом, и щуря глаза, как ювелир. Он бормотал про себя:
– Вот именно! Какое чудо – работа человеческих рук! Вы понимаете, что люди, носившие эти доспехи, – все эти славные герои – давно мертвы, давно исчезли! – Он рассмеялся, искренне радуясь, глядя на свою руку. Длинная, мощная, она казалась легче крыла. Доспехи смотрели на нас, безликие, пустая шелуха, сброшенная кора живых существ. Мы отмечали христианское благообразие немецких мастеров, перемену в англичанах после того, как они впервые взглянули на искусство Индии. Мы покровительственно улыбались умелым французам. Он все время смотрел в окно и неожиданно, словно что-то придумав, сказал: – Отлично. Именно так. – И, схватив Люси за руку и улыбаясь, отвешивая поклоны, как придворный, сопровождающий принцессу, повел ее, слегка подталкивая, осторожно, нежно и торопливо по длинной галерее, пронизанной косыми пучками света, во двор, к фонтану, где он решил сделать эскиз. Он усадил ее в тени, и сам сел на землю с блокнотом и карандашами, весь встрепанный, тоже в тени – лишь фонтан сверкал на солнце, – и начал рисовать. Он попросил Джоэля придумать и рассказать ему длинную сказку, что-нибудь про замки, про принцесс, и Джоэль согласился. Джон слушал сказку в полной сосредоточенности и рисовал. Кончив набросок, он поглядел на небо и сказал: «Получается», – и улыбнулся с хитрецой, словно каким-то ловким, испытанным приемом он обошел опасного врага.
Мы вышли оттуда – Джон незаметно, настойчиво подталкивал, поторапливал нас – и взяли такси. Джон довез нас до отеля и умчался.
Вечером он пришел к нам в отель – лохмотья вразлет, волосы – вихрь безумия, лицо – в озаренье восторга. Он принес свою гитару. Я достал банджо, и мы спустились в бар отеля – изумительное место. Отель занимал тот дом, где когда-то на содержании у короля Эдуарда Седьмого жила Лили Лэнгтри, – дом со множеством балкончиков с резьбой ручной работы, комнат с расписными потолками (стародавние войны и похищения), с мраморными столиками, скульптурами (кентавров, злорадных херувимчиков, умирающего оленя). Теперешний бар был когда-то домашним театром Лили, где сохранилась (она и сейчас в полной сохранности) ложа ее царственного любовника, темноватая, как положено, подальше от света рампы. (Весь бар был темноват, весь, кроме матового зеркального стекла, в неразборчивых завитушках.)
Джон Нэппер бывал здесь на вечерах прежде, чем дом стал зваться «Инвернесс-Корт». Отель обслуживали ирландские веселые слуги – приятели нашей Люси, деловитые ирландочки-администраторши и официантки в ресторане, а хозяин был пузатенький, как голубь, с курчавой черной шевелюрой. Мы сели за столик на бывшей сцене, девушка у стойки выключила телевизор – какой-то американский детектив, – и мы стали играть, как играли когда-то в доме Джона, в южном Иллинойсе. Хозяин поставил нам выпивку и запел. То непристойные, то нежно-жалобные песенки о любви и смерти…
– Прелесть! – повторял Джон. Мои очки затуманились от слез. В баре было уже до отказа полно ирландцев. Они пели в полумраке, играли на жестяных свистульках. Я спел две валлийские «заплачки» о погибших в обвале шахтерах, о моряках, взывающих со дна морского. Ирландцы вежливо слушали. Джон запел старую американскую песню про Хайрема Хаббарда, которую он слышал в Америке. Под конец его голос становился все тише и тише, а когда дошло до казни – «И от тела его не осталось ничего», – ирландцы заплакали. Кто-то заговорил о Белфасте. Там теперь полиция людей стреляет… Мы снова стали играть, но ирландцы уже не пели. Они смеялись, перебрасывались остротами, как дротиками. Было совсем поздно, два часа ночи, петь уже было запрещено. Ирландцы стали понемногу расходиться, и моя Джоанна повела наших сонных ребят наверх. Администраторша-ирландка была возмущена и ошеломлена. Джон Нэппер улыбался, уставясь на столик, и только изредка повторял: – Поразительно! – Я проводил его до дверей и смотрел ему вслед, пока он шел – величественный старый великан в развевающихся лохмотьях – ловить машину, черное, похожее на катафалк, такси. На углу Бейсуотер-роуд он остановился и помахал огромным футляром с гитарой – седые волосы, похожие на лучи солнца, дробящиеся на белых гребнях волн – как бывает во сне, – помахал и ушел из-под фонаря в темноту.
5
Я работал над эпической поэмой, историей Ясона. Нелепая затея, но ведь пишешь то, что диктует вдохновение – в ответе ли оно за это или нет. Я решил зайти с Поэмой к Джону Нэпперу. Я знал: когда он пишет, он слушает музыку, радио, что угодно, чтобы отвлечься.
Он сразу пришел в восторг, в упоение – куда тут было читать ему!
– Эпос! – повторял он. – Чудесно!
Мы стали вспоминать, давно ли был написан последний эпос. Он стал рассказывать мне о Тэйн-Бо-Куалинге, о Рамаяне, о Мабиногионе. Он рассказал мне, что Панч – из «Панча и Джуди» – произошел от Шивы, бога разрушения, от индийского слова «панч», что значит «пять», то есть пять чувств. Около полудня явилась его бывшая ученица, девушка, с которой он занимался в Париже. Она восторженно рылась в его старых и новых работах, восторженно и подробно рассказывала о своей жизни. Он сиял, слушая ее. Он расспрашивал об их общих знакомых – кто развелся, кто помер, – и мы все пили чай, вино, виски (виски пил я). С нелепо величественным жестом в мою сторону он ей сказал, что я пишу эпическую поэму, какой не было тысячу лет. Она была потрясена.
– Тебе непременно надо послушать! – сказал он.
Она растерялась:
– А она очень длинная?
– Она очень длинная, Джон?
– Очень, – сказал я.
– Чудесно! – Он наклонился, захлопал в ладоши. – Расчудесно!
Девушка явно заинтересовалась и, как мне показалось, заинтересовалась всерьез, но становилось поздно, времени осталось мало.
– Хоть немножко послушай! – сказал Джон Нэппер.
Но тут явился еще гость – тот самый американец, которому Джон оставил свою мастерскую в Париже. Он стоял в дверях, улыбаясь во весь рот, подергивая себя за усы. Джон бросился к нему, расцеловал и тут увидел за спиной мужа его маленькую, почти бесплотную жену (она болела и после этого очень похорошела). Джон и ее расцеловал. Они сияли как ангелы.
– Полина, – крикнул Джон наверх, – ты не поверишь! Поди сюда! – Он заставил гостей спрятаться, чтобы она еще больше удивилась. Полина вскинула руки, наклонила голову – как в китайском танце – и заулыбалась.
Я снова пришел к нему на следующий день, и в этот раз мне удалось почитать ему вслух. Он искренне радовался. Он слушал с удовольствием, писал быстро, вдумчиво, расставив босые ступни, длинные, как лопаты. Когда я кончил, он заговорил о Хольмане Ханте, о том, что музыка «биттлзов» совершенно такая же, говорил о Пикассо, об этом надутом старом осле, о том, что все его работы напоминают ему торжественную речь президента Рузвельта. Меня пробирала веселая дрожь (и не только от выпитого виски). Я слушал его, переводя взгляд с одной картины на другую. Зловещие, самоубийственные – старые работы, большие, яркие – новые. Среди них – портрет Люси, только сейчас возникающий на мольберте: Люси среди цветов. И вдруг я похолодел.
На стене висел огромный темный морской пейзаж. Для Джона это была проходная работа. В ней сквозило что-то от Тернера – иллюзия движения, мутный воздух, свет сквозь облака, едва намеченный силуэт корабля в огромном море и небе. Корабль терпел бедствие. Вселенная клубилась. Я вспомнил рассказ Джона о том, что Тернер жил двойной жизнью – две разные жизни, две разных жены. В одной жизни он был капитаном, морским волком, в другой – прототипом диккенсовского Скруджа, хотя на самом деле был тайным филантропом.
Среди прелестных цветов с прелестного лица моей дочери глаза глядели настороженно-расчетливо.
В тот вечер Джон сказал:
– Нравится мне, что у кельтов бог поэзии – кабан. – При этом слове он сморщил нос и вдруг стал поразительно похож на кабана.
– Кабанам понятны разговоры ветра, – сказал я.
Он усмехнулся, довольный.
– Да, да, им все понятно. – (Мы с ним знали одни и те же старые легенды.) – Но мне другое нравится. Художники-то и впрямь свиньи. Вот что мне по сердцу. Когда я был молодым… – Он снова сморщил нос, невыразимо божественно возмущенный своей молодостью. – Для меня старость – радость именно потому, что можешь работать без перерывов на всякие безобразия – на блуд и бесчинство. – Сказал и обрадовался.
Я налил еще виски из бутылки, купленной им. Купил он ее для меня – Джон Нэппер совсем не пил, когда работал, да и в другое время пил очень мало. Даже пиво пил совсем редко, не то что все ирландцы. Сегодня, когда он был трезв, я пил и за него тоже. (Равновесие важнее всего.) Я посмотрел на большое полотно – прислоненную к стене новую картину. Полина среди цветов. Хорошая работа, человеку помоложе так не написать. Картина была многоплановая – не от меняющейся глубины перспективы, а от чего-то иного. Женщина сидит у дерева, на холме везде цветы, птицы, блики, тени. Она глядит – до странности похожая на сидящие статуи египетских гробниц – в долину, во внезапный просвет, затененный и смутно-таинственный, словно вздох в пространстве. Все на картине, каждый проблеск света, движется, растет, расступается у тебя на глазах. Женщина даже дышит – оптическая иллюзия, такой у нее узор на платье. И в центре всего этого радостного движения, угасающего в совсем нерадостной тени, ее лицо парит в абсолютном покое, в святости.
– Я вас понимаю, – сказал я и улыбнулся.
Он улыбнулся в ответ, выжидая.
В поэтическом опьянении я стал понимать очень многое. В своих парижских картинах он дошел до края пропасти, борясь за свою жизнь, как свекольный сок выжимая до последней капли кровь из сердца мира, стараясь постичь его тайны, – и ничего не нашел. Он бросался в погоню за светом, не только зримым светом, напрягая все мышцы души и тела, добираясь до истинной реальности, до абсолюта, искал красоту, увиденную не чужими глазами, но честно найденную им самим, а нашел всего лишь черный провал. И его жена видела то же самое. Ее мозаика становилась все темнее, стала мрачной, как и его работы, а может быть, еще мрачнее. Но тут, на краю гибельного самоуничтожения, Джон Нэппер отпрянул от пропасти, я это видел. Теперь он воссоздаст мир из ничего. Да будет свет, райские кущи! Он начертит карты островов сокровищ. И поверит в них. Да как он мог не поверить, видя, как стали светлеть грустные глаза его жены? Какое величие! И какая бессмыслица.
Я рассказывал ему все это, и он сиял, поддразнивая, словно отражение в зеркале.








