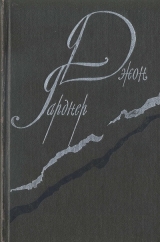
Текст книги "Никелевая гора. Королевский гамбит. Рассказы"
Автор книги: Джон Чамплин Гарднер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 32 страниц)
Помолчали. Потом, Джордж Лумис мрачно произнес:
– Ух!
– Что это должно обозначать? – осведомился Генри.
Джордж Лумис посмотрел в потолок.
– Не знаю. – Потом добавил: – Вот что я вам скажу: я начинаю верить в Козью Леди. – Он сказал это беспечно, но в его голосе сразу же почувствовалась какая-то натянутость.
– Ты видел ее, да? – быстро спросила Кэлли. Она понимала: прямое обвинение его потрясет, но ей вдруг стало все равно.
Джордж побелел.
– Что у вас произошло? – спросила Кэлли.
Словно страшная пропасть разверзлась у самых их ног, и от решения Джорджа зависело, погибнуть им или остаться в живых.
Генри, сидя с безучастным видом, пощипывал жирную складку под подбородком и не ел печенье, которое держал в левой руке. Джордж Лумис внимательно рассматривал свою сигарету. Можно сказать им и стать свободным (Кэлли угадала его мысль), но только тогда ему не бывать свободным, потому что будет кто-то знающий его вину, стыд, смущение, словом, знающий это. Хотя, возможно, в этом-то и заключается свобода: целиком отбросить в сторону весь стыд, все достоинство, действительное или мнимое. Кэлли вспомнила, как хоронили его мать, как бережно опускали гроб в землю, чтобы даже у мертвой охранить ее непорочность – скорей декорума, чем тела, – и как осторожно сбрасывали комья глины, опасаясь разбить оконце, сквозь которое засматривала в лицо покойницы слепая земля.
Наконец Джордж сказал:
– Нет, я никогда ее не видел. – Он встал.
Генри с жалостью посмотрел на него, на Джорджа Лумиса, свободного не больше, чем река или ветер, и машинально раскрошил в руке печенье и уронил. Кэлли, вздрогнув, поняла: свершилось, Джордж их спас в конце концов. Она вдруг стала невесомой, словно вот-вот потеряет сознание. Мысленно она услышала, как будто кто-то позади нее торопливо прошептал ей на ухо: «Тем не менее все спасется». Она подумала: что? И тогда: все и вся. Даже мельчайшие крошки и пылинки. Ничто не исчезнет. Она подумала: как? Почему спасутся крошки и пылинки? Но он уже рассеивался, этот сон наяву, такой неуловимый, что назавтра она о нем и не вспомнит. Комнату внезапно заполнили призраки: не только Саймон, но и отец Генри, громадный, как гора, и нежный, как цветок, вот прапрадедушка Кэлли, в подтяжках, держит в руке календарь, заложив между страницами палец, вот старик Кузицкий, пьяный в дым, и миссис Стэмп, миловидная и раздражительная, поигрывает темно-синим зонтиком, и старый дядя Джон, с изуродованными артритом пальцами и кустистыми бровями, и множество других, целая сотня, незнакомых ей, торжественных и ликующих, они сгрудились перед закусочной, забили все пространство от крыльца до шоссе, до самой опушки, и даже лес кишит ими – торжественное и ликующее безбрежное скопище, и она разглядела в толпе выкрашенную в розовый и лиловый цвета (преображенную, величественную, царственно пышную) повозку Козьей Леди. Вдруг все исчезло. У бензоколонки стоял Генри, и в неоновом розовом отсвете его лицо казалось стариковским, серым. На грузовике Джорджа Лумиса зажглись фары. Машина задом выехала на дорогу, затем развернулась. Кэлли проводила взглядом ползущие вверх по склону хвостовые огни, потом их будто бы внезапно выключили – они скрылись за гребнем. Генри вошел в закусочную.
– Так что же все-таки произошло? – спросила Кэлли.
– Я не знаю, – ответил он.
– Ты думаешь, Козья Леди?..
– Я не знаю.
Джимми спал под кассой, словно его занесли сюда, как мешок с картошкой, желая расплатиться натурой. Генри осторожно, чтобы не разбудить, взял его на руки, а тем временем Кэлли заперла дверь и погасила свет.
Позже, ночью, когда все уснули, отчего и пропустили его, вернее, пропустили начало, хотя, конечно же, видеть его имели право (видел пес, он медленно встал и приподнял крупную седую голову), прогремел гром, встряхнув горы, и пошел дождь.
VII. ВСТРЕЧА
1
Уже сидя в вагоне и озираясь в полутьме, Уиллард Фройнд сообразил, что забыл дать телеграмму и сообщить, каким поездом прибудет. Он потратил на билет почти все деньги, осталось только два доллара. Если ночевать в Ютике, то придется спать на вокзале на деревянной скамейке. Но сейчас уже ничего не поделаешь. Он занял место в заднем конце вагона и стал устраиваться поудобнее. Сидящий через проход рыжий старик-валлиец в холодном вытертом пальто с поднятым воротником сердито посмотрел на него тусклыми глазами. Дальше впереди две пожилые женщины толковали между собой о том, что поезд опаздывает из-за снежных заносов, и одна из них обернулась, вытянув шею, будто курица, и взглянула на него. Уиллард сделал вид, что ничего не замечает.
Ноги уже закоченели. К тому времени, как он приедет в Ютику, он замерзнет до полусмерти. Сунув руки в карманы пальто, он вспомнил, что захватил с собой книгу «Наступление на христианство». Он вынул ее, но не смог читать. Отвлекали пассажиры, которые толкались и шаркали ногами, пробираясь мимо. Хуже того, чем усиленнее он старался сосредоточиться – то на книге, то на попутчиках, смыкавшихся вокруг него, решительно, но как бы невзначай, словно медленно окружающие овцу овчарки, – тем больше его мутило от мыслей о доме. Временами накатывала тупая тоска, временами – возбуждение и тревога, такая острая, что захватывало дух. Лицемеры, думал он со злобой. Это слово все чаще и чаще возникало в его сознании, или, верней, возникало между его сознанием и надвигавшейся угрозой: отец и мать живут все эти годы вместе, не любя друг друга, отец верен ей просто из трусости или по привычке, вот так же, как он верен лютеранской церкви. Не лучше и соседи, чего бы они о себе ни мнили. Филистеры, безмозглые конформисты. С души воротит.
Он закрыл глаза. Все ложь.
Поезд двинулся так плавно, что поначалу, как всегда, показалось, будто тронулся с места вокзал. Читать он по-прежнему не может. Лезет в уши шум колес, которые бормочут неотвязчиво и монотонно, будто кто-то без конца бренчит на банджо; взгляд следит за тем, как ударяются об окно, прилипая к стеклу, хлопья снега. Поезд еще не выехал из Олбани, за кашей снежных хлопьев проплывают серые здания, затем дома поменьше с рождественскими елками в окнах, затем светящиеся в сумерках холмы, и вот замелькали домики и перекрестки небольших городов. Поезд часто останавливается, пассажиры входят и выходят, все повторяется снова и снова, как в кошмарном сне: гул голосов, мелькают стоящие в ожидании или бегущие люди, женщина из Армии спасения с колокольчиком, хлопья снега, беспрестанно бьющиеся в окно. Наконец начались горы – поезд как бы повис в темноте, только вздрагивал на поворотах, – и мутить стало поменьше. Минут тридцать Уиллард читал книгу, потом задремал, и ему приснилось, что он маленький мальчик и едет по лесу с отцом в парных салазках для перевозки бревен. Сон был сперва приятным, но понемногу стал меняться, и в конце концов, взглянув на отца, Уиллард неожиданно понял, что, хотя тот сидит очень прямо, чуть не касаясь шляпой звезд, он мертв. Вздрогнув, Уиллард проснулся, и в первый миг ему показалось, что поезд падает стремглав в широкое бездонное ущелье. Справившись с приступом страха, он прижался лицом к стеклу, приложил с обеих сторон ко лбу руки, как шоры, и увидел снег и безжизненные деревья, торчащие из снежного моря. Он опять откинулся на спинку сиденья, и на этот раз его так сильно замутило, что едва не вырвало.
В вагоне было темно, лишь над дверью мерцали красные плафончики. Дверь внезапно открылась, в вагон ворвался громкий грохот колес, и кондуктор, входя, крикнул:
– Ютика через двадцать минут! – Покачиваясь, кондуктор прошел по вагону – в свете красных плафончиков стекла его очков казались темными – поравнявшись с Уиллардом, наклонил к нему свое белое как мел лицо и машинально повторил: – Ютика через двадцать минут.
Уиллард кивнул, встрепенувшись, словно понял только сейчас. «У меня всего два доллара», – опять подумал он и, слегка вздрагивая от холода, сидел, крепко стиснув губы, пока не увидел в окне серые лачуги городских окраин. Тогда он поднялся, вынул из сетки чемодан и начал пробираться к выходу. Он чувствовал на себе взгляды пассажиров и торопился.
В дверях вагона ветер набросился на него, словно намереваясь сорвать с лица земли и унести в пространство, но Уиллард крепко вцепился в холодную ручку, а полы пальто прижал чемоданом и, спустившись на платформу, поспешил к зданию станции. Ветер неистовствовал, когда он сходил по ступенькам, но у вокзала, под прикрытием, затих. Уиллард поставил чемодан на землю, глубоко втянул в себя морозный снежный воздух и стал оглядывать платформу и освещенное здание станции. Ветер свистел между колесами вагонов, в металлических опорах навеса и, взметая хлопья снега, летел за угол вокзального здания. Скрипя, проехала почтовая тележка, чуть не задев его чемодан, вокруг, смеясь и разговаривая, сновали люди в запорошенных снегом пальто и шляпах. За углом вокзала какие-то приезжие садились с багажом в машины, и в метельной тьме перекликались мужские и женские голоса. Большие двери позади него то и дело распахивались и захлопывались, закутанные фигуры мелькали в снежной пелене.
– Какой вагон на Батейвию? – крикнул сердитый голос, и Уиллард на мгновение увидел бородатое, пересеченное шрамом лицо. Пар, вырвавшись со свистом, заклубился вокруг колес, вагоны тронулись. Замелькали лица пассажиров. Потом внезапно перед его глазами оказались пустые пути, крытые переходы, светофоры и темнота. Когда покачивающийся красный огонек последнего вагона скрылся в ночи, Уиллард повернулся и вошел в зал ожидания.
В большом сводчатом зале не было ни одного знакомого лица. На скамьях, напоминающих церковные, не разговаривая, с унылым и чопорным видом сидели укутанные в теплые пальто и шарфы пассажиры. Рядом с толстой женщиной спал, лежа на скамье, малыш лет двух или трех в теплом зимнем комбинезончике, и на секунду у Уилларда перехватило дыхание.
Он подумал о своем незаконном ребенке, которого ни разу в жизни не видел. Подумал с беспокойством, увидит ли его на этот раз? Поглядел по сторонам. В дальнем конце зала находился зеленый металлический газетный стенд. Он торопливо бросился к нему, и на смену неприятной мысли о ребенке сразу явилась другая – о бомбе. Уиллард Фройнд все больше и больше страшился – хотя временами он и сам понимал: все это вздор, – что глупость рода человеческого, и в особенности американской демократии, движет мир к гибели, и час ее недалек. Обычно молчаливый и застенчивый, он уже несколько раз, немного выпив, высказывался на эту тему перед ребятами в Олбани, когда все собирались в полутемном салуне, проигрыватель крутил серию пластинок в сорок пять оборотов – Чайковский, Кентон. Едва придерживая губами болтающуюся сигарету и выставив вперед голову и плечи (какой-то киногерой так ходил, может быть, Марлон Брандо), он распалял себя мрачными перспективами, лишь отчасти сознавая и не говоря своим слушателям, что сам он потеряет на этом больше других. У его отца самый большой в их округе амбар, сводчатый, как ангар, а под ним просторный, как стадион, коровник. Работники отца, будто на фабрике, снуют между стойлами, перетаскивают с места на место доильные аппараты, спускают сено вниз по наклонным лоткам и ставят бидоны на сверкающую металлическую тележку, которая отвозит их к холодильнику. Он сказал отцу, что девушка беременна, что он хочет на ней жениться. Тот засмеялся, потом его взгляд стал суровым, и, не говоря ни слова, он влепил Уилларду пощечину.
«Не путай шуры-муры с делом», – сказал он, и Уиллард вспыхнул от гнева и от стыда: ведь это правда, он ее не любит, хотя при одном только виде «Привала» его пронзает боль желания, и владения Генри Сомса, жалкая пристройка и закусочная, одно время служившие ему убежищем от механизированного, хладнокровного, стяжательского зла – «У. Д. Фройнд и сыновья. Молочная ферма», – стали для него тем, чем и казались на посторонний взгляд: приютом убогих доморощенных соблазнов. В бешенстве он сдернул крышку с ближайшего к нему большого бидона и опрокинул его – на пол хлынуло густое теплое парное молоко. Отец, вскрикнув, с опаской отступил на шаг, а Уиллард расплакался и выбежал из коровника. Надави он на отца, и вышло бы по его, ведь добился же он позже права бросить сельскохозяйственное училище и заняться английским языком. Но тогда он просто возвратился в Корнелл и все так же получал от нее письма, а сам маялся от собственной нерешительности, но ничего не предпринимал. Отец, конечно, сволочь, но в одном он прав: набожные, елейные, неосновательные валлийцы для него чужие, у них нет с ним ничего общего. Впрочем, совесть его мучила, что верно, то верно. Но, выпив, он ораторствовал о политиках, чудовищах своекорыстия, и о бизнесменах, о поразительной их ограниченности и толстокожести. Во время этих разглагольствований он, всегда такой сдержанный, тихий, ужасаясь, вспоминал своего друга, или бывшего друга, Генри Сомса, чудаковатого отшельника – Генри тоже, приходя в раж, нес бог знает что, как пьяный или сумасшедший. Слушатели усмехались, крутили пальцем возле головы и говорили: «Не все дома». Вспомнив Генри Сомса, Уиллард замолкал, щипал себя за верхнюю губу (это у него тоже от Генри), сжимал губы и угрюмо опускал глаза. «Фройнд, скажи, что тебя точит?» – спрашивали иногда ребята из землячества. Но он не мог им рассказать, хотя сами они по целым дням бахвалились своими мужскими подвигами. Еще в Корнелле он рассказал как-то – это было кошмарно. Я хочу снова стать ребенком, думал он.
У газетного стенда он просмотрел заголовки и пробежал глазами передовицы – сколько было видно до сгибов, все время сохраняя принужденное, замкнутое и обиженное выражение лица. Никаких новых сведений. В газетах их никогда нет, есть только треп, которым сильные мира сего угощают зажиревшую довольную толпу: новое искусственное озеро, где можно покататься на моторке, новая длина юбок – нельзя же без перемен. Слезы навернулись ему на глаза. Откуда-то сзади доносились звуки рождественской музыки.
Он вошел в мужскую туалетную комнату, посмотрелся в зеркало и, немного подумав сперва, умылся и расчесал волосы пальцами. Могли бы догадаться, каким поездом он приедет, если бы взяли на себя труд поразмыслить, если бы вообще хоть немного понимали собственного сына; могли бы даже догадаться, что он забудет прислать телеграмму о своем приезде. Легко, конечно, говорить: «Подумаешь! Все это пустяки». Еще бы не пустяки. Он мог бы и отсюда позвонить домой и подождать здесь до утра, пока за ним приедут (отец водит машину как бог. В темноте его огромный серый «кадиллак» мчится по середине дороги, так что встречные только держись). Добраться можно и на попутной машине. Пустяки. Так спокойно, по-взрослому это звучит. Но ведь далеко не пустяки. «Лицемеры», – подумал он снова, более запальчиво (он знал), чем в первый раз. Обычная история… Отец скупил у Бена Уолтерса по дешевке всех приличных молочных коров, бессовестно воспользовавшись его тяжелым положением, и, когда они везли их на грузовике к себе на ферму, отец со смехом говорил: «Бедняга даже не подозревает, как я его обчистил!» Уиллард сказал тогда: «Зато я знаю, а?» – и глянул исподлобья, как Рой Роджерс. Ему тогда было четырнадцать лет. Отец посмотрел на него, усмехнулся и оглянулся на дорогу. А немного погодя сказал: «Тут ведь кто кого: если не я его, так он меня». Сейчас Уиллард мысленно ему ответил с опозданием на шесть лет: «Куда там! Вы с ним только на свет родились, и уже было ясно: не он тебя, а ты его. – И добавил: – И меня. С первых же шагов подрезал мне поджилки».
И опять (встретившись взглядом со своим отражением в зеркале) он с печалью подумал о собственном сыне, ведь и ему тоже подрезали поджилки еще до рождения, старик словно заранее все обдумал и организовал. Но сейчас уже поздно беспокоиться по поводу ребенка. И о матери уже поздно беспокоиться, тем более, ей это ни к чему. В горле встал комок. Уиллард глотнул и старательно заморгал, сердись на себя за глупую слезливость. Ай да Кэлли, ловко она устроилась. Каким-то образом женила на себе старого толстяка Генри Сомса, хоть и сердечник, и все прочее… Слезами, наверно, разжалобила или вошла к нему голая в спальню, а может, сказала своему папаше, что это Генри ее соблазнил. Три года назад он никогда бы не поверил, что она способна на такое; поразительно наивен был он в те времена. Он себя тогда считал расчетливым: каждый раз, когда, расставшись с ней, он лежал без сна, его терзала мысль о том, как она прелестна в своей чистоте и невинности, и какой же он при этом негодяй: завлекает ее постепенно и не в состоянии остановиться; он подлец, но он хоть знает, что подлец, верит в недоступное ему добро… впрочем, это неправда, все ложь, все, что он твердил себе когда-то, подумал он, все это ложь. Он и сам не знал до последней минуты, хочет ли он просто переспать с ней или жениться. Она у него третья, но те две прежние не были девушками, с ними он вообще не думал ни о чем таком. А о ней он хоть и думал, но ни до чего, собственно, не додумался, пока не узнал, что она выходит за Генри Сомса. Он как раз должен был уехать в Корнелл и уцепился за этот предлог, чтобы оттянуть решение, а дело вскоре решилось без него, ему крупно повезло… раз в жизни. И ничего нет такого уж удивительного, что Кэлли Уэлс оказалась расчетливой. Забеременела и начала соображать: что и как. Инстинкт, возможно. Но неужели она с самого начала все подстроила? (Норма Дениц сказала: «Дурак ты, Уиллард, у нее все было продумано заранее. И ты ей понадобился, чтобы подцепить добычу покрупнее: богатого больного старика». «Не верю», – сказал он. Но он верил, а точней, поверил на минуту, пока Норма хохотала. «Ха! Мужское тщеславие! Если бы мужчины были способны поверить правде о женщинах, они перестали бы с ними спать». Вот здесь она, однако, ошибалась. О Норме Дениц он знал правду. Он для нее не значит ровно ничего. «Люблю это занятие, – говорила она. – Корабли сшибаются ночами». И все-таки он от нее не уходит. Он, возможно, даже женится на ней когда-нибудь, если она избавится от своих неврозов.)
А ведь Генри не дурак. Выходит, и у него был расчет? Неужели Генри сам же все подстроил: нанял помощницу, которая была ему не нужна, – возможно, даже знал, что она крутит с Уиллардом? – оставлял ее в иные дни работать допоздна и следил за ней неотступно свиными глазками, вожделея, как утверждает Норма Дениц? Было время, он чуть не каждый вечер ходил к Генри. Возился в гараже или засиживался за беседой в пристройке. Мать относилась к этим визитам с недоверием, с каким-то даже отвращением, и, когда Уиллард понял, в чем она его подозревает, он пришел в бешенство. «Он хороший человек, – орал он вне себя. – Ему хочется поговорить с кем-то, поспорить. И больше ничего». Мать сделала вид, что он ее убедил, зато сам он после этого разговора уже ни в чем не был убежден.
«Когда человеку больше тридцати, идеи не играют в его жизни важной роли, – говорил один из их преподавателей. – Идея – это игрушка или орудие, способ развлечься или добиться своего». Вот это уж точно неправда.
Неожиданно он понял, отчего его мутит по мере того, как он приближается к дому. Он возвращается в страну своей невинности, в залитый солнцем сад, где все эти годы он, невзирая ни на что, верил в родительскую любовь, в чистоту и целомудрие девушек, по крайней мере некоторых девушек, в возможность бескорыстной дружбы. Он возвращался, зная, что, наверное, все это один пшик, но, опасаясь, как бы все это и впрямь не оказалось пшиком, он все же возвращался и надеялся найти там свою святыню.
Он решил поехать на попутной машине. Не даст он в руки старику такого козыря, чтобы тот потом разорялся, как он полночи ехал сквозь снег, по льду, и тому подобное, будто почтальон какой, и чтобы пилил потом Уилларда за то, что забыл прислать телеграмму. При таком холоде вряд ли кто-нибудь, кроме пьяниц или педиков, соизволит остановить ради него машину. Ведь человек, который голосует на шоссе, опасен, как всякий незнакомец. Пьяница может остановиться по глупости, педик, потому что у него своя цель. Порядок.
Он доехал автобусом до конечной остановки за чертой города, вышел на шоссе и стал ждать.
2
Когда Уиллард проснулся, в машине было тепло. Они медленно двигались по шоссе. По радио звучала тихая рождественская музыка в исполнении оркестра. Все тот же странный запах, как на похоронах. Хозяин автомобиля, подавшись вперед, крепко держался обеими руками за руль. На руках росли светлые курчавые волоски. Они едут сейчас по городу. Улицы заснеженные, безлюдные, и сквозь густой поток снежинок, устремляющихся к ветровому стеклу, не разглядеть, что происходит по ту сторону перекрестка. Уиллард обхватил себя руками, сжал колени и смотрел, как, тускло вырисовываясь, выплывают друг за другом из мглы освещенные окна витрин и уличные фонари. Время от времени машину заносило, очевидно, она попадала на лед. Висящие над серединой улицы венки вдруг возникали, а затем скрывались за крышей машины, угрюмые, с погашенными лампочками. То здесь, то там виднелись приткнувшиеся у обочины автомобили, выше колес увязшие в снегу. А потом город кончился, и за окном теперь мелькали темные фермы и высокие сугробы, с которых ветер струйками сдувал снег.
– Вы что, вздремнули? – спросил хозяин машины.
– Да, немного, – ответил Уиллард. Он вынул пачку сигарет и закурил. Его отражение в ветровом стекле было похоже на Хамфри Богарта, или Джеймса Кэгни, или кого-то еще, и, когда он заметил это, ему одновременно стало и приятно, и тошно. «Строит из себя, – подумал он, – сопляк». Это тоже из какого-то фильма. Даже отвращение к себе у него какое-то вторичное, дешевая показуха. Он выпустил дым и глубоко вздохнул, но не почувствовал облегчения.
– А метель-то еще пуще разгулялась, – сказал человек, сидевший за рулем.
– Вижу. – Он внимательно разглядывал отраженный в ветровом стекле ярко-красный огонек сигареты и пытался сообразить, много ли они уже проехали. Потом он повернулся к хозяину машины. Среднего роста, упитанный, вполне преуспевающий на вид. Теплое коричневое пальто, вероятно английское. Из-под полей дорогой шляпы виднеются темно-русые волосы, а на макушке, наверное, лысина. Лицо женственное, дряблое. Видно, он доволен собой, доволен, что ведет «олдз-98», доволен, что подобрал на шоссе какого-то беднягу, поспешающего домой к маме.
– Вы едете домой на каникулы? – спросил он.
Уиллард кивнул и подумал: «Нет. Я еду навестить своего внебрачного сына и его шлюху-мамашу». (И вовсе нет. Он будет от них прятаться, постарается с ними не встречаться.) Он опять закрыл глаза.
– Я так и думал, – сказал тот, довольный. – А я еду в гости к дочери. Мы всегда проводим вместе рождество.
– Как это мило, – сказал Уиллард, тщательно скрывая иронию. Он затянулся и задержал на мгновение дым. – Близким людям необходимо поддерживать друг с другом связь.
Хозяин машины взглянул на него. Чуть погодя улыбнулся.
– Я всегда к ней езжу на рождество.
Как же, и подарочки привозишь. Ах папочка, ты такой заботливый!
Сэр, ваша дочь беременна. Она забеременела от велосипеда со снятым сиденьем. Она не решается вам об этом сказать, опасаясь вашего неодобрения. Сообщаю это вам из дружеских побуждений, сэр. Отец должен быть проинформирован, это вполне естественно. Его охватывала паника, а может быть, клаустрофобия. Он вспомнил, как нырял, купаясь в озере Лейк-Джордж, как рвался вверх, вверх, вверх, а воздуха почему-то все не было.
– Где вы учитесь? – спросил хозяин машины.
– В Олбани.
Тот кивнул, довольный как будто и этим, но сказал:
– Я имею в виду, на каком вы курсе?
– На первом я учился в Корнелле, – сказал Уиллард. – Потом перевелся.
Тот подумал и сказал:
– Понятно.
– Я перевелся потому, что там лучше условия жизни.
Чтобы жить с потаскухой, сэр. К счастью, ваша дочь не потаскуха. Хотя от бремени она разрешится велосипедом.
– Так вы думаете, в Олбани лучше условия жизни? – Нелегкое у него было занятие – следить за практически невидимой дорогой и поглядывать все время на Уилларда, он вертел головой то туда, то сюда.
– Гораздо лучше. Мягче, так сказать. – Он добавил после паузы: – Вообще-то условия жизни делятся на два вида: жесткие и помягче.
Мужчина засмеялся и кивнул, потом, казалось, задумался над словами Уилларда, склонив голову набок и морщась, словно прикусил язык. Уиллард спросил:
– А чем вы занимаетесь?
– Занимаюсь я, собственно, – ответил тот, – цветами. – Он пояснил: – фирма «Дж. Э. Джонс» в Ютике. Наверно, слыхали. Джонс умер много лет тому назад. А дело купил я. Фамилия моя, собственно, Тейлор. Но почти все меня называют Джонс. – Он засмеялся. – Банковский счет у меня выписан на Джонса, а на мою фамилию оформлен другой. Во избежание путаницы, для личных расходов.
– Вон как, – сказал Уиллард. И добавил, не думая, ничего не имея в виду: – У меня ведь тоже две фамилии.
– Да? – Хозяин машины недоверчиво на него покосился.
Но Уиллард вспоминал сейчас отца Нормы Дениц. Психоаналитика. У него были курчавые каштановые волосы, разделенные пробором посредине, томные глаза, лицо белокожее и мягкое, как задница, бесстыдно теплые пальцы. Он рассказывал о пациентах, о том, как один человек насыпал в спринцовку своей жены щелок, впрочем зная (не без оснований, сказал отец Нормы), что жена спринцовкой никогда не пользуется. Он держал бокал с двойным мартини в мягкой розовой руке, и, хотя находился у себя дома, на нем был его бесстыдный коричневый костюм, жилет и галстук бабочкой. Мачеха Нормы надела блестящее белое платье с таким низким вырезом, что каждый раз, как она наклонялась, выставлялось напоказ ее единственное, щедро отпущенное природой достоинство. Ей сорок восемь, но она сделала себе пластическую операцию. Супруги Дениц исповедовали «новую мораль», однако, когда Норма встала, потянулась, держа в протянутой руке бокал, словно провозглашая тост, и жестом позвала за собой Уилларда в спальню – принимала его, и хоть бы что, под самым носом у родителей, – он ощутил их прикрытую улыбками ярость, прокатившуюся по гостиной, как электрический разряд. «Лицемеры». Он внезапно выпалил:
– Я думаю, торговать цветами – дело тонкое, не всякий сумеет.
– Да вообще-то, – неуверенно ответил тот, – к этому делу нужно призвание, вы правы.
Снег валил вовсю. Горы и лес не пропускали ветер, и по обочинам шоссе громоздились высокие, как будто сброшенные гигантской лопатой, сугробы.
– Я не о том. Вы должны точно знать, какие именно цветы купить, не то они у вас завянут. Подгадать, чтобы их было всегда достаточно, но без излишка, да еще убедить людей, чтобы покупали.
– В общем, да, – ответил тот, – но, собственно…
– Кроме того, необходимо проявлять интерес к людям. Школьник окончил школу, нужно вести себя так, будто это и впрямь событие; скончался дядюшка Элмер – у вас печальный вид, или, скажем, девушка выходит замуж…
Человек, сидевший за рулем, пристально смотрел на Уилларда, а машина медленно приближалась к заградительному барьеру. Джонс сказал:
– Меня интересуют люди. Я же говорю, к этому делу у некоторых есть призвание, а у некоторых нет. По-всякому бывает.
– Ну, конечно, конечно, – ответил Уиллард. Он прикурил от своей сигареты. – Поговорить очень полезно иногда для тонуса – вырастаешь в собственных глазах. Но одно и то же изо дня в день… – Он внезапно замолчал, в тревоге глядя на заградительный барьер. Джонс резко повернул руль, автомобиль немного занесло, потом он выровнялся. Оба они испугались и на некоторое время замолчали. Из радиоприемника по-прежнему неслась механически сентиментальная, позвякивающая металлом музыка. Хозяин машины плотнее уселся на сиденье и повел ее еще медленнее. Въехали в город. В окнах ни огонька, лишь кое-где сквозь кутерьму снежинок просачивается свет рождественской елки или обвитой вокруг крыльца гирлянды цветных фонариков. Автомобиль, большой и мощный, быстро двигался по пустынным улицам, приближаясь к центру города. Их тряхнуло на железнодорожном переезде, и снова открытое поле, наваленные грейдером сугробы, а между ними шоссе – как тоннель.
(Ребенок родился три года назад, как раз под рождество. Уиллард в это время жил дома, он даже нашел себе работу в Пурине на время каникул; но проработал всего два дня. Вернувшись в училище, он напился и все рассказал парням из общежития. Рассказал и сразу же понял, что он натворил. Кэлли в их глазах была обыкновенной деревенской потаскушкой, и его поступок их ничуть не удивил. А вот отчаяние его – удивило. Его отчаяние они вертели так и сяк, словно дохлую черепаху, – кто со смехом, кто с сочувствием, кто нахмурившись, смутившись, оттого что он так много наболтал. После этого ему неловко было встречаться с ними в коридорах. Впрочем, ничего страшного. Он перешел в другую школу и никогда больше не повторял своей идиотской ошибки. Сейчас-то он их знает, знает все их разговоры о девушках, которых им удалось испортить, и о том, какие они бывалые ребята.)
Уиллард наконец сказал:
– На рождество у вас, наверное, самый разгар торговли. Как это вам удается вырваться и побывать в гостях у дочери?
– У меня есть помощники, – ответил тот.
– Вы им доверяете?
Снова владелец машины, забыв о дороге, уставился на него. Он начинал тревожиться.
– Конечно, – сказал он.
– Может быть, вы правы, – сказал Уиллард. На него опять наползала тошнота. – Преступать закон – нерасчетливо. Быть честным – самый легкий способ преуспеть. А мы, конечно, все стремимся к преуспеянию. Особенно на рождество.
Его спутник не отвечал, и полмили спустя Уиллард, с огромным трудом преодолевая тошноту, спросил:
– Вы ведь стремитесь к преуспеянию, не так ли, мистер Джонс?
Тот подумал и засмеялся.
– Может и так, – сказал он. – Это Америка.
Уиллард Фройнд, скрипнув сиденьем, отодвинулся назад и сунул руки в карманы. Книжки не было. Оставил в поезде. От дыма сигареты все время хотелось чихнуть, и, как от серы, резало глаза. Внезапно в туче снега перед ними вспыхнули желтые огни. Джонс щурился на ветровое стекло, но, кажется, их не видел. «Грейдер, – подумал Уиллард. – Опасность вовсе не там, откуда вы ее ждете, мистер Джонс. Я не собираюсь, как разбойник-головорез, буравить вас ножом, вас расплющит грейдер. Это Америка». Но, думая все это, он уже кричал:
– Берегись!
Джонс в ужасе рванул руль. Автомобиль заскользил боком, и нож грейдера ринулся на него как волчья пасть. В машину хлынул свет. За миг до столкновения Уиллард вскинул руки, прикрывая голову.
3
Когда он очнулся, он лежал навзничь на шоссе, укрытый чем-то вроде одеяла. Перевернутая вверх колесами машина косо торчала, привалившись к сугробу, одна фара выглядывала из-под снега, и каждая деталь автомобиля вырисовывалась неестественно четко в ослепительном потоке света, который струили фары грейдера. По-прежнему играло радио. Шоссе вокруг машины было усеяно осколками стекла, сверкавшими как бриллианты. В голове у него что-то, не смолкая, бормотало, как бормочут колеса поезда, чудились какие-то голоса. Футах в шести от него человек в защитных очках с толстыми стеклами и теплом шлеме, закрывавшем почти все лицо, так что виднелись лишь очки да подбородок, склонился над лежащим на дороге телом и рассматривал вынутые из бумажника документы. Уиллард снова закрыл глаза, остро ощущая твердость льда, приятный проникающий сквозь пальто холод, резкий запах мокрой шерсти, исходивший от одеяла. Он чувствовал, как падают снежинки на его брови и ресницы. С времен раннего детства он не помнил, чтобы тончайшие оттенки ощущений воспринимались с такой силой: казалось, тело его стало огромным-огромным, как ночь, и тихим. По-прежнему шелестели те голоса. Они звучали теперь настойчивее, внятно произнося отдельные слова и фразы, они упорно вторгались, как бы откуда-то со стороны, в его тихий отрадный покой. Наконец, окончательно уяснив то, что смутно понял и раньше – что над ним стоят люди, – он снова открыл глаза. Теперь он видел окружающее менее отчетливо. Ветер нес по дороге снежную пыль и вздувал ее, как пламя, заслоняя фигуры двух мужчин. Появилась еще одна машина, яркий свет ее фар перекрещивался со светом, падавшим от фар грейдера, образуя клин; Уиллард оказался в острие этого клина. Те, кто стояли возле него, были полицейскими. Один из них наклонился к нему, больше похожий на робота, чем на человека, лица не видно, лишь плоский невыразительный рот и вялый подбородок.








