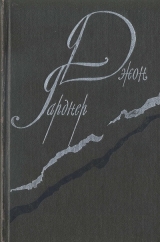
Текст книги "Никелевая гора. Королевский гамбит. Рассказы"
Автор книги: Джон Чамплин Гарднер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 32 страниц)
– Этот уже очнулся, – проговорил он металлическим голосом, как супермен из радиоспектакля. – Вы расшиблись? – спросил он.
– По-моему, нет, – ответил Уиллард. – Немного ломит голову. – Когда он сел, голову стало ломить нестерпимо, и желудок наполнила тусклая серая боль. Ему захотелось снова лечь, но он решил не ложиться. Локтями он оперся о шоссе.
– Не спешите, – сказал полицейский.
Лежавшее посреди дороги тело было завернуто в плотную серую ткань. Значит, он умер. «Бедняга, – подумал Уиллард. – У дочки будут тяжелые роды. Скособочится переднее колесо, а тут ведь еще педали». Он остановил себя с испугом.
Полицейский спросил:
– Вы его знали? – Он указал на труп овчинной рукавицей.
Уиллард кивнул, потом покачал головой.
– Он подобрал меня на шоссе, подвез. Он сказал, его фамилия Тэйлор.
– Где он подобрал вас?
– В Ютике. Я еду из училища домой. В Ютику приехал поездом.
Полицейский все выслушивал, за толстыми стеклами защитных очков в его памяти откладывалось каждое слово, а потом в теплой машине он, наверно, все запишет.
– Куда вы направлялись?
– В Новый Карфаген. Там живут мои родители. – Ему хотелось спросить, где он находится сейчас.
Полицейский спросил:
– Вы сможете дойти до машины?
Уиллард встал с помощью полицейского и обнаружил, что ноги его слушаются. Внутри машины было настолько жарко, что не вздохнешь, во всяком случае, так ему сперва показалось. Работала рация. У дверцы двое полицейских о чем-то переговаривались, потом пронесли что-то мимо окна и засунули в багажник. Они сели в машину, и тот, что был за рулем, поднес ко рту микрофон.
– Мы привезем тело на машине, – сказал он. – В такую погоду нет смысла присылать сюда людей.
Потом он медленно повел автомобиль между снежными наносами, возвращаясь тем же путем, каким прибыл сюда. За ними следовал грейдер. Уиллард зажмурился, и тотчас же на них снова ринулся нож грейдера, вспыхнул стремительный и слепящий свет фар. Один из полицейских, сидевших на переднем сиденье, что-то сказал, второй засмеялся.
Местный полицейский пост, расположенный чуть в стороне от шоссе, представлял собой перестроенный фермерский дом, сзади которого помещались строения, напоминающие курятники и служащие гаражами для полицейских машин. Все это он разглядел позже, когда взошло солнце и утихла метель: белые заносы до самых горных подножий, снежные холмики на крышах гаражей и заснеженные ветки, такие ослепительно яркие, что смотреть больно. С крыши гаража свисали сосульки, а под окном, у которого он стоял, наметены сугробы. Мир был тих и прекрасен в то утро, но также и страшен своей пустотой; впрочем, все это позже. Пока не рассвело, он видел только комнату, куда его отвели и велели подождать. Эта тускло освещенная комната чем-то напоминала приемную дантиста в небольшом городке. Письменный стол, календарь, две лампы – вот, пожалуй, и вся обстановка. С внешней стороны окна нечто вроде решетки, не железные прутья, а, скорей, что-то похожее на сверхпрочное заграждение от урагана. Из-за закрытой двери время от времени доносились отрывки разговоров, иногда голос, передающий сообщение по рации, стук пишущей машинки. Лежа на холодной зеленой кожаной кушетке, он то прислушивался, то погружался в дремоту. Он вспоминал свой разговор с торговцем цветами, метель, катастрофу, перебирал все опять и опять, это было как наваждение, от которого невозможно освободиться. Ему сказали, должен приехать врач и осмотреть его. Это показалось ему странным. Если они считают, что с ним что-то не так, почему бы не отвезти его прямо в больницу? Размышлять, однако, бесполезно. Уиллард чувствовал: в данный момент он запутался в разветвленной паутине их загадочной кипучей деятельности. Полицейская система со всех сторон наполняла воздух, она не была ни дружественной, ни враждебной – просто методичной: рация в соседней комнате что-то рявкала и бормотала по временам – весь штат на линии, и из пыльной картотеки в мгновенье ока извлекается нужная бумага по запросу полицейского офицера, находящегося у Ниагары. И опять он видел устремляющийся на них нож грейдера, неподвижное тело на дороге, закутанных полицейских, что-то проносящих мимо окна автомобиля. Вошел полицейский и спросил, не хочет ли он кофе. Его лицо (безвольный подбородок, тусклый взгляд) было не враждебным, а лишь безучастным, как те спрятанные защитными очками лица на шоссе. Он долго где-то пропадал и принес наконец кофе в толстой дешевой ресторанной чашке.
– Я потерял бумажник, – сказал Уиллард. Полицейский смотрел на него, пожалуй, полных две секунды, и тут Уиллард в первый раз удивился, как он мог выронить бумажник из заднего кармана брюк, если карман был под пальто. Он спросил: – Я что, задержан?
Полицейский ответил:
– Кажется, вас еще должен осмотреть врач.
Лишь через несколько часов (когда небо посветлело и утих ветер) приехал врач. С ним явился верзила и пальто, рыжий с маленькими раскосыми глазками. Рыжий уселся за письменный стол и задымил угольно-черной трубкой, а врач тем временем дубасил Уилларда в грудь и надавливал ему на живот пальцами. Десять минут спустя оба вышли, не сказав и трех слов Уилларду, а минут через двадцать рыжий вернулся. Он сел, закинув ногу на стол.
– Так, значит, вы студент, – сказал он. Когда он улыбался, лицо его становилось похожим на лисью морду. Он раскурил погасшую трубку.
Уиллард кивнул.
– Повезло вам, что остались живы, – сказал рыжий.
– Да, наверно.
Полицейский покачал головой, выпустил дым, продолжая держать в зубах трубку, взял со стола какую-то стопку бумаг.
– Он оказался под вами, наверно, это вас и спасло. Его тело послужило для вас чем-то вроде подушки. Если вы спали в тот момент, тогда это не удивительно.
Уиллард поднял на него глаза, но полицейский читал, не обращая на него внимания.
– Что вы имеете в виду?
– Непонятно, как вы остались в живых, – ответил полицейский. – Спящий еще мог не расшибиться: у него все тело расслаблено. – Он перевернул страничку. Затем сказал: – Странно, что ни вы, ни он не заметили грейдера.
Уиллард кивнул:
– Я объяснил человеку, который беседовал тут со мной ночью… – начал он. И вдруг похолодел. Тому, второму, он сказал, что спал, когда это случилось.
Рыжий ковырял в трубке разогнутой скрепкой, хмуро вглядывался в темное донышко чашки и как будто бы не обращал внимания на то, что говорит Уиллард. Но неожиданно сказал:
– Сержант с короткой стрижкой? – И быстро поднял взгляд, как раз когда Уиллард перепуганно кивнул. Кивнул и он, весьма собой довольный. – Это Том Уидли. – Он снова набил трубку, раскурил ее и долго сидел, просто дымя трубкой, с удовольствием разглядывая уплывающий к потолку дым.
Уиллард спросил:
– Мне можно уйти отсюда? Я почти не спал сегодня и уже рассказал вам все, что знаю.
– Более или менее все, да, да, – заметил полицейский все с той же безразличной миной, но каким-то странным тоном. Потом сказал: – Конечно, конечно. Он сделал было движение, чтобы встать, но не встал, как бы надумав задержать его еще на минутку, да и то из чистого любопытства. – Как это вышло, что вас не встречали в Ютике?
– Я забыл дать телеграмму.
– В самом деле? – удивился рыжий.
– Я рассеянный. Со мной такое часто бывает.
И снова полицейский вынул трубку изо рта и стал ковырять в ней скрепкой. Вдруг он резко спросил:
– Где вы живете?
Уиллард не сразу смог вспомнить. После паузы он сказал:
– То есть вы хотите спросить, где папин дом? Возле Нового Карфагена. Рокуотер-роуд.
Рыжий наконец встал.
– Ну что же, сейчас кто-нибудь из моих парней доставит вас домой. Это в общем-то не так уж далеко, а мы вас здесь порядком продержали.
На столе в передней комнате лежал его бумажник. Уиллард машинально открыл его, чтобы взглянуть, на месте ли деньги. Деньги были на месте. Все остальное тоже: кредитная карточка книжного магазина, книжка социального страхования, фотография Нормы. Кредитная карточка лежала не в том отделении, где обычно.
Сам себе удивляясь, чувствуя, как багровеет шея, он спросил:
– Деньги не краденые, это удалось установить?
Рыжий посмотрел на него с недоумением.
– Ну, вы ведь проверили номера серий?
Тот рассыпался смешком, как добродушный лис.
– Все в полном ажуре. – Он дружелюбно положил Уилларду на плечо руку. – Поосторожней с дочками психиатров.
И лишь когда он уже сидел в машине, ожидая, пока полицейский, который должен был отвезти его, отметится на посту, его бросило в пот.
4
«В кредит не торгуем», – гласило объявление в лавке Луэллина. А над кассой табличка меньшего размера: «Только наличные». В квартире за лавкой радио и сейчас передает рождественскую музыку, на сей раз в исполнении хора. Детский хор. Уиллард стоит у прилавка и ожидает, когда войдет, прихрамывая, старик Луэллин. Старик скоро будет здесь, он услышал, как над дверью звякнул колокольчик. Он и в сто четыре года, глухой, как бревно, все равно будет слышать свой колокольчик.
В магазине пахло солодом и натертым дощатым полом. Старик торговал всем, что могло понадобиться катскиллскому фермеру: бакалея, кухонная посуда и спиртные напитки – в передней части лавки; в задней – уголь, мазут, гвозди, сноповязальный шпагат, запасные части к доильным аппаратам, свечи зажигания, трубы свинцовые и из стекловолокна, веревки, кожаная упряжь, трехногие табуретки; держал он и кое-что для туристов: удочки, блесны, дробовики. Воспоминания Уилларда Фройнда здесь, в лавке, оживали с еще большей остротой, чем в отцовском доме. Сюда забегали после купанья или после того, как прокатились на велосипедах в Слейтер посмотреть кино, он и Малышка Рич, и Билли Купер, еще мальчишками.
Он рассеянно слушал музыку. «Украсьте чертоги». Мать сказала:
– Мы так рады, Уиллард, что можем угостить тебя снежком. Без снега – что за рождество?
Отец все утро откапывал трактор, который съехал с подъездной дороги и увяз выше колес.
– Элинор, да где же, в конце концов, кофе? – сказал он, и сразу руки у нее затряслись, и стала дергаться губа. Старик страшно разъярился, что Уиллард добирался домой в одиночку, не пожелал принять помощь от отца. Разъярился в ответ и Уиллард, и тем не менее, сразу же отдавая себе во всем этом отчет, он ощущал, как его затягивает давно знакомое чувство непоправимой вины, то же абсурдное чувство вины, которое он испытывал еще мальчиком, когда отец заставлял его даром вкалывать на ферме, в то время как он мог бы неплохо заработать в Слейтере, да к тому же еще старику ведь не угодишь. Шагу ступить не дает, сразу подрезал поджилки, подумал он опять, сжимая кулаки, но, заметив огорченное лицо матери, почувствовал себя виноватым и за ненависть к отцу. А затем, когда отец вышел из дома – на ферме было полно дел и, кстати, Уилларду не мешало бы ему пособить, – мать спросила:
– Уиллард, а почему бы тебе как-нибудь не заглянуть к Генри и Кэлли? Ты ведь был так привязан к нему. У них очаровательный малыш.
Он сказал:
– Да просто нет настроения, мама. Не спрашивай меня.
– Я никогда не видела тебя таким расстроенным, – сказала мать. – Это тот несчастный случай на тебя подействовал. Перестань о нем думать, сынок.
И потому при первой же возможности он улизнул из дому. Он прошел до города пешком три мили – солнце уже растопило на дороге ледяной покров, погода теплая, как в апреле, и от запаха тающего снега захватывает дух. Все время, пока он шел, его одолевали воспоминания – вспомнился тот день, когда они с отцом снесли курятник, завели за угол цепь для перетаскивания бревен, прикрепили к гусеничному трактору и рванули. Цепь натянулась, стенка курятника закачалась, на минуту зависла у них над головами и рухнула в грязь футах в шести позади них, взметнув высоко в воздух катышки сухого куриного помета, и отец торжествующе выкрикнул: «Хорош!» Его так и распирало от гордости: ведь додумался же он использовать цепь и трактор, и Уилларда переполняла гордость за отца. В другой раз отец перестроил старый комбайн, приварив к нему с каждой стороны по колесу. Они оказались единственными в округе, кому удалось убирать комбайном хлеб на горных склонах, и вся затея, включая покупку комбайна, обошлась им всего в двести долларов, так как отец скупал всяческую рухлядь у людей, у которых она все равно валялась мертвым грузом. Когда старик Фред Коверт увидел, как они использовали его бывший комбайн, он позеленел от злости. (Кто знает, может быть, тот, погибший, и в самом деле вкладывал душу в торговлю цветами, может быть, он и в самом деле любил потолковать с мамашами школьников, окончивших шестой класс.) На отцовской ферме у большого серого амбара сидели на цепи два молодых добермана. Отец спускал их с наступлением темноты, и, если кто-то незнакомый подходил к амбару, они могли перервать ему глотку.
Сзади звякнул дверной колокольчик, Уиллард оглянулся. В тот же миг кровь жарко обожгла ему лицо. Она стояла в дверях, наклонившись к ребенку, помогая ему перешагнуть порог. На голове у нее был повязан красный деревенский платок, дубленая куртка ей явно не по росту. «Его куртка, Генри», – подумал Уиллард.
– Ну, входи же, Джимми, – говорила она, и ее голос был мучителен, прекрасен. Он позабыл уже, как она говорит – по-местному, с распевом, голос, не более музыкальный, чем скрежет пилы, и вместе с тем невыразимо милый, для него по крайней мере. Кэлли располнела, и он единым движением сердца почувствовал, как некрасива она и как прекрасна. Задубевшие на зимнем холоде мускулистые ноги, жесткие, как у мужчины, руки, застиранная юбка, из-под подола которой выглядывает посеревшая комбинация. Промелькнула мимолетная шальная мысль: спрятаться. И тут она подняла голову и застыла в неподвижности, глядя на Уилларда. Кажется, совершенно бессознательно шагнула вперед и заслонила собою ребенка.
– Привет, – сказал Уиллард.
– Здравствуй, Уиллард. – Она ответила суховато, вежливо, на местный манер, и Уиллард в паническом ужасе понял: она его ненавидит.
Он посмотрел на ребенка, тот поглядывал на него, высунув голову из-за материнской юбки. Он был прелестен – белокурый, с грязной мордочкой, в залатанных выцветших джинсах с ширинкой на пуговицах. К глазам Уилларда прихлынули слезы, все вокруг стало расплывчатым, и он только смутно различал их силуэты. Он сказал:
– Рад видеть тебя, Кэлли.
Она слышала, что он говорит прерывающимся голосом, она отлично понимала, каково ему сейчас – видеть своего ребенка. Она ни слова не сказала, лишь смотрела на него. Потом – вот чудо – улыбнулась.
– И мне приятно встретиться с тобой, Уиллард.
– Леденцов! – грозно выкрикнул Джимми, сжимая кулачки.
Кэлли засмеялась и бросила беспомощный взгляд на Уилларда. Потом опять наклонилась к ребенку.
– Не приставай, Джимми, – сказала она. – Маме некогда.
Тут нагрянул с зычными воплями старик Луэллин, седовласый и краснолицый, как миллеритский проповедник.
– Превосходнейшее утро! Прошу пройти прямо сюда. Чем могу вам служить в это превосходнейшее утро? Гарантирую исполнение всех пожеланий!
Кэлли с ребенком скрылась за полками с бакалейным товаром.
– Пачку «Олд голд», – сказал Уиллард. – Как обычно. – У него ослабли колени.
Выйдя на крыльцо, он увидел сидящего в автомобиле Генри Сомса, заметил мешки у него под глазами, болезненно землистый цвет лица. Он был огромен и стар, как горы, и так же терпелив. Их взгляды встретились, но Генри как будто не узнал его, только озадаченно прищурился, будто пытался вспомнить.
«Мы были друзьями, – подумал Уиллард. – Иногда мы разговаривали полночи. Я мастерил у тебя в гараже этот свой идиотский драндулет».
Вот так и тот рыжий полицейский улыбался и делал вид, будто ничего не слушает, и по спине его пополз холодок. Может, помахать рукой, как будто он только сейчас заметил Генри? Нет, поздно. Уиллард спустился с крыльца и зашагал через дорогу, распечатывая на ходу пачку. Он шел и чувствовал на себе озадаченный пристальный взгляд. «Как в море корабли», – подумал он. Он закурил сигарету, она оказалась на редкость отвратной на вкус.
И тут у него за спиной голос Генри произнес:
– Уиллард?
Он замер, ослабев от страха, колени у него тряслись. Кое-как справившись с собой, он бросил сигарету и обернулся. Генри вылезал из машины, ухмылялся и кричал:
– Уиллард, чертяка!
С крылечка лавки на него смотрели Кэлли и Джеймс, маленькие, изящные, как статуи святых.
Удивляясь собственному самообладанию, Уиллард приветственно вскинул руку и помахал, а потом, не думая, даже улыбнулся. А потом – кто знает, почему – он повернулся к ним спиной и бросился бежать, прекрасно сознавая дикость своего поступка и в то же время ног под собою не чуя от радости. Они его простили. Ну еще бы! Разве даже сам он – даже Норма, если уж на то пошло, – не простили бы на их месте? Он бежал, гулко топая по утрамбованному снегу. Взбежав на склон и скрывшись за поворотом, так что деревья заслонили его от глаз Генри Сомса, он постепенно перешел на шаг и, продолжая улыбаться, думал: «Такая глупость, боже мой, и столько лет! Ночной кошмар, нелепый бред, жалкое и печальное видение из Платоновой пещеры!» День был яркий, поразительно теплый, отшагать пешком три мили до дому ничего не стоило. Он прошел по мосту, сам не заметив, как он спешит. «Я сошел тогда с ума, – думал он пораженный. – Все так просто! Нужно запомнить это на всю жизнь. Что бы ни случилось, нужно всегда это помнить». Он обещал матери что-то для нее купить, если зайдет в лавку Луэллина. Питьевую соду, что ли?
Но вот сзади послышался шум догонявшего его автомобиля Генри Сомса. Разумеется, они предложат его подвезти. Деваться некуда, и спрятаться негде, а если побежать к лесу, они увидят и подумают, что он спятил. Уиллард засмеялся, покраснел, так что щеки его залил девичий румянец, а потом повернулся к ним лицом и вскинул руки вверх: сдаюсь. «Форд» подъехал к нему, лязгая и урча, как Цербер, охраняющий врата рая.
– Уиллард, старина, ах ты курицын сын, – сказал Генри Сомс.
VIII. МОГИЛА
1
Все утро на кладбище, через дорогу, ниже того места, где они охотились, стоял серый грузовик и рядом с ним двое мужчин копали могилу. Присаживаясь передохнуть на камень или останавливаясь, чтобы помочь мальчугану перезарядить винтовку, Генри Сомс задумывался над тем, кому же она предназначена, эта могила. Ведь хоронят, скорее всего, знакомого – этим кладбищем пользуются только окрестные жители, – но ему никак не приходило в голову, кто бы это мог быть. Генри Сомс всегда одним из первых узнавал о рождениях и смертях, отчасти потому, что держал закусочную (он иногда по старой памяти так называл ее, хотя большая вывеска на фасаде нового здания гласила «ресторан», и называлась она теперь не «Привалом», а «Кленами», Кэлли утверждала, что так элегантнее), главным же образом потому, что Генри Сомс был такой уж человек – жил жизнью своей округи, как старая дева, и все события принимал близко к сердцу. Может быть, это мать Чарли Бенсона, подумалось ему, и он бессознательно снял шапку и с минуту простоял в задумчивости прижимая ее к животу и глядя вниз. Ей девяносто семь, в любое время можно ждать конца. Странно только, что он об этом ничего не слышал. Пожалуй, стоит на обратном пути подойти туда и спросить у людей, копающих могилу.
Это были настоящие, наемные могильщики, не родственники и не друзья покойного. Они натянули тент от солнца и работали неторопливо, методично. Небо было ярко-синее, как в разгар лета, к западу протянулись длинные, полупрозрачные перистые облака, и багровеющие клены стояли неподвижно, как бывает только во сне. Тень под деревьями казалась заманчиво прохладной (здесь, на открытом месте, солнце пекло, как в середине августа), и Генри вспомнил о ручье, невидном оттуда, где он сейчас стоял, и ему захотелось пить. Посидеть на прохладной и гладкой надгробной плите тоже было бы неплохо.
Джимми как будто бы еще не заметил грузовика, во всяком случае, им не заинтересовался. Ребенок, оказавшись в незнакомом месте, всегда сначала интересуется ближайшими предметами и уж потом переходит к более отдаленным. Ему хотелось знать, откуда взялась ограда из колючей проволоки там, где, с точки зрения четырехлетнего мальчугана, сроду не было ничего, кроме серой и жесткой сорной травы, кустов диких ягод и круглых больших камней. (В действительности же когда-то, много лет назад, здесь стоял дом, в котором жили три сестры, старые девы по фамилии Ридл. Если поискать, на участке можно и сейчас обнаружить черную печную трубу, заросшую лопухами и жимолостью, по-прежнему видны следы подъездной дороги и три каменных столба, оставшихся от коптильни. Сохранилась и старая груша: сухая, побелевшая и хрупкая, как кость, она торчала одиноко среди зарослей терновника, словно упрямый старик баптист, ожидающий Судного дня.) Мальчик норовил перевернуть каждую деревяшку, каждый плоский камень, попадавшийся ему, а потом, присев на корточки и облокотившись о колени, он внимательно разглядывал копошившуюся в лунке живность. Генри, стоя, терпеливо ждал или садился, если вблизи оказывался пень, и не торопил сынишку, не мешал ему. Пусть изучает мир, мальчику это полезно. Самому же Генри тоже не мешает отдохнуть. Он и так уже забрался довольно далеко от дома, док Кейзи бы его не одобрил. Если оглянуться, то под горой, у дороги, примерно в полумиле правее кладбища, виден дом и ресторан. Дом – маленькая белая коробочка в тени кленов и трех чахлых от старости сосен, вокруг, можно сказать, ни травинки, только шлак – шлаком посыпана площадка, где шоферы оставляют грузовики, а перед домом, немного левее – красные стены и черная крыша ресторана. На площадке сейчас лишь один автомобиль, «фольксваген»: кто-то незнакомый. Генри снова посмотрел на могильщиков и покачал головой.
Потом на время он забыл о кладбище. Несмотря на шум, который они подняли, пуляя в сучки и жестянки, им навстречу вышел кролик, и Генри в него выстрелил. Кролик подпрыгнул, когда в него попала пуля и, описав полукруг, плюхнулся на землю. Они подошли подобрать его.
2
В другое время Генри сразу подобрал бы кролика, почти не глядя, и, наверное, засунул бы его в парусиновую сумку, и, наверное, тут же бы о нем забыл. Однако мальчик никогда еще не видел мертвого кролика – насколько знал Генри Сомс, он вообще ничего мертвого не видел, за исключением разве что мух, – вот почему Генри остановился, крепко прижав к себе винтовку правым локтем и отведя дуло в сторону от мальчика; убитого же кролика он держал на ладони левой руки, так что Джимми мог рассмотреть его и потрогать. Он вгляделся в лицо мальчика, и на какой-то миг на него опять нашло это чувство, будто он вне времени, причастен, но бесстрастен, как человек, издали глядящий на горы, или как его отец, который сидел, бывало, на широком пне, огромный, неподвижный, и смотрел на бурундуков или прислушивался к тому, как течет ручей в горной долине, уносясь с журчанием навеки прочь и прочь. Или как сам Генри, который теперь все чаще сидит вот так, погруженный в мысли, никогда не посещавшие его прежде, удивленный и ошеломленный причудливой взаимосвязью вещей. Он видел лицо мальчика как нечто совершенно ему постороннее, словно лицо на старой-старой фотографии. Волосы у Джимми цвета чистой соломы, почти белые, но кое-где пронизанные желтизной и пыльно-серыми тенями. Они давно не стрижены, матери так больше нравится. Его голубые глаза отсвечивают розовым, как всегда при ярком свете, а брови, очень белые на разрумянившемся лице, раскинуты вразлет, как крылья. Он стоит, наклонившись вперед, штанишки у него сползли ниже пупа, руки заложены за спину, стоит, как маленький старичок, и разглядывает кролика с любопытством и без отвращения. И для него на миг остановилось солнце, если в мире четырехлетних оно вообще перемещается. Наконец он осторожно притронулся к мягкой и короткой шерстке на спине, к серо-коричневой шерстке с чистыми белыми крапинками (кролик был молодой) и провел рукой от кончиков ушей до опущенного вниз хвоста. Пуля угодила кролику в шею, перебив позвонок, и голова зверька лежала под каким-то неестественным углом: затылок прикасался к спине, как будто кролик в порыве восторга запрокинул голову. Крови было очень мало: небольшое пятно вокруг, казалось бы, незначительной ранки.
– Мы его убили, верно? – спросил Джимми.
Генри кивнул.
– Ты еще раз будешь в него стрелять? – Вот теперь мелькнуло что-то вроде отвращения, но преобладало любопытство.
– Нет никакого смысла стрелять в мертвых, – сказал Генри.
Мальчик продолжал поглаживать шерстку, еле прикасаясь к ней ладонью, и Генри понял, что не полностью ответил на его вопрос, поскольку не в стрельбе ведь тут, собственно, дело, мальчик хотел знать, что же такое смерть, каким образом можно освоить такую бессмыслицу, приспособить ее к миру водяных клопов, деревьев, гор, посетителей ресторана. Джимми спросил:
– А почему?
– Умереть можно только раз, – сказал Генри. – Сперва живут, а потом умирают.
Он смотрел не на Джимми, а на сосновый лес, начинавшийся выше по склону, футах в пятидесяти от того места, где они стояли, и за пределами участка, где находился дом сестер Ридл до того, как сгорел. В лесу царила глубокая тишина и было темно, как в церкви. Слой иголок устилал голую землю, и с какого края ни войдешь, во все стороны тянулись длинные и сумрачные коридоры, прямые и пустынные. Эти деревья посадили ребята из ССС [5]5
Civilian Conservation Corps – гражданский корпус по охране лесов и по мелиорации (трудовые лагеря для безработной молодежи).
[Закрыть] году в тридцать пятом.
Генри помнил, как он приходил сюда с отцом посмотреть на их работу. Дом сестер Ридл к тому времени уже сгорел. Отец усаживался на камень, покусывал сладкие белые стебли тимофеевки и чирикал что-то воробьям и жаворонкам, будто и сам принадлежал к птичьему племени и любил посплетничать с собратьями. Потом Генри раза два-три приходил сюда, когда узнал, что должен скоро умереть. Конфузливо, сентиментально (как он понял позже) он принимал какую-нибудь из отцовских поз: прислонял к широкому пню винтовку, опускал с ней рядом на пень свое большое, рыхлое тело, упирался локтями в колени, сдвигал фуражку на затылок и вглядывался в сумрачные коридоры, уходившие в темноту. Но он продолжал жить, принимал, когда нужно, таблетки, постепенно к этому привык, и ему вдруг пришло в голову, что у него ведь все иначе. Когда отец ходил сюда, здесь еще не было этих сумрачных коридоров, он смотрел на тощие молодые сосенки, на пышные травы, на птиц. Тогда отсюда было видно кладбище, узкие серые надгробья в тени кленов и буков, но оно его не интересовало. Если он смотрел когда-нибудь в ту сторону, то невозмутимым взглядом человека, сжившегося за пятьдесят лет с этой перспективой. Генри – хотя тогда он еще не понимал этого (нужно самому добраться до места, чтобы понять: здесь прежде бывал кто-то еще) – знал теперь, что это неизбежно. Все проходит, тому свидетельство каменные плиты над ручьем, и возбуждение страха не продолжается вечно, так же как все остальное. Больное сердце – начало мудрости.
– Посмотри на его глаза, – сказал Джимми.
Генри кивнул.
– У него глаза косые, верно? Почему это?
– Потому что он мертвый, – ответил Генри.
(Теща как-то спросила:
– Какое удовольствие тебе доставляет стрелять в беззащитных кроликов?
Он пожал плечами, а Кэлли сказала:
– Мама, да не суйся ты в его дела.
– Он стреляет в кроликов, чтобы не стрелять в баптистов, – сказал отец Кэлли. – Хе-хе-хе!
И Генри с долей праведной укоризны, как вспоминал он позже, возразил:
– У меня нет желания стрелять в баптистов. Совсем не в этом дело.
– Ну, и дурак ты чертов, – сказал тесть. Он держал в холодильнике пиво только для того, чтоб досадить жене, и ругался почище, чем полицейский.
– Это крест мой, – говорила она. Но он молился, когда у Джимми начались судороги, и Генри это понял, хотя Кэлли, может быть, не поняла. Помочь ребенку было не в их силах, отвезти его в больницу – вот все, что они могли. Джимми еще не исполнилось двух лет. Сперва глаза у него стали как у сумасшедшего, дикий, затуманенный взгляд умирающего животного. Генри бросился вынимать его из кроватки, а отец Кэлли заглядывал через его плечо (это произошло в их доме), и глаза ребенка были дикими и затуманенными, белым пятном светлело в темной спальне его лицо, он в ужасе откинулся, не узнавая отца; а потом, когда Генри взял его на руки, Джимми закатил глаза и весь окаменел, и отец Кэлли сказал: «Святый боже!» – и потом по дороге в больницу он начал молиться, а его жена сидела рядом с ним как деревянная, держа на руках внука и разжимала ему зубки прямо пальцами, а Кэлли как безумная смотрела прямо перед собой в ветровое стекло и злилась на отца чуть ли не больше, чем боялась за ребенка, и это тоже было естественно, думал Генри, и даже хорошо, да. Он мчался на такой бешеной скорости, будто за ним черти гнались, и просто диво, как им удалось целыми добраться до места.)
Но вот Джимми надоело заниматься кроликом, он утратил к нему интерес, и Генри подумал: «Ну, что ж, пора. Все в свое время». Он бросил кролика в сумку.
Мальчик спросил:
– Что они там делают?
Генри посмотрел в ту сторону, куда он показывал. Возле грузовика теперь стоял легковой автомобиль, и какая-то женщина смотрела, как работают могильщики. Эти приехавшие на автомобиле люди были нездешние – судя по виду, горожане. На мужчине был костюм и шляпа, а на женщине серое пальто и украшенная цветами шляпка. Старики.
– Они копают могилу, – ответил Генри и опять, как бы по рассеянности, снял шляпу.
– А вот и нет, – сказал Джимми, – они выкапывают кого-то из земли.
– М-м-м – промычал Генри. Машинально он поправил мальчику штаны и затянул потуже пояс. После этого он взял его за руку и они стали спускаться вниз.
– Там четыре человека, – сказал Джимми. – Раз, два, три, четыре.
– М-м-м – произнес Генри. Он на минутку остановился передохнуть и снова стал спускаться.
3
Мир Генри Сомса изменился: мало-помалу он все менее представлялся ему застольной беседой в кругу родственников и все больше – чем-то вроде богослужения, скажем, причастием или венчанием. В какой-то мере перемены начались после того, как они отстроили «Клены». Глядя, как воздвигается здание, Генри испытывал чуть ли не ужас, причем ужас внушал ему не только вид ресторана (он был вдвое больше, чем его старая закусочная, увенчан остроконечной крышей, как и те амбары, что ставили в Катскиллах в старину, за окнами и внутри помещения – ящики с цветами, в зале двенадцать столов и камин), его ужасало то, что с ним сделала жена: скатала всю его прежнюю жизнь в комок, как горстку сырой глины, и лепит теперь заново по собственному образу, ужасало его и то, как это все легко ей давалось и как он сам легко и даже радостно покорился в конце концов. Получалось, будто он давно уже этого хотел, да только не решался, хотя, бог свидетель, ничего подобного у него и в мыслях не было. Его, человека с устоявшимися привычками, от ее затей бросало в дрожь, и даже если бы не сейчас, а в молодости нечто подобное свалилось на него, его, возможно, и тогда бы затрясло, но он уже убедился: ее не остановишь, если что-то забьет себе в голову, то не вышибешь и колом – хватка у нее почище, чем у маменьки. Поэтому он уступил, и, уступив полностью, не только на словах, по своей воле выбрав то, чему не смог противиться, он испытал радостный подъем, как будто комната, в которой он находился, вдруг стала просторнее (к тому времени, надо сказать, его комнату действительно расширили) или как будто на длинном спуске он отпустил тормоз, который все равно не сдерживал хода машины. Вместе с Джимми он выходил к шоссе и смотрел, как работают плотники, а после них – садовники и маляры (с тех пор прошел уж целый год), и он гнал из головы все мысли о закладной и о том, не перестанут ли к ним теперь сворачивать шоферы грузовиков, и, точно в полусне, раздумывал о том, как же это получается, что из длинной цепи незначительных происшествий, нанизываемых одно на другое складывается человеческая жизнь. У него сложилась хорошая жизнь, он должен признать это теперь, когда есть время оглядеться, так как ему нечего делать по целым дням, кроме как присматривать за Джимми да иногда наводить порядок в счетных книгах. (Кэлли не мастерица вести счета. Цифры не уступают ей в непреклонности: двойки, четверки, шестерки с каменным упорством остаются двойками, четверками, шестерками. Сводить баланс – для нее такая же непосильная задача, как швырять бревна. Кэлли начинала плакать, и тогда за дело принимался Генри и в мгновение ока наводил в их бухгалтерии относительный порядок.) Что-то мистическое проявлялось в нем или, как говорила Кэлли, чудно́е. Своих мыслей он не облекал в слова: самая раздельность слов противоречила тому, что он теперь знал. Началось, возможно, с размышления о том, что принесла ему женитьба на Кэлли: если Кэлли и переделала его по своему образу, то образ свой – не знакомый прежде ни ей самой, ни Генри – она нашла в нем, в Генри Сомсе, состоявшемся благодаря ей, Кэлли. Ощутив это однажды с полной ясностью, он уже ни на ноту не сомневался в том, что новая жизнь, которую она для него слепила, была его жизнью, она пришлась ему впору, как в один прекрасный день, к его удивлению, ему оказалось впору старое отцовское пальто, и с этого момента он уже не просто носил эту новую жизнь, он слился с ней. Он чувствовал себя так, будто родился заново, превратился в нечто совершенно непохожее на прежнего себя, и эта мысль так его потрясла, что он все время к ней возвращался, вертел в уме то так, то сяк, как вертят стодолларовую банкноту. Впрочем, новая жизнь, которую он в себе обнаружил, еще не устоялась; она была зыбкой, переливчатой, как сон.








