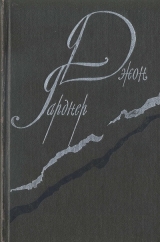
Текст книги "Никелевая гора. Королевский гамбит. Рассказы"
Автор книги: Джон Чамплин Гарднер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 32 страниц)
«Простите меня», – мысленно попросил он, думая об отце с матерью и о том, как был несправедлив к ним, как самоуверенно считал, будто что-то о них знает.
Мимо с ревом промчался грузовик, наращивая перед подъемом скорость. Генри замер, прислушиваясь, потом его мускулы постепенно расслабились. Ничего не выйдет, подумал он. Ему сегодня не заснуть, вот только разве он доведет себя до полного изнурения, но для этого надо пройти в обеденный зал, включить яркий свет и долго сидеть над какой-нибудь старой скучной отцовской книгой. Он спустил ноги с кровати, стал нашаривать домашние туфли, но не встал. И тут послышался шум – может, дверь задрожала от ветра, а может, кто-то постучал. Когда стук повторился, Генри узнал его, встал с кровати и крикнул:
– Иду, иду! Там открыто.
– Не вставайте. – Кэлли промокла под дождем и тяжело дышала: запыхалась от бега. На пороге его комнаты она остановилась и прислонилась к косяку. Некоторое время она молчала, все не могла отдышаться. Потом сказала. – Извините, что побеспокоила. Я увидела, у вас свет не горит, и испугалась, что…
Генри опустил глаза.
Кэлли вошла в комнату и остановилась у окна. Провела большим пальцем по корешку книги, и на темной коже остался блестящий след, но она смотрела куда-то мимо. Ее руки, заметил Генри, двигались неловко, словно чужие. Надо поскорее отправить ее домой, пока.
И тут она вдруг подошла к нему и мокрой головой уткнулась ему в грудь и уцепилась пальцами за его жирные плечи. Он ощутил, как под его руками вздрагивает от рыданий ее спина. Чужую беду он всегда чувствовал руками, на ощупь.
– Он хороший парень, Кэлли, и ты его любишь, – шептал он торопливо и бессмысленно, будто слова могли вытолкнуть жаркую тяжесть, от которой распирало грудь. И едва он произнес эти слова, ее мокрая голова прижалась к его рубашке. Хотя нет, не так – он ничего не говорил. Но почему-то она смотрит на него, смотрит так, как он и ожидал, и говорит:
– Нет, не люблю. Не любила. Не говорите ничего, мистер Сомс. Пожалуйста. Я ненавижу вас, когда вы говорите. Честное слово. Простите.
Ее лицо приблизилось к его лицу, она шипела на него, и от каждого слова у Генри становилось все горячее в груди. Он подумал, вот отправить бы ее куда-нибудь, чтобы она передохнула и разобралась в своих мыслях. Деньги, в конце концов, у него есть; денег у него для этого вполне достаточно.
Она сказала:
– Когда я увидела, что у вас не горит свет, я была уверена: с вами что-то случилось. Я просто не могла выдержать, вы ведь мне как отец, почти как… – Она запнулась. Его руки замерли у нее на спине. После долгой паузы она спросила: – Мистер Сомс, вы подумали, будто я?.. – Она отодвинулась и глядела на него с испугом.
– Что ты, Кэлли, – сказал он. – Не волнуйся. – У него тряслись губы, он растянул их в улыбке, как грустный клоун, и вспомнил, что в очках он похож на шпиона. Она снова прижалась к нему, как-то испуганно цепляясь за него.
– Ох ты, – прошептала она. А потом, будто одумавшись: – Ох, святый боже.
Боль в груди жжет, словно ногти вонзаются в кожу, вот забрезжил свет, а вот пламя свечи и пузырчатые, лоснящиеся обои из оберточной бумаги в номере старой гостиницы. Ее руки сразу стали вялыми от боли, припомнилось ему, и все же, плача, она продолжала тянуться к его руке. Теперь он понял, почему она тогда смеялась.
– Я люблю тебя, Кэлли.
– Мне не нужно было приходить, – сказала она. – Я сошла с ума.
– Я знаю, что ты чувствуешь, Кэлли. Я только хотел…
– Вовсе вы не знаете, что я чувствую. Дайте мне подумать.
14
Туман откуда только взялся, все вокруг затянуло туманом. Генри, облокотившись на руль, минут пять или шесть просидел в самом конце своей подъездной дорожки. Девушка, закутанная в старое армейское одеяло, сидела, обхватив колени, и дышала глубоко, как ребенок. Ее лицо было свинцово-серым в рамке окна. Фары машины всего на несколько дюймов ввинчивались в туман. Серые мглистые руки двигались над машиной и иногда, казалось, приподнимали ее и поворачивали в разные стороны, так что Генри не мог уже разобраться, а где же шоссе? Какой-то пьяница стучался у дверей «Привала» и кричал: «Генри! Эй, Генри! Вставай!» Генри не оглядывался. Где-то справа, далеко в горах, слышался вой машины. Кто-то, может быть, знакомый, вел ее на предельной скорости. Вот на склоне горы появился желтый свет, приблизился и вдруг, сменившись серо-черной тенью, мелькнул и исчез, его поглотил туман. Не сносить шоферу головы, если он будет закладывать такие виражи. Дуралей несчастный. Несчастный, нескладный, распущенный, жирный дуралей. Дыша неглубоко, чтобы так сильно не жгло в груди, Генри тихонько повел машину к 98-й миле – но на этот раз не вверх по склону, не к Никелевой горе, а все глубже в туман. Надо разбудить Фрэнка Уэлса с женой, и сразу вслед за тем – к доку Кейзи… хотя нет, к доку, наверное, утром; и на этот раз, слава господу, не как к врачу. Поскорее бы все провернуть, пока не чикнуло.
А впрочем, время есть. Может быть, перед ним еще годы. Целая новая жизнь. Однако все равно, с открытым окном ездить незачем. Когда окно открыто, трудней дышать. Нужно реально смотреть на вещи.
Он устал, он пропотел насквозь в плотном черном костюме.
(Никелевая гора. Вот где настоящая круча, а река холодная, пронизанная журчанием талых вод, сбегающих и падающих в нее с обрывистых берегов.)
Голова Кэлли опустилась ему на плечо, и от ее волос пахло юным и чистым. (А ведь он для смеха подначил меня, подумал Генри. Наверняка.) Как приятно чувствовать у себя на плече тяжесть ее головы; тяжесть, такую огромную, что еще чуть-чуть, и хрустнет кость.
II. ВЕНЧАНИЕ
1
Кэлли Уэлс стояла в комнате, смежной с гостиной; в обычное время здесь занимались шитьем. За ее спиной были закрыты обе двери. На ней было старинное валлийское подвенечное платье, но Кэлли, судя по всему, едва ли его замечала, просто стояла вот так, сложив руки и глядя в окно. Комната, погода, округлые голубые горы вдали – казалось, все прониклось той же тишиной, какую Кэлли ощущала в себе. Весь дом вокруг гудел, как улей, но Кэлли не замечала и этого.
Ей казалось, она впервые за много недель наконец-то осталась одна. Каждый раз она должна была что-то улаживать, принимать какие-то решения – куда поместить дядю Рассела и тетю Кейт (как-никак, они едут из Кливленда), что делать, если не поспеют к сроку заказанные в Ютике обручальные кольца, каким образом возить на репетицию тетю Анну, которая категорически отказалась ездить в грузовике дяди Гордона. Впрочем, едва ли прошло так уж много недель, их прошло никак не больше двух, потому что решено все было ровно две недели и три дня тому назад.
Отец вышел на кухню, моргая, как сова, придерживая рукой пижамные брюки, хмурый, злой как пес, а Генри церемонно произнес, держа ее за руку:
– Мистер Уэлс, я прошу разрешения на брак с вашей дочерью.
Кэлли сбоку покосилась на него и снова поняла, будто только что это открыла, какое искреннее восхищение он ей внушает, хотя некоторым кажется смешным, и ее охватил ужас от сознания, что ради нее он должен пройти через все это. Он мучительно стеснялся, да и трусил тоже, хотя был старше, чем ее отец. Он, несомненно, чувствовал себя таким же нелепым, как выглядел – здоровенный толстый увалень, на носу очки в стальной оправе, и уши прижаты так плотно, словно он всю жизнь носил тесную шапку.
Отец сказал:
– В два часа ночи? Ты что, рехнулся?
– Я говорю серьезно, Фрэнк, – ответил Генри. И весь дом, и ночь вокруг эхом подтвердили: он говорит серьезно.
Кэлли торопливо проговорила, крепче стиснув руку Генри:
– У меня будет ребенок, папа.
Отец побледнел, потом стал багровым. Кэлли никогда не видела его таким злым, казалось, он способен убить Генри (а ведь Генри мог бы надвое его разломить так же легко, как Принц перегрызает кости). Отец начал ругаться, но она опять вмешалась:
– Это не от Генри, папа. От другого.
Тогда он замолчал и глянул на нее, потом на Генри. Потом взял стул, стоявший у кухонного стола, и сел. Его щетинистое лицо осунулось, на голых боках, между ребрами, обозначились тени. Он жевал губами, хрустел пальцами, а слезы скатывались по носу и небритым щекам. Немного погодя он кликнул жену, и она вошла сразу же – она стояла за дверью, – запахивая пухлыми белыми руками купальный халат.
Кэлли сказала:
– Мама, мы хотим пожениться.
Лицо матери плаксиво исказилось, она судорожно разрыдалась, всплеснула руками, бросилась к дочери, стиснула ее в объятиях, всхлипывая и крепко прижимая к себе:
– Ох, Кэлли! Бедное ты мое дитятко! Не уберегли тебя!
В ответ Кэлли тоже заплакала навзрыд. Так они проплакали вместе минуты две, не меньше. Потом до сознания Кэлли дошло, что Генри стоит тут и что родители ведь ничего не понимают.
– Мама, – сказала она. – Я люблю Генри. Я счастлива.
– Деточка. Деточка моя! – пробормотала мать и снова бурно разрыдалась. Странное ощущение испытывала Кэлли: словно пол под ней движется, тихо-тихо шевелится, куда-то уносит ее, как в старой сказке, и что-то говорит ей. Она не старалась высвободиться из крепких объятий матери, но и не откликалась на них, она совсем от нее отделилась, еще миг – и возврата не будет. Мать это тоже ощутила, или, может быть, она заметила, что Кэлли уже не плачет, что-то изменилось.
– Мама, – повторила она, – я люблю его.
Прошел миг, и мать отстранилась, чтобы взглянуть на нее, расшифровать ее лицо, как старинное индейское слово. Она сказала:
– Любишь, Кэлли? Да ведь тебе всего семнадцать лет!
Кэлли не ответила.
Мать озадаченно молчала. Она была опечалена, испугана, но не только это: ее угнетало чувство, слишком глубокое для того, чтобы из него можно было выделить печаль и испуг; ей мерещилось: Кэлли в ночной темноте садится в утлую лодку, а она, ее мать, стоит на палубе громадного корабля, который уже отплывает прочь и никогда не вернется назад. Кэлли знала без слов, охваченная щемящей тоскою, что мать никогда не поймет до конца ее счастья, как и она не поймет до конца, что происходит в душе матери. Сейчас впервые, глядя все так же озадаченно, мать Кэлли подняла глаза на Генри. Она разглядывала его изумленно, словно все эти годы не замечала, до чего он нелеп. Он вынес этот взгляд терпеливо, как слон – исполинская глыба печали, руки заложены за спину, огромное брюхо выпячено, голова слегка склонилась набок и немного запрокинута назад. (Неужели мать не видит, что костюм гробовщика облекает человека мягкого и душевного – хорошего человека?)
Отец сказал:
– Это дело требуется обмыть!
Отцу любое дело требовалось обмыть.
Мать сказала:
– Я сварю кофе.
– Черта с два, – сказал отец. – Вовсе тут не требуется кофе. На хрен нам твой кофе, вот что я скажу. И ты скажешь то же самое, Генри.
Генри улыбнулся, обнажив выступающие верхние зубы.
– М-м-м, – ответил он уклончиво.
– Не надо браниться, Фрэнк, – сказала мать.
– Правильно, – сказал отец, – на кой… нам браниться? – Он достал бутылку «Джона Бима», два стакана из цветного стекла и лед. Он так нервничал, что с трудом вытряс кубики льда из металлического лоточка. Он пододвинул Генри стул и откупорил бутылку.
Мать подошла к плите, зажгла под кофейником газ, потом обернулась, испуганная, опять плача.
– Я забыла вас поздравить!
Она снова подошла к дочери и обняла ее так же крепко, как и в первый раз, и снова обе залились слезами, на этот раз счастливыми, во всяком случае, Кэлли – счастливыми, а мать все еще в нерешительности.
– Поздравляю вас обоих! – Это произнес отец, как герой какой-то телепередачи. Он встал и потянулся пожать Генри руку, второй рукой поддерживая пижамные брюки.
А потом они за разговорами просидели до рассвета, отец и Генри пили виски, а она рассказывала матери, как она счастлива, и с любовью смотрела на Генри (хмелея, он все величественнее выпрямлялся на стуле, улыбка его становилась все глупее, речь все сложней и выспренней… отец, впрочем, отвечал ему в тон). Ей хотелось крикнуть: «Ой, мама, да посмотри же, посмотри на него!» И все стаканы и тарелки за стеклом буфета ее понимали. Но родители, поймут ли? О самом важном сказать они не могут – ни она, ни мать. Они и не говорили о важном, а строили планы, и Кэлли удивлялась: неужели так всегда, когда выходят замуж? Они с Генри собирались оформить брак у мирового судьи, но мать настаивала на венчании… Выходят замуж один раз, говорила она; обряд венчания – священен; родня обидится. На органе будет играть тетя Анна, ведь не может же родная мать играть на органе во время венчания собственной дочери. Кэлли будет в белом.
– Мама, я беременна, – сказала Кэлли, – у меня уже виден живот.
– Это никого не удивит, – сказала мать.
Пусть так. Кэлли на все соглашалась. Говоря по правде, в глубине души она радовалась, что будет венчаться. Она сказала;
– Генри, ты как считаешь?
– О… чень хорошо, – ответил он, кивая, с вдумчивым видом. – О… чень мудрая концепт… тория…
Когда рассвело и запели малиновки, Генри и отец крепко спали, сидя на стульях, отец – распластав по столу руки и уткнувшись в них лицом, Генри же – выпрямившись, тихий и мирный, открыв рот, как спящее дитя.
А после этого до сего дня Кэлли сновала, носилась без отдыха, и все бегом. Когда тете Анне сказали, что Кэлли венчается через две недели, старушка посмотрела на ее живот зорко-зорко, словно вдевала нитку в иголку, и проговорила: «Так, так, так, так». Мать Кэлли заплакала, будто она сама и совершила грех. (В доме у тетушки Анны это иначе, как грехом, не называли, там на каждой стене висели изображения Христа и лиловые бархатные коврики, на которых золотом вышито: «Иисус-спаситель» и «Я – путь, истина и жизнь».) Затем, к изумлению Кэлли, сморщенное дубленое личико тети Анны осветилось ведьмовской ухмылкой.
Но вот все приготовления позади – приглашения на свадьбу, примерки, телефонные звонки, закончились споры, в какой комнате кого из родственников поместить и кто на какой машине поедет в церковь. Собралась вся родня, главным образом с материнской стороны, Кэлли никогда еще не видывала в одном доме столько Джонсов, Томасов и Гриффитов. Прямо тебе старинная валлийская сходка. Отец сказал, куда ни плюнь, собьешь с ног штук четырнадцать валлийцев. Дядюшке Хью это очень понравилось. Он хлопал себя по колену и все повторял эту остроту, перевирая ее от раза к разу все больше и больше. А отец будет теперь ее вспоминать лет пятнадцать, как он уже двадцать пять лет вспоминает другую свою удачную шутку: «Первый апрель – никому не верь. Отворяй телегу – ворота приехали!»
Итак, наконец может она побыть одна. Через полчаса дядюшка Джон отвезет ее в церковь, и там опять в последнюю минуту поднимется суматоха и суета, – все до мельчайшей подробности должно пройти как надо, в согласии с ритуалом. Кэлли подумала: лучше бы мы расписались у мирового судьи, а потом бы все им рассказали.
В старинном валлийском свадебном наряде она чувствовала себя неестественно, фальшиво. Другое дело, если б я была хорошенькая, думала она. Она прямо вздрогнула, когда первый раз взглянула на себя в зеркало, примеряя это платье. Оно оказалось теснее, чем она ожидала, и жесткая материя царапала кожу. От времени платье сделалось желтоватым, но, несмотря на это, в нем сохранилась какая-то мистическая чистота, непорочность. Костлявые запястья и большие, как у мужчины, кисти рук неловко торчали из кружевных манжет. Лицо выглядывало из-под приподнятой вуали хмурое, с крупными и резкими чертами. Не было впечатления невинности, нежности, ясности – одна угловатость. Кэлли сказала:
– Оно мне не подходит.
– Кэлли, не глупи, – сказала мать. – Мы его чуточку подгоним, вот и все.
Она ответила с яростью:
– Я имею в виду, что это платье не для меня.
– Вдохни поглубже, – сказала тетя Анна.
Потом они накололи платье булавками, мать сделала шаг назад, осмотрела ее и улыбнулась со слезами умиления, не замечая, какой у дочери кошмарный вид. Тогда и Кэлли залилась слезами.
– Мама, – сказала она, – у меня слишком большие ноги.
– На одной свадьбе, где я играла на органе, невеста споткнулась и сломала руку, – сказала тетя Анна.
– Мама, да послушай ты меня, – взмолилась Кэлли. – Ты только посмотри на меня!
– Ну, ну… – сказала мать. – У тебя прелестный вид.
Кэлли стиснула зубы. Но она смирилась и со свадебным нарядом, как смирилась со всем остальным. Скоро конец.
День был чудесный. Кэлли застыла, как стекло в окне, сложив перед собою руки, прикрыв лицо вуалью. За дорогой золотилась стерня, там несколько недель назад колыхалась пшеница мистера Кука. Справа, сразу за полем начинался склон, внизу закусочная мистера Сомса и долина, а еще дальше серо-голубые горы упирались круглыми вершинами в голубовато-белый небосвод. Пригревало солнышко, легкий ветерок шевелил листья кленов. Вот не спеша ползет грузовик булочника и сворачивает, поравнявшись с почтовым ящиком. Чудесный день, ну просто по заказу, подумала она. Мысль эта, казалось бы, возникла от избытка счастья, но Кэлли вовсе не была уверена, что счастлива. За углом дома пели дети, их не было видно из окна.
Зовут ее Карен,
Карен, Карен,
Зовут ее Карен,
Ромашечки цветут.
При звуках этой песенки ей вдруг вспомнилось, как однажды она шепнула подружке, что мальчика, который ей нравится, зовут Дэвид Паркс – она знала правила игры и могла заранее предвидеть, что теперь имя ее избранника станет известно всем, но, когда подружка действительно рассказала ребятам и детский хор, ликующий и беспощадный, затянул: «Зовут его Дэвид, Дэвид, Дэвид», – она чуть не умерла от стыда и думала, что больше в жизни на него не взглянет. Но теперь, вспоминая об этом, она вдруг почувствовала, что ей до боли, до тоски хочется снова и навсегда вернуться в детство, стать девочкой, на которую она могла теперь ласково смотреть со стороны, любя ее и жалея, и улыбаясь ее печалям, как, должно быть, улыбалась некогда ее мать. Почему-то это первое воспоминание потянуло за собой другое, связанное с первым очень тесно, хотя непонятно как:
Распрощался бедный Говард с белым светом,
Я одна осталась и пою об этом…
Ей стало страшно. «Это ошибка, – мелькнуло у нее в голове. – Я не люблю его». Он был безобразен.
2
Вся комната – свободные места остались только возле двери и у окна, где стояла Кэлли, – была уставлена карточными столиками; их одолжили у соседей, покрыли льняными скатертями и разложили на них свадебные подарки. В потоке яркого солнечного света пламенела большая старинная красная ваза, подаренная двоюродной теткой Марией; мерцали серебряные блюда и подсвечники, и хрустальные кольца для салфеток, ажурные подстаканники, фарфоровые перечницы и солонки, стеклянные и фарфоровые кубки, вазы с ручной росписью, проволочные коробки для поджаривания кукурузных зерен, пепельницы, столовые ножи и деревянные вилки для салата – все это было так красиво, что казалось сказкой. Все эти подарки, думалось Кэлли, как и старинное подвенечное платье, отличаются утонченностью и изяществом, совсем не свойственными ей самой. Они ее подавляли. Сколько искусства и труда вложила тетя Мэй, вышивая ей в подарок эти салфеточки, сколько денег заплатил за подсвечники дядя Эрл и даже минуты не поколебался, не задумался о цене. Нет, проживи она хоть сто лет, никогда она не научится вышивать, как тетя Мэй, даже если будет стараться изо всех сил, и никогда не будет такой богатой, как дядя Эрл, и такой безмятежно-самоуверенной. Почему они так добры? Вопрос этот возникал перед ней вновь и вновь; собственно, даже не вопрос, а крик отчаяния, потому что она знала ответ – если это могло быть ответом: они прислали все эти подарки – почти не зная Кэлли, почти даже не зная теперь ее родителей, – потому что Кэлли выходит замуж. Она подумала: потому что невесты прекрасны, а брак свят. Сколько раз она смотрела, как невесты идут к алтарю, преображенные, в сиянии красы, как Христос на Фаворе, поднятые над простою человеческой обыденностью в этот миг вечного совершенства, и их подвенечный убор – жалкое украшение: стоит ли золотить цветок, который природа и без того создала прекрасным? Она их видела и позже: молодые жены делают визиты, лица их нежны, взгляд проницателен и весел. Как она завидовала им, бедная девственница, послушница, которой недоступно их таинство. Она прекрасно понимала его сущность, хотя и не смогла бы выразить словами. Она знала, это не супружеское ложе; ложе – лишь несовершенный символ. Они шли к алтарю, снежно-белые, нематериальные, как воздух, свободные, как могут быть свободны только ангелы, не дитя и не женщина, не дочь и не жена; а назад шли уже возвращенные к реальности, замужние: одна короткая секунда – и детство позади. В честь этого и возлагали родичи дары: в свое время каждый из них приобщился к такому же таинству. Но краса, отпущенная каждому, была не про нее. Ее замужество почти порочно, поступок эгоистки: она – беременна, он – безобразно тучен, слаб, расквашен под исполинским грузом сентиментальной отзывчивости, другой бы просто на ней не женился.
«Я убегу, – подумала она, стоя неподвижно и зная, что никуда не убежит. Глаза ее наполнились слезами… – Я убегу куда-нибудь… в Нью-Йорк, да, да… и напишу потом оттуда Генри и все ему объясню. Это единственный честный выход из положения». Она зажмурилась и торопливо стала сочинять:
«Милый, добрый Генри!
Прости, что я тебя покинула, опозорив и введя в расходы. Попроси, пожалуйста, моих родных и друзей, чтобы они меня тоже простили… Надеюсь, я никого не оскорбила, и понимаю, как разочарованы…»
«Дорогой мистер Сомс!
Мисс Каллиопа Уэлс попросила меня сообщить Вам (поскольку сама она нездорова…)».
Нет, она не может убежать… из-за подарков. И потому, что дядя Рассел и тетя Кейт приехали из Огайо, а тетя Анна переделала ей свадебное платье и собирается играть в церкви на органе; тетя Анна больше всего на свете любит играть на органе (и была когда-то превосходной органисткой, говорят), и Роберт Уилкс проделал немалый путь, добираясь сюда из Восточной музыкальной школы, специально, чтобы петь на ее свадьбе. Кэлли просунула руки под вуаль и закрыла лицо ладонями. Через пятнадцать минут приедет дядя Джон.
Она вспомнила, как девочкой сидела на траве и следила за работой дяди Джона. Он был плотником, и плотницкие инструменты служили как бы продолжением его тела: он был одно целое с рубанком, который скользил по сосновой доске, снимая длинную, легкую белую стружку; одно целое – с быстрой упорной пилой, с молотком, четко вгонявшим гвозди в два удара, со складным деревянным метром, с мелом, коловоротом и зубилом. Когда Кэлли сама бралась за молоток, гвозди предательски гнулись, а дядя Джон улыбался. Кэлли сердилась, а дядя Джон смеялся, словно у него со старым молотком были свои секреты, а потом ласково говорил ей: «Спокойствие. Терпение». Она подумала: дядюшка Джон. Он теперь уже старик, не работает. Руки искривлены артритом. Это дядя Джон принес ей Принца, когда ей исполнилось одиннадцать. Принц тогда был еще щенок. И не скажешь, что служебная собака. Лохматый, как медвежонок.
Она подумала со злостью: «Ну, конечно же, я за него выйду». А ведь Уиллард Фройнд ее сверстник, он строен, красив. Вот она опять представила себе, как он танцует на школьной вечеринке в белом костюме и, слегка наклонив голову, смущенно улыбается ей. Может быть, где-то все-таки живет человек, такой же молодой и красивый, но еще и добрый, и он полюбит ее так же горячо, как Генри, и от одной его улыбки ее сердце будет трепетать, как оно трепетало, когда ей улыбался Уиллард. Ей ведь просто нужно было подождать.
… От этой мысли ей захотелось засмеяться горьким смехом, а еще больше захотелось умереть. Этот не родившийся еще ребенок ей ненавистен. Что тут поделаешь?
Но растущие перед домом клены сказали ей: «Успокойся». Под кленом в прохладной, густой тени стояли столы. Их здесь ставили так, как сегодня, во время всех семейных сборищ, свадеб, похорон, покрывали цветастыми скатертями; все пожилые женщины и кое-кто из девушек занимались на кухне стряпней, а мужчины играли в софтбол в дальнем конце двора, за которым начинался склон, топтали клевер, а базы отмечали набитыми соломой джутовыми мешками. Когда Принц был еще молодой пес, он лаял и гонялся за игроками или же норовил стащить мяч. (Дядя Джон его выучил сидеть смирно.) Из женщин тоже кое-кто играл в софтбол, девушки, да и замужние, из тех, кто помоложе. Дядя Грант всегда был подающим обеих команд (в зубах трубка, на ногах мокасы цвета телячьего навоза, белые спортивные брюки и голубой свитер с кожаными пуговицами), дядя Гаррис стоял у третьей базы, сняв пиджак, в туго натянутых полосатых подтяжках, и, если игра шла вдали от него, он просто-напросто стоял и ухмылялся, ну совсем как Билл, выдвинув нижнюю челюсть, и около его ушей курчавились жесткие бачки, в точности такие, как носил когда-то дедушка. Каждый раз, когда кончалась очередная игра, кто-нибудь из молодых женщин уходил с площадки на крыльцо, где сидели женщины постарше, и там судачили, смеялись, жаловались на житье, поглядывая на детей, резвившихся на траве. Когда Кэлли добыла свое первое очко, дядя Грант сделал вид, будто сердится, что ему пришлось по ее милости пробежаться лишний раз за мячом, а ее красивый кузен Дункан заулыбался, показывая, как он гордится такой кузиной. Дункан лучше всех играл в софтбол. Мяч он упускал только в тех случаях, когда хотел немного подбодрить противника или когда дети хватали его за ноги. Все говорили, что для уравнения шансов Дункану следовало бы играть одной рукой, правда, говорилось это в шутку. Он давал свечу – так мягко, осторожно, будто это голубь, а не мяч летит, – тому из подростков, кто еще ни разу не поймал мяч, и если все же мяч падал, Дункан снова терял его у следующей базы, где ребята играли без взрослых. Его называли «мазила», потому что после каждого его удара мяч загадочным образом оказывался в руках противника, а, играя в защищающейся команде, он не ловил мяч, если же ловил, то делал вид, будто случайно. Его дразнили, на него орали, и все его любили; его наперебой приглашали в любую команду, хотя знали: выигрыша он не принесет. Он был красивый и хороший – даже не курил, – он умел жонглировать тремя битами, легко и четко делал сальто, стоял на одной руке – из карманов его брюк при этом высыпалась мелочь – и улыбался, всегда улыбался, от него исходило сияние, словно от ангела… или невесты. (Привезя ей накануне вечером подарок, он улыбался в точности так, как улыбался много лет назад, когда Кэлли добыла это свое первое очко, улыбался так, словно гордится, что состоит с ней в родстве. «Я должен поцеловать невесту? – осведомился он, – а вдруг у меня стоматит?» Кэлли, покраснев, подставила щеку, а он поцеловал ее в губы и сказал: «Промазал!» Кэлли притворилась, будто хочет дать ему пощечину.) Она попыталась себе представить, как играет в софтбол Генри Сомс.
Но ведь в конце концов ее кузен Билл тоже не умеет играть в мяч, а она любит его не меньше, чем Дункана. С Биллом они не раз играли в шахматы в дедушкином кабинете – это было еще в их старом доме на Грушевой горе. Он держал в руке очки в роговой оправе и разговаривал с Кэлли о книгах, которые, он убежден, ей непременно должны понравиться. (Кэлли давала себе торжественную клятву взять эти книги в городской библиотеке в Слейтере, но всегда забывала названия.) Билл хотел стать адвокатом, может быть, заняться политикой, как дядя Эрл. Ему было всего двадцать два года, но он уже состоял членом руководящего комитета какой-то организации, имеющей отношение к индейцам. Они с Дунканом были как братья, и Кэлли всегда огорчалась, что она младше. Они и взрослые остались такими же молодцами, «интеллигенты» – называл их ее отец; семья гордилась ими обоими. (Ее отец в семье считался неудачником: он оставил ферму и пошел работать на фабрику – и он гордился Дунканом и Биллом даже больше, чем вся остальная родня.) Билл подарил Кэлли подписку на серию пластинок «Колумбия». Когда кузина Мэри Лу, повертев в руках бумажку, спросила: «От кого это такая дешевка?» – Кэлли ощетинилась от злости. Билл постоянно жертвовал деньги на всевозможные благотворительные мероприятия, наверное, и на такие, которые прекратили свое существование лет пятьдесят назад, а однажды подарил Кэлли книгу, стоившую четырнадцать долларов, там были изображения разных достопримечательных мест. Он всегда дарил ей то, что считал нужным подарить, как дядюшка Эрл. Ему не важно было, стоит ли выбранный им подарок пятнадцать центов или тысячу долларов.
– Вот и видно: ничего-то ты не смыслишь, – огрызнулась Кэлли.
Мэри Лу обиделась, а Кэлли тотчас поняла, что кузина Мэри Лу права: те, кто не знает Билла, подумают то же, что и Мэри Лу; таким образом, оказывается, даже свадебные подарки принадлежат вовсе не ей, а всем; и она решила припрятать подарок Билла подальше от посторонних глаз.
– Ты меня совсем не любишь, – сказала Мэри Лу, и глаза ее наполнились слезами.
– Глупости, – сказала Кэлли, – если бы не любила, разве я выбрала бы тебя в подружки?
– Это твоя мама меня выбрала, – сказала Мэри Лу. Слеза скатилась по ее толстой щеке и пропала в складке двойного подбородка.
– Ну, что ты, Мэри Лу! – Кэлли взяла кузину за руку, чувствуя свою вину (Мэри Лу угадала: не Кэлли, а мать выбрала ее в подружки невесты), и сказала:
– Мэри Лу, да у меня во всем свете нет никого тебя ближе. – Сказала и сама остолбенела, но Мэри Лу поверила ей. Мэри Лу заслуживала, чтобы ее полюбили. С того утра, когда Кэлли ее пригласила подружкой на свадьбу, она куска не проглотила, заморила себя голодом, чтобы стать красивее. Похудеть ей не удалось, зато появились круги под глазами.
Мэри Лу утерла слезы, высморкалась и сказала:
– Ой, я, правда, так обрадовалась, Кэлли, что ты выбрала меня. Я всегда тебя любила больше всех на свете, и я думала, что я совсем ничего не значу для тебя. Помнишь, как гриффитовские мальчишки бросались в меня камнями, а ты подошла, взяла меня за руку и мы побежали домой?
Кэлли нежно сжала ее руку. Ничего она не помнила.
Мэри Лу сказала:
– Мне тогда было четыре с половиной года, а тебе шесть. – Вдруг она разревелась в три ручья: – Ох, Кэлли, я ведь так крепко тебя люблю.
– Душенька Мэри Лу, – тихо, словно издалека, проговорила Кэлли. Но ее потрясло это открытие. Как же она раньше-то не догадалась? А мама откуда узнала? Ну, можно ли быть такой невероятно слепой эгоисткой. И они проговорили в тот вечер несколько часов, хотя, казалось бы, были так заняты; вернее, говорила Мэри Лу, а Кэлли внимательно слушала – втайне досадуя и скучая, – проговорили, будто двое только что обручившихся влюбленных или двое друзей, которые спешат все рассказать о себе после многолетней разлуки.








