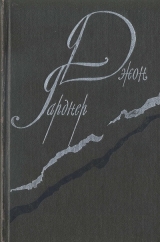
Текст книги "Никелевая гора. Королевский гамбит. Рассказы"
Автор книги: Джон Чамплин Гарднер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 32 страниц)
Джонатану, напротив, присуща непосредственность и широта взгляда, интенсивность переживаний и, так сказать, открытость миру со всеми его мыслимыми и немыслимыми чудесами. У гарпунера-индейца Каскивы он учится прямому, «чистому» чувству восприятия вещей, обретая в нем духовную прочность. Во время путешествия он нередко слышит запахи земли, злаков, леса. «Человеческое сознание в обычных случаях – это искусственная стена, возводимая нами из понятий и теорий, пустой корабельный корпус, сколоченный из слов и ходячих мнений». Разрушить эту стену и выйти навстречу живой многокрасочной жизни – значит раскрыть все возможности, заложенные в личности. Этого не дано понять «парижским рационалистам и маклерам с Уолл-стрит».
«Королевский гамбит» можно прочитать как развернутую аллегорию о движении человеческой цивилизации по океану времени, об изнурительной борьбе со стихиями и собственными заблуждениями, о тяжком пути познания человеческого существования. Для такого прочтения повесть дает резон и простор. И все же многие, причем самые яркие, страницы ее позволяют рассматривать это причудливое произведение иначе, историчнее, что ли. Мне лично кажется, что судьба Джонатана Апчерча отражает блуждание так называемого «маленького человека» посреди чудовищном неразберихи фактов и фикций того, что буржуазные социологи громко именуют «американской цивилизацией». Если чуть сместить угол зрения, то история плавания «Иерусалима» окажется романтико-аллегорическим эпосом, воссоздающим приключения и превращения «Американской мечты», ее подъемы и падения, пороки и пафос. Можно сказать и так: она и есть настоящий герой повествования, а всевозможные персонажи и положения – формы ее инобытия.
Но что это такое, «Американская мечта»? Одни ответят, что это традиция, протянувшаяся от религиозного рвения первых поселенцев-пуритан, вознамерившихся построить на западном побережье Атлантики новый град божий, до всевозможных реформистских программ «нового курса», «новых рубежей», вплоть до самых последних. Другие напомнят о принципах и духе 1776 года, славной поре американской буржуазной революции, декларировавшей естественное равенство всех людей (почти всех: негры-рабы – не в счет) и неотъемлемые права личности на свободу, жизнь и стремление к счастью. Третьи иронически укажут на умилительные сказочки о том, как любой чистильщик сапог может стать президентом, и на другие легенды головокружительного успеха. Четвертые примутся рассуждать о покорении Запада, о «духе границы», первооткрывательства и динамичности. Пятые сошлются на джефферсоновский идеал собственной фермы для каждого и честного труда на ней. Шестые поведают о мессианской идее «явного предначертания» Америки, ставшей религиозно-идеологическим оправданием самого оголтелого шовинизма и экспансионизма. Седьмые…
Каждый из этих ответов будет верен, верен и – недостаточен. В этом звонком и захватанном словосочетании – «Американская мечта» – слились, срослись реальные достижения американского народа и его популярные мифы, нередко спускаемые, так сказать, сверху в интересах господствующих кругов, благотворные надежды и бесплодные иллюзии. Трудно, невозможно сформулировать, выразить понятийным языком то, что переменчиво, зыбко, неуловимо, что поворачивается то улыбчивым, то изуродованным ликом, что каждодневно обнаруживает полнейшую или частичную несостоятельность и снова возникает в глубинных пластах сознания американца. Мечта? Модель? Миф? Продукты воображения, они втянуты в междоусобную игру-войну, которая наиболее тождественно передается романтическим способом письма.
Одна из самых масштабных и устойчивых тем американской словесности – Большое Приключение. Поддавшись какому-то неясному порыву, Джонатан отбрасывает пустяковую мечтишку о ферме в южном Иллинойсе и, покинув твердую почву практицизма, устремляется в море навстречу приключению духа. Но вот первое открытие, которое он делает на борту «Иерусалима»: в трюме черные рабы. Китобоец и судно-работорговец?
К символу честного, мужественного труда и личной инициативы, каким издавна почиталось у янки китобойное ремесло, примешивается нечто совсем другое и несообразное. Хотя занятие это было «законным и правильным», оно внушает герою чувство неловкости и беспокойства. В «Иерусалиме» и его «деле» коренится угрожающий изъян.
Позже, когда Джонатан влюбится в Августу-Миранду, его, завороженного стихами этой девы Марии или ведьмы-соблазнительницы, осенит мысль, подсказанная, конечно же, зрелым художником. Поэзия Августы родилась благодаря тому самому мрачному пению, доносящемуся из трюма. Эта бесовка «располагала досугом, чтобы читать», чтобы совершенствовать умственные способности. В конечном счете все памятники материальной духовной культуры – «гимны труду рабов».
Настанет момент, когда рыжебородый Билли Мур раскроет Джонатану главную тайну: настоящий «Иерусалим» затонул полгода назад. Бедняга попал в компанию мертвецов на корабле-призраке, в общество теней, заблудившихся в поисках своих двойников.
Однажды уверовав в великую мечту капитана – настигнуть «рыбу побольше кита», – команда снова и снова возвращается к месту собственной гибели. Когда-то шхуна «Джейн Гай» у По искала в этой географической точке легендарные острова Авроры. Тени на «Иерусалиме» ищут Невидимые острова: ведь и фантомы способны завладевать воображением, иначе «вся наша свобода не более как смехотворная иллюзия».
Кто-то продолжал верить, что они спасутся и восстанут к жизни. Кто-то и в явной бессмыслице искал сокровенный смысл. Кто-то богател. Кто-то ворчал, что их обманули. И все же «мы собирались совершить нечто Великое – употребить великую силу для великой цели, и как можно скорее, – совершить нечто и заплатить за это страшную цену, как Иисус Христос. Но величие нашего дела словно бы иссякло… От общей мечты осталась только мечта капитана. Наша цель изменилась, как это случается со всякой отдаленной целью. Великий успех слишком долго оставался недостижим, и цена стала казаться непомерной – в счет него мы ведь поплатились свободой, правом каждому быть самим собой, а не винтиком в большой машине, что-то там такое вырабатывающей, до чего никому из нас нет дела».
Я сознательно сделал эту длинную выписку, чтобы попутно отметить еще одну оригинальную особенность гарднеровского повествовательного метода в этой вещи – намеренный анахронизм. Романтический стиль стыкуется – не всегда, правда, плотно – с прямой публицистической речью самого писателя, выводимой в особые главки-отступления, или она «роздана» различным персонажам, как в цитированном примере.
Какой иронический парадокс заключен в том, что помешанный капитан-робот сбившегося с курса «Иерусалима» пытается просветить моряков на других судах, встречающихся на пути!
Сильнейшее впечатление производит эпизод бунта – недовольство затянувшимся плаванием выплескивается в конце концов наружу. Воспользовавшись обстановкой, во главе его встает второй помощник, Вольф. Он кидает Заупокоя в трюм как не понимающего природу власти и учиняет дикую расправу над сторонниками умеренных действий (сцена расправы близко повторяет соответствующий эпизод на борту «Дельфина» в четвертой главе повести По). Жертвами его становятся и «истинные демократы» – первый помощник капитана Ланселот и Билли Мур, они были бессильны остановить кровопролитие. Вольф устанавливает на корабле новый порядок, основанный на жесткой централизации власти, абсолютном повиновении, ортодоксии и «отсутствии воображения», так как при известной дозе оного можно проникнуться симпатией даже к киту, то есть врагу. Смыслом бытия провозглашается агрессивность, а единственной свободой – свобода «угнетать тех, кто под тобой».
Демагогическая «программа» Вольфа вытекает будто бы из универсальных законов всего сущего. Не доверяй разуму, отрицай равенство, добивайся успеха с помощью обмана, управляй посредством насилия, отвергай все законы, кроме биологических, – таковы эти вселенские пять заповедей, своего рода катехизис воинствующего антигуманизма.
Гарднер не даром конструирует отвратительный образ деспотического, тоталитарного режима фашистского толка, в нем он видит самую большую опасность человеческому сообществу.
Важная роль на борту «Иерусалима» отведена Уилкинсу. Это «космический ублюдок», циник, релятивист и перевертыш, готовый служить чему угодно: сегодня – дьявол, завтра – бог, он не связан ни с кем и ни с чем. Еще один тип в гарднеровской галерее монстров, наделенный вполне современным мироощущением экзистенциалистского склада. Для него «не существует твердых принципов», он живет отчаянием и оплакиванием самого себя и кончает по логике вещей самоубийством.
В отличие от своих славных предшественников Гарднер не завершает плавание корабля катастрофой. Позади бури, бунт, безвременье, безветрие, и в этой тишине можно различить глухие отголоски потрясшего Америку общественно-политического кризиса 1974 года, вызванного Уотергейтским делом. Книга писалась в разгар скандала, и такая гипотеза напрашивается.
Матросы кое-как ладят паруса, судно выпрямляется, продолжает путь. «Не ведающие чина и закона, они на борту изувеченного корабля учились теперь быть человеческим обществом. Больше никаких гениев, никаких царей». Джонатан, который начинал с грез об иллинойсской ферме, зовет своих спутников: «Домой!.. Вперед, в бесконечно изменчивый Иллинойс!» Ангел – дух противоречия – передергивается от отвращения к высокопарной риторике.
Неистребимый оптимизм Джона Гарднера сплавлен с трезвым, реалистичным взглядом на вещи, и потому, как небо от земли, далек от проповедей так называемого «американского образа жизни» и уютного прекраснодушия. Ему ведомо, что он не первый, кто питал свое творчество надеждами на перемены к лучшему. Четыре десятилетия назад его соотечественник, писатель иного склада Томас Вулф заключил роман «Домой возврата нет» словами: «Я уверен, что все мы, американцы, заблудились, но я уверен также, что нас найдут… Подлинное открытие Америки еще впереди».
«Америку стоит спасать», – публично подтвердил тогда же Драйзер.
С тех пор утекло много воды. Менялись времена, мир, настроения. Американцы помогали спасать демократию в одной заморской войне и душили ее в двух других. То и дело нарушался порядок в собственном доме. Исторический опыт показал, что открытие Америки, о котором мечтал Вулф, пока не состоялось. Ее искали повсюду и по-разному. Одни авторы – на дорогах, в коммунах хиппи, в музыкальных вакханалиях вроде вудстокского полумиллионного сборища летом 1969, происходившего, кстати сказать, недалеко от тех мест, где разворачивается действие «Никелевой горы», и, как знать, может быть, Гарднер сознательно отнес действие романа к середине 50-х годов, когда страну еще не потрясали многообразные кризисы минувшего десятилетия. Другие писатели впадали в отчаяние и как только не издевались над «Американской мечтой» – вспомнить хотя бы одноименные пьесы Э. Олби и роман Н. Мейлера.
Между тем плавание продолжалось. «Вся наша славная цивилизация – как эта дырявая посудина… Груз искусственной радости, пятицентовое забытье, капитан – полупомешанный, салага, валится от качки». Это воспринимается как еще одна характеристика «Иерусалима». На самом же деле речь идет о другом судне, который под названием «Неукротимый» курсирует уже в наши дни по страницам нового романа Гарднера, «Октябрьский свет» (1977) между мексиканскими и американскими водами, обслуживая крупный узаконенно-подпольный бизнес по переправке марихуаны.
Насыщенные кричащими красками, лихорадочным движением и ощущением катастрофичности приключения «Неукротимого», его стычки с мелкой контрабандистской сошкой на «Воинственном» по методу контрапункта и контраста вставлены в другую, совсем неяркую, будничную историю, случившуюся на вермонтской ферме, которая продолжает и развивает тему «Никелевой горы». «Октябрьский свет» тесно сводит воедино два предшествующих произведения Гарднера, придает новую, более широкую перспективу всему творчеству американского прозаика.
Смешно и грустно читать о ссоре, вспыхнувшей из-за телевизора между 73-летним Джеймсом Пейджем и его старшей сестрой Салли. Джеймс – человек, как говорится, отсталый. Куда ни кинь, он всюду видит нынче упадок и вырождение. Хиреет лесное хозяйство и железные дороги, худо стало фермерам, люди забывают, что такое честный доход. Профсоюзы выставляют непомерные требования, предприниматели прижимают, политики путают. «Единственным неотчуждаемым правом в этой стране осталось право на получение пособий по безработице». И люди не те, разве сравнишь их с прежними, которые создавали нацию, – суровыми, работящими, настойчивыми. И, распаляясь воображением, Джеймс Пейдж видит, как встают из могил основатели нации и идут делать «новую революцию».
Вместе с этими видениями героя входит в роман история, легендарная и живая, – стародавним обычаем, присловьем, бытовой подробностью. Входит в дом старого бедного фермера на Перспективной горе под городком Биннингтоном, штат Вермонт, в октябре 1976 года, когда «большая» Америка оправлялась от похмелья национального двухсотлетия, а тут, на земле, шла отвечная и безостановочная работа.
Своенравная Салли, напротив, особа «передовая», желающая идти в ногу со временем и рассуждающая как заправский либерал. Целыми вечерами она просиживала, уткнувшись в экран, пока разъяренный Джеймс не схватил ружье. Он выпалил даже не в телевизор – он стрелял в тот неприглядный, чуждый ему образ родины, который вставал с экрана.
Джеймс загоняет непокорную сестрицу наверх в ее спальню и, чтобы припугнуть, устраивает хитроумное приспособление с нацеленным на дверь – конечно же, незаряженным – ружьем. Салли в ответ на домашнее тиранство громоздит у притолоки ящик с яблоками.
Иносказание? Притча? Нисколько. Просто житейская ситуация, столкновение характеров и драма непонимания. Такие драмы разыгрываются в миллионах домов, видоизменяясь в зависимости от условий и индивидуальной психологии, но всякий раз давая уроки умения жить друг с другом, из которых и складывается великий нравственный опыт человечества.
Роман в романе вводится смелым и чрезвычайно простым приемом: от нечего делать Салли принимается листать подвернувшуюся под руку книжонку «Контрабандисты со Скалы неприкаянных душ».
Вздорный боевик на философической подкладке, каким-то непостижимым образом завладевающий воображением бунтующей старухи, воспринимается не только как остроумная пародия на сенсационный авангардистский китч. Несмотря на полярность предметов изображения, бросается в глаза парность, перекличка, параллельность многих ситуаций и мотивов. Разумеется, нельзя говорить о полном, зеркальном – хотя и перевернутом – соответствии «вермонтского» и «калифорнийского» романов, а лишь о близком и противоречивом взаимодействии их по принципу бинарной оппозиции.
Гарднер принадлежит к тем прозаикам, которые серьезно стремятся осознать психологию, содержание, механику писательского труда. В «Октябрьском свете» он, помимо чисто художественных задач, продолжает углубляться в философские проблемы художественного творчества. Как соотносятся сущность и кажимость мира, действительность подлинная, объективная и мнимая, иллюзия и сознательный эстетический вымысел, правда жизни и правда искусства – таковы некоторые вопросы, которыми он задается. Гарднер знает, что «искусство соприкасается с жизнью, воздействует на нее, а жизнь в свою очередь входит в искусство». Само искусство тоже неоднородно, неоднозначимо, в нем существуют и борются разные тенденции и методы изображения. В этом смысле «вермонтский» роман – это реалистическое отображение и воспроизведение одного, обыкновенного нравственно-бытового слоя американской жизни, а роман «калифорнийский» – сюрреалистическая проекция почти неправдоподобной, но страшной своей узнаваемостью деятельности преступного бизнеса, разгула гангстеризма, насилия. Может быть, в том и состояло идейно-творческое самозадание Гарднера, чтобы в рамках одного целостного произведения сопоставить два типа романного отражения разных сторон реальности – здоровой и больной Америки.
Стечением обстоятельств «малая война» на вермонтской ферме приводит к целому ряду несчастий, служащих катализатором цепной реакции самооценок.
Суд совести, который вершат над собой персонажи, становится светом совести – так и надо понимать метафоричность названия романа. Пришедшая мудрость проникает в прошлое. С особой резкостью высвечиваются те моменты многотрудной жизни клана Пейджей, когда кто-то незаслуженно нанес обиду другому, был несправедлив к нему. Джеймс всегда старался поступать по чести, но времена менялись, и когда-то верные правила поведения превратились в догмы, за которыми он перестал различать живых людей. Он испытывает глубокий стыд, раскаяние, сожаление, что никого и ничего не вернешь, чувство утраты чего-то бесконечно ценного ради пустого, ничтожного. Он вдруг увидел то общее, что соединяло всех, кого он знал, и это было самым важным: они все – хорошие люди, хотя им трудно приходится. «Он вдруг понял, что всю жизнь держался мелочного понятия о правде» и лишь теперь он проникается одухотворяющей радостью бытия.
Тревожа тени Спинозы, Мэтью Арнольда, Кьеркегора, Бергсона и других властителей умов на Западе, гротескные фигуры романа в романе предлинно и путано рассуждают о смысле существования, человеческом уделе, отчуждении, законе, насилии. Из пестрой сумятицы идей снова, как и в прежних произведениях Гарднера, вырисовывается кардинальная дилемма: человек способен самоопределиться в своих поступках и влиять на ход событий или он под властью неких слепых безличных сил? Абсурдная развязка, сам метод «калифорнийского» романа в качестве ответа предлагает лишь отчаянный вскрик: спасите, мы невиновны!
Развитием же «вермонтского» сюжета, переживаниями и пробуждениями персонажей, движением образов физического мира Гарднер идет к простому выводу. Свобода и сила человека вырастает из его совестливости и терпимости, из способности отозваться на чужую беду, из мужества, из готовности взять на себя вину, а значит, и ответственность за все, что происходит вокруг. Автор подводит нас к этим выводам ненавязчиво, без нажима, который нет-нет да и ощущался в «Никелевой горе», и без хаотичности «Королевского гамбита», а также счастливо избегая прежних апелляций к христианской этике – слишком частом прибежище западных писателей-гуманистов.
Джон Гарднер – честный и зоркий художник больших творческих возможностей. Двуединством старых и новаторских форм он стремится проникать в бесконечно разветвленную диалектику движений человеческой души, действительного хода вещей и развития искусства. Его герои ведут постоянные диалоги с самими собой, с другими, с окружающим миром – многообразным, переменчивым, не очень понятным, – миром, который не плавная река, а сплошные противоречия. Они не всегда находят разрешение в высшем художественном синтезе, а только нейтрализуются или примиряются. Выразительные нраво– и бытоописания и широкие раздумья о человеке и его назначении то и дело оспаривают одно другое, не всегда совмещаются в завершенную конкретную картину. В поле писательского видения Гарднера пока еще не попали и некоторые важные процессы и стороны современного общественно-исторического бытия Америки. Точнее, он сам ставит себе определенные пределы.
Повторю: с каждым романом Гарднер набирает силу, и, надо думать, главная его книга еще впереди. Судя по всему, он сумеет глубже проникнуть в социальную природу избираемых конфликтов, расширить круг изображения, ввести новых героев. Однако и достигнуто им немало, совсем немало, и не только на фоне нынешней массово-поточной культуры США, но и серьезной культуры. Разительные несообразности в окружающей его действительности не вызывают у него ни циничной усмешки, ни вселенского пессимизма, как это бывает у многих его коллег по перу – писателей модернистского мироощущения. Человек гуманных и демократических взглядов, настоящий и очень самобытный национальный художник, он возвращает в отечественную прозу поэзию неприукрашенной жизни скромных, ничем не выдающихся американцев, тех, которые больше всего доверяют собственным рукам, и сердцу, и здравому смыслу. Таких большинство, и они – соль земли. Генри, Кэлли, Джордж, Джонатан, Джеймс, Салли и многие-многие другие – не идеальные образы, не ангелы, и их жизнь отнюдь не рай. Но это их жизнь, и они как могут очеловечивают ее давними и всегда насущными понятиями о том, как жить взаимно по чести и справедливости.
Гарднер возвращает в американскую литературу человека положительного нравственно-психологического содержания и в меру этого возвращает доверие к стране и ее литературе. Лучшие его книги можно оценивать не только мерками сегодняшнего литературного процесса. Они принадлежат к тому серьезному, «моральному» искусству, о котором сам писатель сказал: «Искусство не просто имитирует жизнь – оно побуждает людей к действию».
Г. Злобин








