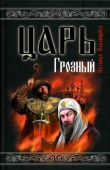Текст книги "Кочубей"
Автор книги: Даниил Мордовцев
Соавторы: Николай Сементовский,Фаддей Булгарин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 52 (всего у книги 57 страниц)
«Это она, это панночка Мотрёнька», – подумал Дмитро, вскочил со своего места, подошёл к Мотрёньке, поцеловал у неё руку, отдал письмо от гетмана и сказал:
– Гетман приказал вам кланяться и спросить, как поживаете: здоровы ли вы, не скучаете ли? Жалеет, что вы его совсем забыли, не отвечаете на письма; нарочно теперь я привёз Генеральному судье письма, да и к вам зашёл. Спит батюшка? Крепко нужные универсалы от гетмана.
– Что гетман спрашивает: он добре знает моё горе, сколь раз Христом Богом молила я позволения жить в его замке: ни отец, ни мать не знали бы, где я делась, подумали б, что я утонула с горя; а я спокойно бы жила себе да жила.
– Гетман не знал, верно, что ваша милость желаем, а то давно бы уже у него жили.
– Горе мне, Дмитрию, тяжкое горе, не увидит уже меня ни гетман и никто в этом свете: я говорю тебе правду, гетман сам причиною: не жить мне больше не белом свете, я тебе истину говорю.
– Господь Бог да сохранит вашу милость.
Мотрёнька вздохнула и склонила голову на грудь.
– Не горюйте, ваша милость, Бог даст счастие!
– Нет, Дмитрию, нет, не жить мне больше, на том свете покойнее будет, другой матери там не будет, такой, как у меня.
– Да Ивану Степановичу как только скажу я, что паша милость хотите ехать к нему, так с радостию пришлёт меня за вами.
– Возьми меня с собою; где Иван Степанович теперь живёт?
– В Гончаровке... Да как же мне вас взять, когда я верхом приехал? Разве ваша милость полагаете, если бы я приехал в повозке, не взял бы вас... Я знаю, за то, что привёз бы вас в Гончаровку, у меня полная шапка была бы карбованцев.
– Возьми, Дмитро, меня, когда хочешь, чтобы я осталась в живых, а то сама себя отравлю...
– Ваша милость, как же я вас возьму?
– Как хочешь, вдвоём поедем; ты сядешь на коня и меня возьмёшь к себе: теперь славный час, все спят, как убитые, никто и не догадается, куда я делась.
– Как хочете, ваша милость, пожалуй, поедем.
– Едем! – сказала радостным голосом Мотрёнька, прикрыла голову беленьким шейным платочком, завязала его под шейку, взяла за руку Дмитрия и торопливо выбежала с ним чрез калитку из сада. Дмитрий сел на лошадь, взял к себе на руки Мотрёньку, прикрыл её своею серою буркою, ударил коня нагайкой и помчался в сумрачную даль с бесценною ношею, и только слышен был топот конских копыт; но и он скоро замер в степной дали.
Заря румянила восток; холодный утренний ветерок освежал вершника, быстро приближавшегося к гетманскому дому; конь весь покрыт был пеною и так изнеможён, что, казалось, через минуту должен пасть; но казак, несмотря на это, ещё сильнее торопил его; и вот вдали засинели горы и сливались с голубым небом, кое-где зеленелись лески, и белелись хуторки; по сторонам дороги, по которой ехал путник, цвела душистая греча, и казалось, всё поле было покрыто снегом; в стороне чернел высокий дом гетмана, и забелела вокруг него каменная ограда; за домом, ещё выше, была видна старая деревянная церковь.
Дмитрий подъехал к дому со стороны сада, осторожно опустил Мотрёньку на землю, слез сам, оставил коня, и быстрыми шагами поспешили оба в густоту сада... Через минуту Мотрёнька стояла пред удивлённым гетманом.
– Откуда ты взялась, доню, как ты приехала ко мне?
– С Дмитром, на коне!
– Дочко моя милая, любонько, моя голубко сизая, ты и сама не знаешь, что может быть от этого!..
– Никто не знает, куда я делась: ты меня скрой в своём доме, и я счастливо буду жить.
– Дочко моя милая, любонько, моя голубко сизая, не можно сделать этого, – люди узнают: что тогда на свете делать мне с тобою? Злые языки скажут, что я сам ночью украл тебя из отцовского дома и живу с тобою как с беззаконницею, доню моя, доню, тяжкое горе ожидает меня с тобою!
– Я буду жить с тобою!
– Какая ж ты, доню: разве я тебя не люблю? Так не теперь же это всё, не спеши ты: и меня, и себя погубишь; не можно, доню, всего сделать, что ты хочешь; потерпи немного, я надену, говорю тебе, на твою голову золотую корону, ты будешь у меня царицею... Но всё-таки не теперь; послушай меня, доню, послушай, дочко моя милая, совета моего: поезжай назад, да скорее, чтобы не догадались мать и отец, где ты была; а я, как только можно будет, сам за тобою приеду, и таки уж выпрошу тебя у матери и отца, и возьму с собою – ты слышала, что мать говорила мне: она в самом деле полагает, что я приезжал свататься на тебе.
– Ты меня хочешь совсем замучить.
– Кто хочет, доню, я счастия тебе желаю!
Мазепа обнял Мотрёньку и заплакал.
– Ты, галочко моя ясная, сама знаешь, как я тебя безумно люблю... ты знаешь, что я сам умираю без тебя, да что ж делать, доню моя милая. Эй, хлопче, скажи, чтоб духом, мигом запрягли турецкого коня и пару гнедых в бричку! Поезжай, доню моя милая, поезжай, квете мой рожаный; терпи горе: а там и счастье придёт.
Мотрёнька плакала и не отвечала на слова гетмана.
Запрягли лошадей. С громким плачем бросилась Мотрёнька на шею Мазепы, сказала: прощай, прощай, ты меня не любишь!.. – выбежала на крыльцо, села в кибитку и закрыла платком свои пламенные очи.
Кибитка быстро умчалась.
XXI
Напуганный вечерними криками и полётами сыча Василий Леонтьевич рано встал поутру, долго, задумавшись, ходил он по саду, куря люльку, потом, желая рассказать всё бывшее с ним вчера Мотрёньке, пошёл в дом и спросил у встретившейся девушки:
– Спит Мотрёнька?
Девушка громко заплакала.
– Чего ты, дурная, плачешь! Пани спит, а она голосит на всё горло, дурище!
– Как мне не голосить, когда панночка не знаю куда делась.
– Где ж она? – с беспокойством и волнением спросил Кочубей.
– Не знаю; вчера легли спать и затворили дверь, сегодня я встала рано, рано вошла к ним в комнату, гляжу на постель – и нет панночки.
Кочубей догадался, всплеснул руками, хватился за голову и сказал: «Бедная голова моя, бедная... несчастный отец я на этом свете... ах, горе мне, горе!..»
Он побежал в сад и послал служанку также посмотреть, нет ли Мотрёньки в саду. Все кусты пересмотрели – нет панночки. На крыльцо вышла только что проснувшаяся Любовь Фёдоровна.
– Чего это так рано шатаетесь в саду... эй, вы, злодейки! И ты, старый, туда! – сердито закричала Любовь Фёдоровна, увидев в саду бегавших девок и Василия Леонтьевича и полагая, что девки, пользуясь её сном, лакомятся в саду малиной, клубникой и смородиной.
Кочубей обмер от страха: он не знал, открыть ли жене побег Мотрёньки или ещё до времени умолчать, надеясь, что, может быть, она сидит где-нибудь в саду; но потом подумал, если отыщут её, если в самом деле она убежала, тогда великое горе будет и ему, – решился Любови Фёдоровне открыть несчастие.
– Недаром, моя душко, сыч кричал в саду! – сказал Василий Леонтьевич, целуя руку жены.
– А что?
– Мотрёнька неизвестно куда делась!
– Вот тебе и радость! Куда делась, известно, куда её душу проклятый тянул – она теперь у гетмана, – разве ты думаешь, где она... да и не ищите, пусть пропадёт!..
Нежный отец в беспамятстве бросался то в одну сторону сада, то в другую, то бегал с криком отчаяния в дом, звал к себе дочь, называя её по имени; но всё было напрасно, Мотрёнька не являлась; изнеможённый, Василий Леонтьевич от душевного страдания в саду свалился с ног, его внесли в комнату и положили в постель.
Любовь Фёдоровна в каком-то неестественном расположении духа ходила из комнаты в комнату. Потом вошла в комнату Василия Леонтьевича, посмотрела на его бледное лицо и сказала:
– Куда ж-таки так жаль дочки, умирает без неё, есть кого жалеть, – ну уж отец, Господи, прости меня грешную, я женщина, баба, а всё-таки по пустякам не доведу себя до такого положения!..
Обратясь к слугам, приказала подать холодной воды и полотенце. Слуга принёс в кружке воду и полотенце с вышитыми красною бумагою орлами. Любовь Фёдоровна помочила полотенце, положила его на голову Василия Леонтьевича, приказала не беспокоить его, притворила в комнате дверь и вышла в сад с тою мыслию, не отыщет ли Мотрёньку, и заранее придумывая для неё наказание. Обошла сад кругом и вышла чрез калитку к реке; вдали мчалась бричка, запряжённая тройкою коней. – Не она ли? – подумала Любовь Фёдоровна и решила дожидаться приближения брички.
Через несколько минут бричка остановилась у самой калитки, из неё поспешно выпрыгнула Мотрёнька, не видя матери, хотела бежать в сад: Любовь Фёдоровна схватила её за руку, сильно сжала и сказала:
– Здравствуй, дочко, откуда нечистый принёс?
Изумлённая Мотрёнька, бледная как полотно, стояла перед матерью и ни слова не отвечала.
– У гетмана ночевала... Ну поздравляю, дочко, какой же поп венчал вас? Или правда, на что ещё вас венчать, – косматый давно уж с тобою повенчал гетмана!.. Добре, дочко, добре! Скажи ж мне, хорошо ли спалось? И зачем так рано приехала: было бы лучше, прямо от гетмана да в болото к нечистым, а не до нас... Ну как же ты думаешь, что теперь будешь делать и что мне с тобою делать?
Мотрёнька молчала.
– Пойдём же, доню, я научу тебя, как следует жить тебе замужем, ты знаешь, наука в лес нейдёт.
Мать потащила за собой несчастную дочь, привела её в свою спальню, сняла со стены нагайку, которую Василий Леонтьевич брал всегда с собою в поход, и заперла за собою дверь: через несколько минут раздалась по всему дому брань озлобленной матери.
Очувствовавшись, Василий Леонтьевич услышал крик, кое-как поднялся с постели, дотащился к спальне и начал стучать. Любовь Фёдоровна не отпирала – Кочубей высадил дверь: глазам его предстала отвратительная картина: Любовь Фёдоровна держала за растрёпанную косу Мотрёньку, лежавшую без чувств, и немилосердно, по чём попало, била её нагайкою, со злостью читая ей наставления.
Василий Леонтиевич выхватил из рук жены нагайку и отвёл её в сторону. Любовь Фёдоровна схватила мужа за чуприну и порядочно потормошила. Муж молчал.
Через несколько дней слуги разнесли самые кудрявые сплетни; все слышавшие это, в свою очередь, передавали другим с разными прибаутками, одни говорили, что Мазепа до этого ещё предлагал Мотрёньке, через гайдука своего Демьяна, три тысячи червонцев; другие подтверждали, что гетман предлагал десять тысяч; многие, не сообразив, откуда могло быть это известно, беспрекословно верили всем несообразным сплетням и приезжали из любопытства к Любови Фёдоровне, расспрашивали её о постигшем её несчастии.
Любовь Фёдоровна не только не думала молчать о своём злостном умысле, напротив, чтобы обвинить гетмана пред лицом всего народа, подтверждала носившиеся слухи, ею же распространённые, плакала пред гостями; приходила в отчаяние и спрашивала у всех совета, что ей делать. Наконец, сама говорила многим искренним приятелям, что пешком пойдёт в Москву к царю, упадёт ему в ноги и будет жаловаться на беззаконного гетмана.
Василий Леонтиевич по слабому и легковерному характеру уверился, бездоказательно, в истине слов жены, и душевные страдания его до такой степени усилились, что он, казалось, потеряет рассудок. Несколько ночей кряду не спал, ни на минуту не находил покоя: воображение его представляло гетмана, дочь и жену в страшных образах; наконец он заболел горячкою.
Всем стало известно это позорное происшествие, разукрашенное всеми цветами злословия. Гетман, занятый делами и окружённый стражею, живя роскошно, как немногие жили и польские короли, ничего этого не знал: до слуха Мазепы нескоро донеслась весть о выдуманном на него Любовью Фёдоровною преступлении; впрочем, он знал, что Мотрёнька не ускользнула от глаз матери.
Ожидая около месяца письма от Мотрёньки и не дождавшись его, Иван Степанович послал к Мотрёньке Мелашку. Как ни было трудно увидеться Мотрёньке с Мелашкою, однако же она увиделась с нею: чрез Мелашку Мотрёнька успела передать гетману несколько слов, которыми выразила свою досаду, зачем гетман отправил её обратно от себя, а не удержал в замке. Мазепа, услышав это, написал в своё оправдание к Мотрёньке:
«Моё серденько!
Зажурился, почувши от девки такое слово, же ваша милость за зле на мене маешь, иже вашу милость при собе не задержалем, але одослал до дому; уважь сама, щоб с того выросло.
Пёршая: щоб твои родичи по всём свете разголосиля: же взяв у нас дочку у ночи кгвалтом и держит у себе место нодложницы.
Другая причина: же державши вашу милость у себе, я бым не могл жадною мерою витриматн (никаким способом удержаться), да и ваша милость также; муселибисмо (принуждены бы были мы) из собою жити так, як малженство кажет, а потом пришло бы неблагословление до церкви и клятка, же бы нам с собою не жити. Где ж бы я на тот час подел и мне б же чрез то вашу милость жаль, щоб есь на-потом на мене не плакала».
Уверив сторонних и мужа в действительности преступления, свершённого гетманом, Любовь Фёдоровна настоятельно требовала от Василия Леонтиевича, чтобы он написал к Мазепе пасквильное письмо; долго не соглашался Василий Леонтиевич с желанием жены, наконец, то убеждениями, то угрозами, то надеждою на блистательную будущность она вынудила-таки у него согласие.
Василий Леонтиевич не предвидел, к чему всё это клонится – не догадывался, что честолюбивая жена его, исполнение давно задуманного плана своего решила основать на погибели дочери, безрассудно оклеветать её пред целым светом. И в самом деле, Любовь Фёдоровна так хитро и так лукаво умела вести свои замыслы, что немногие ещё вполне успели понять её характер, и вся вина пала на безвинную дочь, на Мазепу и частью на Кочубея; а главная виновница осталась в стороне.
Василий Леонтиевич занимался в писарне; перед ним сидела Любовь Фёдоровна и слушала его письмо к гетману.
«Ясневельможный, милостивый гетман, мой вельце милостивый Пане и Великий добродию.
Зная мудрое слово, что лучше смерть, нежели жизнь горькая, я рад бы и умереть, не дождавшись такого злейшаго поношения, после котораго я хуже пса издохшаго. Горько тоскует и болит сердце моё: быть в числе тех, которые дочь продали за корысть, достойны за это посрамления, изгнания и смертной казни. Горе мне несчастному! Надеялся ли я, при моих немалых заслугах в войске, при моём святом благочестии, понесть на себя такую укоризну? Того ли я дослуживался? Кому другому случилось ли это из служащих при мне людей чиновных и нечиновных? О, горе мне несчастному, ото всех заплёванному, к такому злому концу приведённому! Моё будущее утешение в дочери изменилось в смуту, радость в плач, весёлость в сетование. Я один из тех, кому сладко о смерти вспоминать. Желал бы я спросить тех, которые в гробах уже лежат, которые были в жизни несчастливцами, были ли у ник горести, какова горесть сердца моего? Омрачился снег очей моих! Окружил меня стыд! Не могу прямо глядеть на лица людския, срам и поношение покрыли меня! Я плачу день и ночь с моею бедною женой. И прежнее здоровье моё от сокрушения исчезло; от чего не могу бывать у Вашей Вельможности, в чём до стоп ног Вашей Вельможности рабско кланяюсь, всепокорнейше прошу себе милостиваго рассмотрительного разрешения на всё изъяснённое».
Получив письмо это, Мазепа понял, по какой причине, с какою целью было оно написано и кто вынудил к этому Генерального судью, и поэтому тотчас же написал ответ:
«Пане Кочубей!
Доносишь нам о каком-то своём сердечном сожалении; следовало бы тебе строже обходиться с твоею гордою велеречивою женою, которую, как вижу, не умеешь или не можешь держать в своих руках и доказать, что одинаковый мундштук на коня и лошицу кладут; она-то, а не кто другой, печали твоей причиною, если какая в этот час в доме твоём обретается. Уходила Святая Великомученица Варвара пред отцом своим Диоскором не в дом гетманский, а в скверное место между овчарнями, в расселины каменныя, страха ради смертнаго. Не можешь, правду сказать, никогда свободен быть от печали; ты очень нездоров; опять ты из сердца своего не можешь изринуть бунтовницкого духа, который, как разумею, не так сроден тебе, как от подучения жены своей имеешь; а если он зародился в тебе от презрения к Богу, тогда ты сам устроил погибель всему дому своему, то ни на кого не нарекай, не плачь, только на свою и жены проклятую заносчивость, гордость и высокоумие. В течение шестнадцати лет прощалось и проходило без внимания, великим вашим, смерти стоющим, поступкам; однако, как вижу, ни снисхождение моё, ни доброхотливость не могли исправить; а что намекаешь в пашквильном письме о каком-то блуде, того я не знаю и не разумею, разве сам блудишь, когда слушаешь своей жены: ибо посполитные люди говорят: «Где хвост правит, там голова бредит».
XXII
В окованном серебром и позолоченном немецком берлине, внутри обитом золотою парчою с собольею опушкою и запряжённом в простяж шестью вороными жеребцами, головы которых были украшены страусовыми перьями, живописно склонёнными в стороны, ехал гетман в старую деревянную Андреевскую церковь. Это было в храмовой праздник этой церкви; впереди гетмана скакали верхами жолнеры и жёлдаты; за ними ехал верхом на сером коне полковник и рядом с ним генеральный бунчужный, окружённый компанейцами. Полковник вёз знамя войска Запорожского, государей царей и великих князей Иоанна и Петра Алексеевича и царевны Софии Алексеевны, – треугольное с изображением на обеих сторонах Российского герба, под коим крест из звёзд и образ Спасителя с надписью: «Царь Царём и Господь Господем». По бокам креста также молитвенные надписи, а внизу: 1688 года 6-го Января, дано их Царскаго Величества верному подданному войска Запорожскаго обоих сторон Днепра гетману Ивану Степановичу Мазепе. В руках Генерального бунчужного был золотой бунчук. Потом был берлин гетмана, окружённый надворною гвардиею, за берлином казаки и народ.
В этот день Иван Степанович был в Андреевской лепте, в светло-зелёном бархатном кафтане, опушённом чёрными соболями с бриллиантовыми пуговицами и золотыми снурками; кафтан этот подарен был гетману царём; в руках держал он большую булаву, осыпанную драгоценными камнями. Мазепа, встреченный духовенством у входа в церковь, стал по левую сторону царских дверей на обычном своём месте: его окружали Генеральная старшина, приехавшие к тому дню полковники и другие чины и посполитство.
Василий Леонтиевич, приехавший раньше гетмана, стоял в отдалении от всех; на бледном болезненном лице его ясно выражалась сердечная грусть.
Отслушав обедню, приложившись к св. кресту и принявши от архимандрита просфиру, Иван Степанович оборотился к Генеральной старшине, поздравил их с праздником, пригласил к себе на обед, потом подошёл к молившемуся Кочубею, взял его за руку, вышел с ним из церкви, посадил с собою в берлин и приказал ехать домой.
– Василий Леонтьевич, ты меня и знать не хочешь! Слушай, верный товарищ мой, друже, родичу милый, можно ли тому поверить, что горделивая жена твоя выдумала на меня – ты видишь меня – слава Богу милосердному, седьмой десяток лет живу на свете – старик уже, нет зубов – кашу ем, ходить не в силах... и чтоб я свою крестницу, мою коханую дочку так опорочил – не смех ли это, скажи сам, Василий Леонтьевич, по чистой совести? А?.. Что ж ты задумался – рассуди сам: не выдумка ли это твоей Любоньки! Так, Василий Леонтьевич, ты плачешь, поверив несправедливым словам своей жены; плачу же и я, жалея тебя. Горе мне! Ты был у меня во всех делах верное моё око, правая моя рука, – забыл ты меня, и Бог забудет тебя! Я пред тобою невинен – клянусь всеми киевскими угодниками, клянусь самим Господом, я невинен; не клялся бы я так и не говорил бы тебе об этом, если бы не жалел несчастной твоей дочери и не любил бы тебя; ты знаешь меня – такие дела я оставлял без уважения; но теперь у меня болит сердце и душа тоскует.
– Как мне не горевать, ясневельможный, когда дочь моя ночевала в твоём доме.
– Слушай, Василий Леонтьевич, ты, я вижу, не разобрал дела и поверил жене; слушай же, мне пред тобою неправды не говорить: ты знаешь, что святые от отцов своих укрывались – так и Мотрёнька: бежала от злобной матери: приехала она ко мне рано утром, – ты хоть её расспроси под клятвою, пред образом, – сама она упросила гайдука моего Дмитра взять её и привезть ко мне, не была у меня и минуты; я расспросил всё и отправил её к тебе.
Кочубей тяжело вздохнул и сказал:
– Не знаю, как это будет!..
– Так будет, Василий Леонтьевич! Выдумкам жены будем верить и погибнем!
– Не знаю, что и сказать!
– Так знай же, куме, что твоя дочка чиста и непорочна, я готов пред Богом присягнуть!
– Не знаю, что сказала бы Любонька, услышавши твои слова, ясневельможный!
– Что ты мне с своею горделивою Любонькою – она погубила родную свою дочку; грех, тяжкий грех на её душе; Бог рассудит всех нас.
– Так и я говорю!.
– Да так, так!
Берлин остановился у крыльца.
Скоро съехались гости. Между тем накрыли столы, поставили наливки, водки, принесли разные закуски, и гости принялись за завтрак, перешёптываясь между собою о том, что Кочубей приехал до гетмана; а до этого более трёх месяцев не бывал он в доме гетмана, что Любовь Фёдоровна на верёвке его держала всё время.
– Было б ему ещё десять лет сидеть, не ездить до гетмана и верить глупым словам жены – прости, Господи! – сказал генеральный бунчужный.
– Смех и только.
– Да просто курам смех! – говорили гости, украдкою посматривали на печального Кочубея, выдумывая на его счёт разные остроты, и от всего сердца хохотали.
Возвратившись домой, Кочубей рассказал Любови Фёдоровне встречу и обхождение с ним гетмана и присовокупил:
– Бог его знает, а как и на мою думку, так Иван Степанович безгрешный против нас; а мы только с тобою опечалились и дочку нашу огорчили.
– Что ты мне говоришь, безумец ты, разве у меня глаз, головы и ушей нет, разве я глухая и слепая, что ничего не слышала, не видела и не знала!..
Василий Леонтьевич замолчал.
– Ты не рассуждай, а слушай, что говорю, то и делай!
– Слушаю, душко!
– То-то!
Прошло несколько месяцев, благонамеренные люди заговорили, что всему злу и несчастию Мотрёньки причиною злая мать; утверждали, что старик гетман вовсе ни в чём не виновен против Кочубеевых, Мотрёньку любил как крестную дочь. Были в числе этих благонамеренных, которые открыто по дружбе представляли Кочубею всю несообразность и невозможность подозрений. Василий Леонтьевич рад бы увериться в справедливости представленных обстоятельств, но он боялся и думать несогласно с мнением жены, хотя ясно видел в этом разе явную её несправедливость; но так надобно было, так приказала Любовь Фёдоровна, и думать иначе нельзя!..
Чрез неделю Мазепа приехал в дом Кочубея, и, против ожидания, Любовь Фёдоровна приняла его чрезвычайно ласково, Василий Леонтьевич душевно радовался этому – Любовь Фёдоровна даже искренно просила у гетмана прощения в своём негодовании на него, говоря, что злые люди всему причиною, что если бы она не слушала поганых языков, так ничего бы и не было подобного.
Иван Степанович не старался доказывать и утверждать справедливость слов Кочубеевой; истина, видимая для всех, была на его стороне. Распивши несколько бутылок дедовского мёда, Мазепа и Василий Леонтьевич уехали вместе в Бахмач по войсковым делам, Любовь Фёдоровна и Мотрёнька остались одни.
Чрез два дня после выезда Кочубея в Бахмачь, в полдень, когда Любовь Фёдоровна сидела на крыльце и выторговывала два десятка золотых карасей, принесённых знакомым рыболовом, но дороге вдали заклубилась пыль.
– Эй, хлопцы, обедать приготовляйте, пан едет – скорей же мне!
Слуги засуетились и начали готовить для обеда стол.
Любовь Фёдоровна, закончив торг за караси, вошла в комнаты, и в ту же минуту бричка, дребезжа и стуча, подкатила к крыльцу, и против ожидания из брички вышел не Василий Леонтьевич, а Чуйкевич, прежний жених Мотрёньки; увидев его, Любовь Фёдоровна обратилась к Мотрёньке, стоявшей у окна, и сказала:
– Твой жених приехал; ей-же-ей, если бы посватал теперь, перекрестившись обеими руками, отдала бы тебя за него.
Мотрёнька надула нижнюю губку и тихонько ушла.
Чуйкевич вошёл в комнату.
– Слухом слыхать в очи видать, с какого царства, с какого государства прилетел, ты мой ясный сокол! Сколько лет, сколько зим не видала я тебя, моего сизого голубчика; и не стыдно ж тебе забывать нас, забывать меня, когда я любила тебя как сына родного!
Чуйкевич поцеловал одну, потом и другую руку Любовь Фёдоровны и сказал.
– Мати моя родная, три месяца с постели не вставал, и едва только немного оправился, в ту ж минуту сел в бричку и прилетел к вам!
– Бедный сын мой был не здоров – что ж у тебя болело?
– Ох, ох, ох!.. Известно, что, мати моя, – сердце болело!..
– От чего ж-таки сердце болело?..
– Ох! Разве и не знаете, от чего моё сердце болит?!
– Да от чего ж, право, не знаю, – ты когда-то говорил, что любишь дочку мою; и она тебя любит, разве ты уже другую полюбил?..
– Никого не полюбил и никого не любил, кроме дочки вашей.
– Вот и горазд, – чего ж тужить.
– Тужить? Как же мне не тужить... Если бы я знал…
– Да ты так, Василию, прямо скажи мне, – ты знаешь, я не люблю никаких рацемоний: любишь Мотрёньку? Хочешь жениться на ней? – Скажи мне, как родной своей матери, и верь мне, всё сделаю, как захочешь – я тебя сама люблю, как родного сына!
Чуйкевич поклонился и поцеловал руку, потом опять поклонился в пояс и сказал:
– Да если бы ваша милость была...
– Ну добре, что ж дальше?
– Да хоть и так!
– Что ж так?
– Да хоть бы и отдали за меня вашу дочку!
– Ну и добре, сыну; чего ж ты ещё стыдился сказать мне, – ты знаешь, без меня сделать этого нельзя, хочешь, чтоб я была мать твоя и скрываешься от меня. Ну, сыну, Господь Бог благословит тебя! Посиди здесь, я позову Мотрёньку, пока что, мы теперь одни, Василия Леонтьевича нет дома – поехал в Бахмач, так мы и без него порешим дело.
Любовь Фёдоровна вышла.
Чуйкевич, приехав с той мыслью, чтобы вторично просить руки Мотрёньки, и полагая, что по-прежнему получит отказ, заранее уже страдал: до него долетали сплетни насчёт Мазепы; но, будучи благоразумен, Чуйкевич счёл слухи эти за гнусные наветы, и не верил никому и ничему; но рассчитывал, что эти сплетни сделают Кочубеевых сговорчивее – и не ошибся.
Вошла Любовь Фёдоровна, ведя за руку Мотрёньку.
Чуйкевич остолбенел, увидев свою невесту: в глазах его она совершенно переменялась.
– Господи Боже, кого я вижу! – воскликнул он. – Что с тобою, Мотрона Васильевна! Ты из мёртвых воскресла… ты была больна – так ужасно похудела. – Господь с тобою!..
– Это в другое время расскажешь ей, сыну, а теперь, вот твоя невеста: люби и жалуй её, и я тебя буду любить и жаловать; поцелуйтесь... ну, ну, полно стыдиться, при мне можно поцеловаться; поцелуйтесь!
Чуйкевич обнял и поцеловал Мотрёньку.
– Слушай, Василий, ты же не откладывай день за день ни сватанья, ни венчанья; а скажи, когда со старостами приедешь за рушниками и когда свадьбу назначишь? По-моему, так нечего откладывать – я бы повезла вас в церковь, поставила бы хорошенько в парочке, да и сказала бы:
– Венчай, батюшка, детей моих. Перевенчала бы вас, привезла бы вас к себе, отгуляла свадьбу, да и с Богом – на все четыре стороны!
– Да хоть и гак!
– Когда ж свадьба, назначь сама.
– Да хоть и после зелёных святок.
– Ну и добре!
В ту минуту, когда Любовь Фёдоровна условливалась с Чуйкевичем о дне свадьбы, Василий Леонтьевич, возвратившийся с Бахмача, тихо вошёл в комнату: нечаянное его появление порадовало жену.
– Поздравляю тебя с новым сыном, Василию! – радостно сказала Любовь Фёдоровна.
Василий Леонтьевич понял, в чём дело, и, поздоровавшись с Чуйкевичем, поблагодарил жену за поздравление.
Любовь Фёдоровна продолжала:
– Добрый сын мой! – она наклонила к себе голову Чуйкевича, погладила её и поцеловала. – Добрый мой сын, скоро за рушниками приедет к нам... Ну, Василий, благодари Господа Бога – отдаю я Мотрёньку замуж, как ты думаешь?
– Как мне ещё думать, Любонько, когда ты согласна, так и я, как ты скажешь, думаю.
– И горазд; ну, дети мои милыя, поцелуйтесь лее ещё раз.
Мотрёнька, бледная, сидела молча, очи её тускло блистали, уста были покрыты мёртвою синевою и выражали болезненную улыбку. Чуйкевич подошёл к ней, взял за руку и поцеловал. Любовь Фёдоровна, видимо, торжествовала, Чуйкевич тоже; по выражению лица Кочубея трудно было узнать состояние его души.
Дом Василия Леонтьевича наполнился Гальками, Домахами, Стехами, Приськами; все они пели песни, шили и вышивали приданое для своей милой панночки; но панночка, к общему сожалению, слегла в постель.
– Изурочили, сглазили злые люди из зависти нашу панночку, – говорили девки, и умолкли их песни. Любовь Фёдоровна собрала со всего Батурина шептух и знахарей; знахари и шептухи, подкуривши страждущую пухом из перин, наговорённою шелухою с луку, змеиною чешуёю, купали её в тёплой воде, в которую, когда она кипела, бросали чёрных живых куриц, делая над ними разные заклинания; ставили больную против месяца, шептали, умывая её лицо водою, освещённою месяцем, – выливали каждый день переполох... но всё это не помогало; послали в Полтавщину за прославленным там шептуном Ильёю; приехал старик, посмотрел на Мотрёньку, покачал седою головою и сказал.
– А что ж, пани, – отгоню злую беду от вашей дочки, только скажите наперёд, сколько порешили дать мне за труды мои карбованцов?..
– Пять!
– Добре!
Старик принялся купать больную, и после третьей ванны Мотрёнька, которая между тем, во время болезни и знахарских истязаний, почувствовала облегчение; всякий раз, когда она выходила из ванны, пот градом катился с неё, к удивлению всех; через неделю она встала с постели и прохаживалась по комнате. Илья за шептанье и лечение получил пять целковых да два мешка пшеницы и с радостью уехал обратно в Полтавщину.
Веселее запели девицы, радуясь выздоровлению панночки, в доме Кочубея вдруг псе оживилось, сам Василий Леонтьевич, казалось, реже задумывался, иногда начинал даже шутить и смеяться.
Любовь Фёдоровна – нечего и говорить, от восторга с утра до вечера суетилась, заботясь скорее кончать приготовляемое приданое.
Через месяц всё было готово: три высоких и длинных сундука, окованные железом, вмещали в себе приданое Мотрёньки; день на день из Полтавщины ожидали пана Искру, из Ахтырки полковника Осипова да полковников Лубенского, Переяславского, Прилукского и некоторых своих родственников.
Мало-помалу съехались жданные гости, и дом Василия Леонтиевича наполнился, как кошница наполняется золотым зерном пшеницы.
Был май на исходе. Любовь Фёдоровна целый день смотрела в окно, ожидая жениха, но его всё не было; часу в четвёртом послала нарочного вершника за две мили вперёд высматривать ожидаемого гостя, но через час и вершник возвратился, Кочубеева начала скучать, в голове её родилась мысль, что Чуйкевич не сдержит своего слова и не приедет за рушниками; с этою беспокойною мыслью легла она в постель и целую ночь не могла уснуть; наутро то же самое: ждала целый день, и всё нет как нет дорогого гостя.