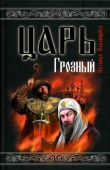Текст книги "Кочубей"
Автор книги: Даниил Мордовцев
Соавторы: Николай Сементовский,Фаддей Булгарин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 53 (всего у книги 57 страниц)
Мотрёнька – эта живая тень мертвеца – в дни предшествовавшие сильно грустила; теперь, казалось, на лице её хотя на мгновение, а всё же пролетала радостная улыбка, в свою очередь, она душевно радовалась неприезду Чуйкевича – она его не только не любила, но, одним словом, ненавидела: в последнее время её очень занимала мысль навсегда оставить свет и поселиться в тихом уединённом монастыре.
Вечером, когда Любовь Фёдоровна и забыла о жданном госте, к крыльцу подкатились две брички; из одной выпрыгнул Чуйкевич, а из другой два старика.
Любовь Фёдоровна тогда уже увидела приехавших, когда гости вошли в комнату.
Жених был одет в жупань светло-зелёного сукна, подпоясан красным шёлковым поясом; а старосты, старики, – тёмного цвета; все при саблях в смушевых сивых шапках и в красных сафьянных сапогах, шитых золотом, с серебряными каблуками. Помолившись к святым иконам и поклонившись на все четыре стороны, жених пошёл вперёд, а за ним старосты. Любовь Фёдоровна и Василий Леонтиевич ласково приняли гостей и усадили на диван.
Начался разговор. Кочубей говорил о войсковых делах, Любовь Фёдоровна рассказывала о своём хозяйстве – хвалила сама себя. Чуйкевич, опустив глаза в землю, молча сидел против Мотрёньки, также безмолствовавшей.
– Знаем, знаем вашу милость, хозяйство у вас, нечего и говорить, дал бы Бог и детям вашим такое, так и счастливы будут, – сказал един из старост.
– Дай Боже!
– Мы слышали от людей, да и сами знаем, что в вашем хозяйстве в зелёном садике есть тонкая да высокая берёзонька, зелёная берёзонька; а в нашем саду есть высокий дубок, – чи не можно те-е-те, як его... гм, гм?. – спросил другой староста, покручивая усы.
– Гм... гм... от чего ж и не можно, всё на свете можно.
– Вот и добре, добродийко! Таки-так, что берёза и дубок в одном саду расти будут? – спросил другой староста и пригладил чуприпу.
– Да хоть и так, я согласна.
– А вы, наш добродий и благодетель наш Генеральный судья, как вы скажете мудрым словом своим? – спросил староста, у которого чёрные усы были в четверть аршина длиною.
– Да я так и скажу, как сказала вам моя пани; ся берёзка: что знает пани добродинка, пусть то и делает, её воля вольная!..
– Разумное слово!
– Разумное, нечего сказать!
– Эге, что так! Ну что ж будете делать, паны старосты? – спросила Кочубеева.
– A-так, пани добродийко, чи не можно, чтоб рушниками перевязать вашу зелёную берёзку, да нашего прямого дубка, – так-таки скажите в одно слово?
– Ох вы, мудрые да умные паны старосты, а как моя берёзка да ваши руки перевяжет, что тогда скажете-с? – с весёлостью спросила Любовь Фёдоровна.
– А что скажем-с, – с самодовольствием отвечал староста, – будем в пояс кланяться вам, да и нашего дубка заставим поклониться!
– Ну, когда на то пошло, принеси ж ты, моя зелёная берёзка, моя дочко Мотрёнько, шёлковую хустку да отдай её зелёному дубику.
Встала Мотрёнька, вышла в другую комнату и через несколько минут с заплаканными глазами вынесла на серебряном подносе шёлковый платок розового цвета и поднесла его Чуйкевичу. Чуйкевич взял платок и на место его положил десять червонцев.
– А принеси ж теперь, дочко, орляные рушники.
Пошла Мотрёнька в другую комнату и опять воротилась, неся на том же серебряном подносе два длинные, тонкого холста утиральника, с вышитыми по концам красным шёлком орлами. Поднесла одному старосте, староста взял рушник и на место его положил пять червонцев; поднесла другому – и другой то лее сделал.
– А-ну, пане добродию Кондрате, перевяжи ж меня рушником!
– Добре, пане добродию Иване; перевяжи и ты меня.
Старосты друг другу повязали через плечи рушники, взяли за руку жениха и невесту и подвели к отцу и матери, прося их благословить своих детей.
Сделавши три земные поклона, Чуйкевич и Мотрёнька стали на колена перед родителями и наклонили головы.
Василий Леонтиевич благословил детей иконою Спасителя и Божией Матери, потом благословила Любовь Фёдоровна и матерински наставляла их любить друг друга, жить в мире и согласии.
После этого началось чествованье старост: пили за здравие помолвленных, за здоровье отца и матери и всех добрых людей.
Поздно вечером старосты и молодой уехали, дав слово назавтра приехать к обеду.
Мотрёнька пошла страдать в свою комнату, Любовь Фёдоровна занялась приготовлением к свадьбе, которую положили сыграть не откладывая. Василий Леонтиевич сидел в своей комнате и обдумывал предстоявшую поездку к Мазепе, просить его гетманского позволения выдать дочь за Чуйкевича и вместе с этим пригласить его и на свадьбу.
На другой день рано утром Кочубей сел в берлин и поехал в Гончаровку к гетману; когда вошёл Василий Леонтиевич в писарню гетмана, Мазепа писал письмо на польском языке, за спиною его стояли Заленский и какой-то видный собою поляк.
Мазепа по обыкновению принял Василия Леонтиевича с распростёртыми объятиями; казалось, между ними не только никогда не существовала вражда, но и не могла быть. Заленский и поляк вышли.
– Приехал до твоей милости, ясневельможный добродию, гетмане Иване Степановичу, просить разрешения: я посватал Мотрёньку за пана Чуйкевича, будь ласков, на свадьбу покорнейше просим: не откажи нам в чести.
– Как хочешь, добродий, Василий Леонтиевич, как хочешь, мой наймилейший, найлюбезнейший куме, так и делай; а когда попросишь моего совета, так скажу тебе, что скоро, скоро гетманщина будет под иною властью благою, законною; тогда найдётся другой жених для Мотрёньки из знатных шляхтичей, который будет вам доброю подпорою! Вот тебе, куме мой милый, совет мой!..
Кочубей молчал.
Мазепа говорил ему о притеснениях, какие делает гетманщине Московский царь, и хвалил короля Польского, страшился шведов и боялся нашествия Карла на гетманщину. Василий Леонтиевич удивлялся откровенности гетмана; но не догадывался, что чем Мазепа был откровеннее на словах, тем скрытнее на деле, чем неосторожнее в обхождении, тем злее и хитрее была его душа.
Мазепа уклонился от обещания быть на свадьбе, просил только помедлить. Кочубей возвратился домой; слышанное слово до слова передал Любови Фёдоровне.
– Ну, Василий, как ты себе хочешь, а я боюсь, чтоб гетман опять не наделал нам беды; и потому-то завтра же, с благословением Божиим перевенчаем детей, да и свадьбу отгуляем; у меня всё готово.
– Как хочешь, душко.
– Так будет, как я тебе говорю.
– Когда так, так и так!
В этот же день Любовь Фёдоровна распорядилась устроить всё к венцу дочери.
Вечером дружки собрались к Мотрёньке, пели печальные и радостные песни, а на другой день, к удивлению всех, Мотрёнька стояла рядом с Чуйкевичем, и отец Игнатий с отцом Петром перевенчали их. Загремели в доме Кочубея скрипки, басы, литавры, бубны и цимбалы; старики и молодые танцевали казачка, метелицы, журавля; пели, и веселие шумною рекою лилось в дом... а сыч по-прежнему кричал в саду.
XXIII
Любовь Фёдоровна ставила в церкви пред образом Божией Матери толстую и высокую свечу и думала:
– Благодарю Тебя, Владычица Небесная, за неизречённыя милости Твои, благодарю, Царице души моей, что сподобила меня выдать Мотрёньку замуж, – и вслед за молитвою, лукавый помысл разыгрался во всю пустоту тщеславной души. Любовь Фёдоровна мечтала: теперь не помешает она мне в давно затеянном деле, не станет среди дороги, не опередит меня. Гетман злится на нас, пусть злится, потерплю с месяц, а там сумею, что сделать, не долго остаётся держать тебе, изменник, булаву! Отдадут её Василию, буду и я гетманшей, тогда даю обещание – икону Матери Божией обложить серебряною шатою, на Спасителя – позолоченный венец сделаю и куплю ко всем иконам ставники. Гетман теперь нас и знать уже не хочет: как же, вишь, против согласия его выдали дочку! Жаль, что не отдали её за какого-нибудь нечестивого ляха, друга гетманского, – куда ж как хорошо! Но вот моё горе, Чуйкевич каждый день у гетмана, проклятый Мазепа приманил его к себе... ну, ничего, всё ничего, я своё выполню.
Поставила свечу, перекрестилась, стала на своём месте, слушает молитвы, крестится и всё не перестаёт обдумывать, как бы удобнее устроить погибель гетману.
Мазепа действительно негодовал на Кочубея за скорую свадьбу дочери, на которой он не был; честолюбие старика возгорелось, и он принял сухо Василия Леонтиевича, приехавшего к нему чрез несколько дней после свадьбы.
Чуйкевич, как и отец его, в прежнее время не любил гетмана; любя же безумно Мотрёньку, он повиновался её желаниям, исполнял все её требования, и поэтому-то, на другой день, к досаде Любови Фёдоровны, Чуйкевич с Мотрёнькою поехали к Мазепе. Радость, что видит Мотрёньку; печаль, что она выдана против его желания, так слились в сердце старика, что нельзя было постичь состояние его духа; если, чему именно радовался он вслух, так это собственно тому, что Мотрёнька теперь избегнет истязаний злой матери.
Поблагословивши молодых, гетман одарил их деньгами и богатыми вещами и взял с Чуйкевича честное казачье слово, что часто будет заезжать к нему с Мотрёнькою. По отъезде их Мазепа несколько дней был чрезвычайно грустен и задумчив.
Недели две или три после свадьбы Любовь Фёдоровна сидела вдвоём с женою полтавского полковника Искры – чрезвычайно красивой собою малороссиянки; будучи оставлена Мазепой, некогда великим другом её, она сделалась его отъявленным врагом. Об чём-то горячо разговаривали; дверь комнаты, для предосторожности от нежданного гостя, была заперта.
– Вот, сестрица моя милая, я тебе сейчас покажу, прочитай, сделай милость, я с нетерпением ждала тебя и никому не давала читать; а Василий ни за что не сказал бы мне, что пишет гетман; да я, признаться тебе, просто украла это письмо у него, он и не знает и не догадывается; сказано, беспечная голова!..
– Ну, добре, сестрице.
Искрина развернула письмо, посмотрела на подпись и громко её прочла:
– Иван Мазепа... так сестрица, гетман писал письмо!
– Ну, что ж пишет, читай!
– А вот, слушай!
Искрина прочла письмо Мазепы, писанное в ответ на письмо Кочубея, в котором Василий Леонтиевич упрекал гетмана касательно Мотрёньки.
Любовь Фёдоровна, услышав мнение о ней Мазепы, что она гордая, заносчивая, злобная, что она одна причиной печали и несчастия Кочубея, так рассердилась и пришла в такое бешенство, что не помнила слов своих, не знала, что делала; она стала перед образом, перекрестилась и с криком произнесла:
– Господи Боже, и ты, Пречистая Матерь Божия, накажи изверга дьявола Мазепу, да постигнуть его со всем его домом все казни египецкия! – и потом подошла к столу, ударила кулаком по нему и закричала громче прежнего:
– Докажу тебе, сестрица, докажу, что проклятый гетман недолго будет гетманствовать, вспомнишь ты через год мои слова и тогда скажешь, правду я тебе говорила!
Искрина поджигала Кочубееву.
После выезда Искриной Любовь Фёдоровна с большим нетерпением ожидала возвращения Василия Леонтиевича, который был в Батурине; к вечеру он возвратился.
– Что слышал, Василий, про гетмана, какой он думки? Мне Искрина говорила, Мазепа непременно хочет, чтобы гетманщина была за поляками!
– Слышал и я это, все говорят так, да кто знает, что думает сам гетман; может быть, одни слухи. Правду сказать, не нашим неразумным головам понять его: он человек великаго и хитраго разума.
– Слухи! У тебя всё одни слухи... кому ж он говорил, тебе или кому другому, когда ты ездил к нему перед, свадьбою Мотрёньки, чтобы ты обождал выдавать её замуж, что будем за поляками, так для неё сыщется жених из знатных шляхтичей!
– Так, Любонько, так; да послушай меня, что ещё я от него слышал!
– А что?
– Месяца три тому назад, когда я был у него один, он позвал меня к себе в спальню, запер дверь, да и говорит:
– Знаешь, куме, мать Вишневецких, княгиня Дульская, когда мы будем за поляками, сделает меня князем Черниговским; а казацкому войску даст великия вольности и выгоды; вот тогда-то, куме мой милый, роскошь и житье нам будет; это верно, – говорил гетман, – как Бог свят верно, Станислав близкий родственник Дульской.
– Когда ж это Дульская говорила ему?
– Когда Мазепа был в селе Дульской, в Белой Кринице, он тогда крестил с нею сына князя Януша Вишневецкаго.
– Вот какой гетман… а царь, Господи Боже твоя воля, как любит его царь!
– Да, Любонько, и за здоровье Дульской не раз уже пили мы венгерское за обедом у гетмана; пили и тогда, когда приехал к нему боярин Иван Алексеевич Мусин-Пушкин, и сказал, что Синицкий побил войска царския. Гетман, нет чтоб печалиться, так смеялся, да винцо попивал за здоровье Дульской, – всего бывало!
– Василий, милый мой Василий, послушай добраго слова моего, послушайся меня последний раз, и увидишь, когда в руках наших не будет гетманская булава!
– Что ж, Любонько, разве я когда-нибудь не слушал тебя!
– Да всё оно так, но послушай совета моего в этот раз... послушаешь?
– Послушаю.
– Пошлём донос царю на гетмана, пошлём тайно!
Василий Леонтиевич покачал головою и спросил:
– Как же это будет, что из этого выйдет?
– Что выйдет, Василий, выйдет то, что ты будешь гетманом, а я гетманшею!
– Нет, что-то не так, Любонько!
– Тебе всё не так – рассудишь ли ты что-нибудь своим разумом, голова твоя бедная!
– Да что ж мы донесём!
– Что донесём? Ты слушай меня!..
Кочубей вздохнул.
– Тяжко, когда в уме на полушку нить разума!.. Не вздыхай, а слушай меня.
Кочубей отвернулся от жены.
– Ты и слушать меня не хочешь?!..
– Не век же мне жить жиночим умом!
– Ах ты... жиночим умом не жить ему! Да где ж у тебя свой разум, когда не слушаешь, что я тебе говорю!
Любовь Фёдоровна застучала об пол ногою и громко сказала.
– Ты слушай, что я приказываю тебе, а своего ничего не выдумывай, умник ты!..
– Да я, Любонько, слушаю тебя, Господь с тобою, откуда взяла ты, что я не слушаю тебя!
– Так и слушай, что я говорю, тебе: на гетмана пошлём донос дарю, гетмана в кандалы, а тебе булаву.
– Добро, Любонько.
– То-то, что добре! Разве мы не правду донесём дарю, когда скажем, что Мазепа снюхался с королём Лещинским и хочет отдать ему гетманщину; что Заленской, проклятый иезуит, тайно привозит к нему письма из Польши; что когда в Батурине проезжал Александр Васильевич Кикин, Мазепа думал, что едет сам царь, так чтоб убить царя – поставил в тайных местах вокруг Бахмача триста сердюков с заряженными рушницами, отдав приказание им по знаку стрелять в того, на кого он покажет. Ого-го, я всё знаю, Василий, и ты того не знаешь, что я знаю; не бойсь, помолись Богу, да и за дело: ты не простой казак, гетман не повесит, в тюрьму не посадит тебя... нечего страшиться, а донесём о его предательских делах – и будешь гетманствовать!
– Добре, Любонько, я на тебя надеюсь, на тебя полагаюсь, ты всё сделаешь, как сама задумала такое великое дело... сама решай; у тебя, правду сказать, голова умная, а я человек слабый: сам знаю, что ж, Богу так угодно было… ты у меня розумная пани.
– Сам знаешь это, ну и слушай меня; исполняй волю мою и булаву возьмёшь, когда всё кончим это твоё дело, а обдумывать моё!
– Добре, Любонько, ей ей-же добре!..
– То-то что добре!
С этого часа Любовь Фёдоровна не переставала каждый день тревожить Кочубея, чтобы он написал донос на гетмана. Василий Леонтьевич, по обычаю, уступал, соглашался, не отказывался исполнить, а сам день за день откладывал настояние жены до лучшего и счастливейшего часа, как выражался он.
Между тем Мазепа узнал, что царь поехал в Киев, поспешил и сам за ним, назначив по себе Наказным гетманом Генерального судью Василия Леонтиевича Кочубея, к неописанной радости и торжеству Любови Фёдоровны.
– Теперь всё достигну, – подумала Любовь Фёдоровна и, поздравляя мужа с Наказным гетманством, прибавила:
– Василий, нужно так сделать, чтобы с этого часа булава навсегда уже осталась в твоих руках; не получит её обратно проклятый Мазепа; сам Господь за нас, чего же нам медлить, – донос царю, Мазепу в кандалы, а ты из наказного да настоящим гетманом, – хитрость не велика!..
– В самом деле! – подумал Кочубей: лукавый тут и его осетил блеском булавы, – жена дело говорит: хорошо если бы не отдавать назад булаву Мазепе! – и согласился на её затеи.
Как послать донос и через кого, вот была задача для Кочубея и для жены его; но случай представился, и притом, как думала она, редкий случай, посланный самим Богом для наказания нечестивого Мазепы.
День был не так жаркий, как вообще бывают в Малороссии июльские дни. В шестом часу вечера, верстах в двух от Батурина, у земляной могилы, находившейся подле самой дороги, отдыхали усталые от пути два чернеца и любовались прекрасным видом Батурина и его окрестностей. По чёрной извилистой дороге ехал вершник, и казалось, всё отдалялся от Батурина к черневшемуся лесу; но вдруг остановил коня, и как будто заметив что-то в стороне, где сидели чернецы, начал приближаться к ним.
– Он к нам едет, отче Никаноре?
– Кажись, к нам, брате Трифилию!
– К нам, отче!
Вершник действительно приблизился к монахам, сняв перед ними шапку, поклонился и спросил:
– Отпочиваете, батюшки?
– Отдыхаем, брате!
– А не можно спросить, откуда?
– Из монастыря!
– А из какого?
– Из Севскаго Спаскаго.
– А, знаю; когда-то и я с панами был в вашем монастыре.
– С какими панами? – спросил Трифилий.
– Ас Наказным гетманом Василием Леонтиевичем Кочубеем и женою его, Любовь Фёдоровною; тогда ещё панночка наша не была за паном Чуйкевичем, да ещё жива была и покойная, Царство ей небесное, Анна Васильевна, знаете, что за Обидовским была.
Черновцы смотрели друг на друга в недоумении.
– Что ж, разве не знаете панов моих, они были в монастыре?.. Да Кочубея кто не знает! – Наказный гетман; он как приедет в какой монастырь, так со всеми чернецами заведёт дружбу, страх как любит чернецов; и грех сказать, набожный пан, вы не заходили к нему?
– Нет! – отвечал Никанор.
– Жаль; а он бы и на монастырь дал, и вы бы славно отдохнули в будынках; его первая радость разговаривать с чернецами; он, батюшки, пан добрый, милостивый и любит всяких: богомольцев, а вас паче всех.
– Ну, когда так, отведи нас, брате, к твоему пану; подаст что на монастырь – Господь душу его спасёт!
– Добре, батюшка!
Казак слез с лошади, взял её за повод и, разговаривая, пошёл вместе с монахами в Батурин.
Василий Леонтиевич и Любовь Фёдоровна были дома, Иван ввёл чернецов в комнату Василия Леонтиевича.
Наказный гетман только что подписал поданные ему Генеральным писарем универсалы; радостно встретил он нежданных гостей, подошёл под благословение монаха Никанора и, усадив в кресла, спросил:
– ОI куда и куда Бог несёт?
– Из святого Богоспасаемаго града Киева в свой монастырь!
– Ходили Богу молиться в Киев?..
– Так, гетмане, ходили Господу милосердному молиться.
– А что слышали в Киеве про шведов, в Киеве ли царь?
– В Киеве, а шведы, по слухам, близко от святаго города.
– Горе, тяжкое горе гетманщине!
– Господь Бог заступит: за грехи покарает, за милость свою нас сохранит и помилует, вера в Бога всякаго врага побеждает!
Вошла Любовь Фёдоровна, монахи встали, поклонились; Любовь Фёдоровна поцеловала руки обоих иноков, они её поблагословили.
– Молимся Господу, да сохранит нас, да покроет нас Царица небесная покровом своим святым!..
– Так, ясневельможный гетмане, сила человеческая не страшна, когда мы будем веру иметь в сердцах наших.
Любовь Фёдоровна внутренне возрадовалась, услышавши, что чернецы называют мужа её ясневельможным гетманом.
– О чём говорите?
– Просим у Господа защиты от врагов, приближающихся к гетманщине.
Мазепа в Киеве?.. Вы, батюшки, в Киев идёте?
– Из Киева, Мазепа в Киев, – отвечал Никанор.
– И царь в Киев! – добавил Трифилий.
– Кто ж другой причиною, как не Мазепа, что шведы приближаются к гетманщине, он же тайно писал к Карлу... вот и накликал гостей; царь ничего не знает про дела гетмана.
Чернецы молчали.
– Ты бы, Любонько, приказала приготовить вечерю для отца Никанора и отца Трифилия: они устали от пути.
Любовь Фёдоровна немедленно вышла сделать распоряжение об ужине для дорогих гостей; а Василий Леонтиевич поговорил ещё с ними о войсках и крепости Киевской, ввёл их в свою писарню, попросил их остаться у него, поужинать и переночевать; путники благодарили за Ласки Кочубея и его жену.
– Василий, сам Бог послал нам чернецов, чтоб мы открыли им измену Мазепы; говорю тебе, сам Бог послал их, нечего опасаться, завтра мы переговорим с ними!
– Сам Бог послал их, ты праведно говоришь, Любонько, но чернецы идут не в Киев, а возвращаются в свой монастырь, донос через них нельзя послать царю.
– Слушай меня, и всё будет хорошо.
– Я слушаю тебя, Любонько!
– То-то. Отец Никанор разве не может пойти в Москву, поклониться Московской святыне; а между тем, всё, что мы откроем ему про Мазепу, передаст боярину Ивану Алексеевичу Мусину-Пушкину, никому и в голову не придёт мысль, что мы чрез чернеца известим царя про намерение гетмана изменить ему: сам хорошенько подумай, Василий, если уже мы положились донести, то кому другому вернее поручить это важное дело, как не чернецу Никанору: поручить можно казаку или своему гайдуку, – скажешь ты, – и сам себя погубишь, – разве ты не знаешь, сколько тайных людей по всем местам, которые всякую малость доносят Мазепе, а иезуит Заленский с своею братнею... да наши же стены скажут про нашу затею гетману, если мы поверим донос кому-нибудь из своих.
– Твоя правда, Любонько, мудрое твоё слово.
– Когда ж мудрее, так завтра всё откроем чернецу Никанору.
– Добре, ей же-ей, добре!
На завтра иеромонах Никанор и монах Трифилий отслушали обедню в домовой церкви Василия Леонтиевича и, отобедав вместе с семейством Кочубея, собрались в путь. Любовь Фёдоровна подарила им по холсту и по два орляных полотенца, а Василий Леонтиевич дал два рубля в монастырь для поминания его.
– Знаю, что дни мои изочтены! – сказал Василий Леонтиевич и, словно предчувствуя это, просил их но смерти поминать его и молиться о прощении грехов; кроме двух рублей на монастырь он Никанору подарил ещё ефимок.
Помолившись к образам и поблагодарив за хлеб-соль и за милости, путники взяли свои посохи, и Трифилий отворил уже двери... Любовь Фёдоровна сказала:
– Останьтесь, сделайте милость, переночуйте у нас, святые старцы; всё равно, днём раньше или позже прийдите в монастырь, ни беды, ни греха в этом нет; а когда вы в нашем доме, так, видимо, в нём пребывать благодать Божия, останьтесь переночевать.
Склонившись неотступными просьбами Любови Фёдоровны, отшельники решили остаться в доме Кочубея до утра. Любовь Фёдоровна очень возрадовалась.
Рано утром на другой день Любовь Фёдоровна вошла в сад и, походив немного по просадям, увидела, что Василий Леонтиевич, сидя в шатре, задумался, подошла к нему и сказала:
– Пора начинать, когда задумали; я целую ночь не спала, всё об этом думала: прикажу позвать отца Никанора, здесь никто нас не увидит, не услышит и не догадается, в саду нет ни души, да ещё и рано:
– Позвать так позвать, время по-пустому нечего терять.
– Останься здесь, а я пойду и прикажу позвать отца Никанора.
Любовь Фёдоровна ушла, Василий Леонтиевич перекрестился и довольно громко произнёс: «Господи, помоги!..»
В эту минуту пришло ему на мысль, что когда-то этак же точно собирался он доносить и на Самуйловича: но в это мгновение в шатёр вошли отец Никанор и Любовь Фёдоровна.
Приняв благословение иеромонаха, Василий Леонтиевич просил его сесть поближе к себе.
Любовь Фёдоровна вышла из шатра, обошла его вокруг, осматривая, не скрылся ли кто подле, не подслушал бы их речи; но не было никого. Осмотрев всё, она вошла в шатёр и села против мужа.
– Откуда ты родом, отче Никаноре?
– С Чернигова!
– С Чернигова?
– С самого Чернигова.
– А до поступления в монашество какую должность правил?
– С малых лет при церкве; отец мой был попом в Нежине в замковской церкве.
– А... а... а... добре, крепко добре;
– Отче Никаноре, мы просили тебя вчера остаться переночевать у нас, желая открыть тебе великую тайну! – сказала Любовь Фёдоровна.
– Тайну?
– Да, отче Никаноре, мы тебе откроем тайну, вот икона Богородицы, присягни перед нею, что не пронесёшь никому ни одного слова из того, что услышишь! – продолжала Кочубеева.
– Да, отче Никаноре, тайна великая, и когда поклянёшься, что не пронесёшь, откроем её тебе! – сказал Кочубей.
– Клятва такая – от лукаваго, грех, паны мои ясневельможные по сану отца духовнаго, я дал обет служить слову истины и блюсти тайну совести ближних моих. Ей, и вашу тайну соблюду, Господу споспешествующу… Да нужно ли и знать-то мне мирския тайны...
– Нужно! Нужно! Мы откроем тебе про нечестивыя дела бездельника, развратника и безбожника гетмана Мазепы, – сказала Любовь Фёдоровна.
– За что вы так честите своего гетмана, он человек набожный: года три назад богатый вклад прислал в наш монастырь... колокольня от его щедрот построена.
– Как его не бранить, когда он погубил дочь нашу, а свою крестницу: сватался на ней, мы ему отказали, – как можно было ему жениться на ней, да притом ещё и седой старик; она моя, галочка, была тогда настоящее дитя; после того, как мы отказали ему, он приманил её к себе... диявол!
– Господи, помилуй! – сказал монах, вздохнув от глубины души. – Клеветник древний диавол не утомляется сеять плевелы... кто может знать... помолимся о согрешении ближняго... несть греха побеждающаго милосердие неизеледимое...
– Что ты, что ты, отче Никаноре, – перебила его Кочубеева и начала передавать ему всё, что хотела сказать.
– Не избежит он страшного суда Божия! – сказала, наконец, Любовь Фёдоровна и, взяв за руку отца Никанора, вышла с ним из шатра в сад и, переходя из одной просади в другую, говорила:
– Бездельник и беззаконник, задумал нас погубить; в прошлом году был у нас на именинах мужа моего, пенял, отчего мы не выдали за него Мотрёньку, а отдали за Чуйкевича, что он и Чуйкевич – великая разница; а я ему сказала: да не коварничай, куме, не только ты развратил дочку нашу, но и наши головы хочешь отрубить; ты обвиняешь нас, что мы ведём тайную переписку с Крымом – не скроется от нас ничего, сам покойный писарь твой известил нас, он сказал нам и письмо писал до мужа моего, что ты сам за Василия Леонтиевича написал подложное письмо. «Гетман как будто ничего не знал этого и сказал: полно вам небывальщину говорить». – Если б царь из Киева приехал в Батурин, я бы всё сама ему рассказала; теперь видишь сам, честный отец, Мазепа изменник; страшно сказать, что задумал он: родину предать шведам да полякам; веру православную – иезуитам с Папою; царство Московское покорить себе; монахов побрать в солдаты; во всём мире насадить латинское нечестие... страх! Ужас!.. Да нет, не пройдёт ему всё это даром!
– Бог грешника рано или поздно накажет! А православную церковь Божию и врата адова не одолеют... но пора в дорогу, солнце высоко взошло.
Василий Леонтиевич, сидевший всё время в шатре, вышел в сад и, видя, что иеромонах благословляет жену его и собирается в путь, простился с ним и сказал:
– Проси, отче Никаноре, своего отца-архимандрита приехать к нам; я обещаю дать знатный вклад на монастырь, только чтоб отец-архимандрит немедленно приехал ко мне.
– Передам ему слова твои; Господь Бог да сохранит вас! – сказал отец Никанор, помолился и ушёл.
Любовь Фёдоровна проводила путников со двора.
Прошло три недели, нет ни слуху ни духу ни от отца Никанора, ни от его архимандрита: Любовь Фёдоровна, радовавшаяся вначале, что так успешно начали дело, теперь начала печалиться; ещё более расстраивали её чёрные предположения Василия Леонтиевича, который хотел уверить жену и сам был уверен, что отец Никанор вместо того, чтобы донести на Мазепу царю, отправился обратно в Киев и донёс всё слышанное от них самому гетману. – А может быть, – говорил Кочубей, – Мазепа узнал через кого другого про наши замыслы; это не диковина, Мазепа знает, что и под землёю делается: проклятые иезуиты всё разведают и донесут; вот Мазепа и приказал схватить Никанора; может, несчастный чернец сидит в это время в тюрьме; – так говорил Василий Леонтиевич жене, сидя вечером по обыкновению на крыльце дома своего.
– Что ты, что ты, Василий, опять задурил... счастье само к тебе ломится, а ты его гонишь прочь... с тех пор, как ты наказный гетман и решился идти против Мазепы, сыч совсем улетел.
Кочубей вздохнул и сказал: а может, и сам Господь отступился от нас за наши злые начинания... Кочубеева только что хотела прикрикнуть на мужа, как вдруг откуда ни взялся стоит перед ними отец Никанор, кланяется, желает им много, лет здравствовать и подаёт письмо и просфору от отца архимандрита, который писал, что не имеет времени сам приехать в Батурин, а посылает надёжного своего брата Никанора.
Радость Кочубеевых была великая: тотчас Любовь Фёдоровна ввела монаха в комнату, приказала подать ужин и сама приготовила для него мягкую постель.
Рано поутру слуга Кочубея вошёл в комнату отца Никанора и сказал ему, что Василий Леонтиевич просит его приходить к нему без всякой обсылки, когда только узнает, что у него никого нет, но, приходя в его комнаты, чтобы запирал за собою дверь.
К полудню отец Никанор из своей комнаты, находившейся в отдельном от дома строении, пришёл к Кочубею и запер за собою дверь.
– Никого не было на крыльце, когда ты входил ко мне?
– Никого!
– А запер дверь?
– Запер!
– Добре! – сказал Василий Леонтиевич и осмотрел все покои, нет ли кого стороннего.
– Ну, отче Никаноре, мы прошлый раз говорили тебе про замысел Мазепы, вот скоро месяц и всё ближе и ближе к тому часу, когда он совершит задуманное, близка погибель гетманщины, если мы не предупредим её.
– Господи, помилуй! – проговорил отец Никанор, – всё упование наше на Заступницу Небесную... что тут может человек против такой силы страшной...
В это время Любовь Фёдоровна из дому принесла, деревянный кипарисный крест с частицами св. мощей, в середине его находившимися, и, подавая его отцу Никанору, сказала:
– Господь Бог страдал за нас на кресте, так и нам надобно умереть за церковь святую и за великого государя! Помолимся перед сим крестом святым все трое – в хранении великой тайны и в споспешествовании друг другу для открытия измены Мазепы царю.
Все трое помолились перед крестом, ударили но три земных поклона и поцеловали крест.
– Слушай же, отче Никаноре, ты знаешь, что Мазепа замыслил предать гетманщину... Тебе, отче Никаноре, надобно ехать в Москву и об этом донести боярину Ивану Алексеевичу Мусину-Пушкину.