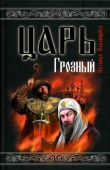Текст книги "Кочубей"
Автор книги: Даниил Мордовцев
Соавторы: Николай Сементовский,Фаддей Булгарин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 44 (всего у книги 57 страниц)
VII
Верстах в пяти от города стоял высокий замок, на вершине довольно покатой горы, с трёх сторон опоясанной не широкой, но чрезвычайно прозрачной рекой, по берегам её прекрасными кущами росли, смотрясь в воду, перемешанные друг с другом, белоствольные плакучие берёзы, липы, широколиственные клёны и вековые дубы, а под тенью их, как яркий зелёный бархат, росла молодая травка; местами по реке порос зелёными кругами камыш, между которым спокойно плавали дикие утки, или воткнув длинную серую шею, кричал водяной бугай и прерывал безмолвие окрестностей. Жёлтая песчаная гора, кое-где поросшая ползучим кустарником, оканчивалась острою вершиною, на которой чернел поросший мохом и даже кустарником, кое-где разрушенный временем замок. В нём смешались все стили, и вместе с этим не было ни одного настоящего, верного, правильного: безобразное соединялось с самым строгим и изящным вкусом, богатство украшений с жалкой простотою, удобность с неудобством; но по преимуществу можно было назвать замок этот готическим: высокие башенки с узкими, длинными окнами, свинцовые крыши, оканчивавшиеся острыми шпилями, на которых неумолкаемо скрипели флюгера, – лепились одна подле другой, на каждой стороне замка. Средняя башня, самая большая, возвышалась над прочими и оканчивалась чрезвычайно длинным шпилем, согнутым бурею в правую сторону; к концу его прикреплён был вырезанный из жести петух, также согнутый. Вокруг, ниже башен, устроена терраса; на ней некогда стояли часовые, оберегавшие замок от незваных гостей. Сверх этого широкая и высокая каменная стена с бойницами со всех сторон окружала замок; на стене стояли пушки; подъезд был с одной стороны, где устроен был подъёмный мост, переброшенный через глубокую пропасть, на дне которой с ужасною быстротою мчалась по камням река, и росли в несколько обхватов деревья, казавшиеся, если смотреть на них с моста, небольшими кустарниками.
Замок принадлежал польскому графу Йозефу Замбеушу, потомку некогда страшного по своим бесчеловечным поступкам, графа Яна Замбеуша.
Граф Йозеф Замбеуш, лет под пятьдесят, плотный краснощёкий мужчина: рыжие волосы и такие же усы, лицо покрыто морщинами, но всё ещё полное и здоровое, он более всего любил женщин, но был страстный охотник, и охоту предпочитал всему на свете. Прекрасное ружье, умная, хорошо выученная собака были драгоценнейшие сокровища для него в мире, и за них он готов был отдать даже свою собственную душу; а червонцы давал всегда пригоршнями, не считая их. Он был страшный эгоист и хвастун. Жена его давно умерла, от неё он имел сына, служившего в королевской гвардии.
В этот-то замок граф приехал с Анной и Юлией, и со дня приезда для несчастной Анны настало время горьчайшего страдания, время непрестанных слёз и чёрной печали, и вместе с этим, время самого упоительного её наслаждения: запершись в комнате с малюткою-дочерью, она все свои мечты, все надежды, радости, утешения сосредоточивала в одной Юлии, она воображала её прелестною невестою, выходящею замуж за знатного вельможу, но непременно за православного. Потом представляла Юлию матерью, окружённою детьми, а себя старушкой, ласкающей их. Часто мысли её вдруг менялись, и она как будто видела перед собою Юлию в чёрной монашеской рясе с чётками в руках; несказанно радовалась она тогда, искрение молилась Господу, чтобы он даровал Юлии это блаженство, и, схватив её, целовала, прижимала к сердцу и осеняла с молитвою крестным знамением. Страдалица-мать полагала, что дочь молитвами своими искупит и её невольный грех, её вечный ропот на свою неволю и горькую участь. В таких сладких мечтах время мчалось, как только мчится быстро время, и незаметно золотое лето сменялось румяною осенью, осень белою зимою, а зима зелёною весною – и пятнадцатая весна наступила для её дочери.
Юлия расцвела, как малороссийская роза.
Густые, светлые шелковистые волосы её, по тогдашнему обыкновению в Польше, были перевиты сзади в виде корзинки зелёными листьями плюща и барвинком; белое нежное лицо оттенялось румянцем, едва заметным на щеках; прямой носик, маленькие коралловые губки скрывали ряды перламутровых зубов, чёрные глаза, осенённые чёрными же длинными ресницами, по большей части были опущены в землю – знак скромности и сознание собственного достоинства; рост её был немного выше среднего. Вот, по возможности, верное изображение прелестной наружности Юлии; но душа и сердце её были ещё прелестнее: Юлия наследовала во всей полноте преданность своей матери к Богу.
В самом начале граф Замбеуш не обращал никакого внимания на Юлию, она была для него какое-то позорное отвратительное существо, на которое он не мог смотреть без явного негодования и презрения. Он любил её мать в цветущие годы её молодости, как вообще подобные люди любят женщин привлекательных наружностью, которые служат предметом страстного упоения и разнообразия жизни для человека, погрязнувшего в тине чувственности, смотрящего на мир с своей точки, с точки порочного наслаждения.
Притом, в замке графа, как и прежде, это было даже при жизни законной его жены, жили десятки женщин, похищенных в полках гетманщины, привезённых из Кракова, купленных дорогою ценою у татар.
На воспитание Юлии он ещё менее обращал внимания, и это невнимание послужило величайшую пользу для неё: семена, посеянные матерью в сердце её, возросли и если ещё не приносили плодов, то, по крайней мере, роскошно цвели.
Постоянные игры, тысячи новых ежедневных забав, служивших для увеселения не только живших в замке, но и дальних его окрестностей; танцы, блестящие балы, на которых собиралась лучшая польская молодёжь, охота, в которой принимали участие даже женщины самых знатнейших фамилий, не прельщали Юлию: она удалялась от всего этого, считала себя отверженною всем миром, всеми людьми, и жаждала, искрение жаждала уединения с матерью, и молитвы; искала единственно в Спасителе любви, и – нашла.
В самом деле: дочь преступления! Это прежде всего поражало сердце её; дочь с презрением оставленной и забытой малороссиянки, беспредельно разделённой верой и нравом со всеми людьми, её окружавшими; дочь, не получившая того воспитания и образования, которым так резко отличались от неё все прочие девицы; наконец, не только не любимая отцом, но отверженная им... могла ли она быть с прочими, могла ли она увлечься и наслаждаться суетностью, забыв прямое назначение своё – терпеть, молиться и страдать. Нет, она видела преданность своей матери к Богу, она затвердила от неё, что счастливые часы только те, когда сердце стремится к Господу-Искупителю, и когда даже все мысли, а не только дела, согласны с святыми Евангельскими заповедями, – и так поступала по её указанию, и была счастлива.
Смирение, прежде всего прочего, как и следовало быть, утвердилось в душе Юлии, а с ним вместе и христианское отвержение самой себя. Но это всё было так, что она и сама не замечала этого в себе: часто думая о себе, она считала себя ничтожнейшим существом, жалкою девочкою; а все прочие люди казались ей с достоинствами, недоступными для неё. Но вместе с тем эти достоинства не восхищали её, не очаровывали, не увлекали к подражанию, но казались тяжкими и постылыми. Удалённая от суеты света и людей, хотя она и жила среди всего этого, с утра до вечера под руководством матери, она приучилась читать и усваивать себе Евангелие, и чрез это, чудесный мир, мир, не достигаемый для многих, может быть, и не воображаемый многими, открылся перед ней; и не только с радостью, но с явным презрением и ужасом Юлия уклонялась от суеты; поэтому нередко служила она предметом насмешек и даже брани для прочих; но это ещё более увеличивало её святое отчуждение.
VIII
У ворот графского сада, прилегавшего к замку, стоял, опершись на палку, седой старик нищий; под левою рукою была у него небольшая котомка, в которую он складывал куски хлеба, в правой – длинная палка; одеяние его было рубищем, он низко кланялся всякому прохожему: кто давал милостыню, за того молился, крестясь; кто проходил, не подавая ему, он и тех благословлял; в замке графа мало было подававших ему, никто не обращал на него внимания, однако же старик несколько часов кряду, иногда и целый день просиживал у ворот.
В этот раз нищий только что пришёл, положил котомку и палку на землю, а сам сел на скамью, вдруг из ближней аллеи показалась в чёрном платье с перламутровым крестиком на груди девушка; она перебежала мостик, перекинутый через довольно широкий ручеёк, извивавшийся по саду, подошла к нищему, и с ним вместе возвратилась в сад; потом через тенистую просадь поспешно прошли они и скрылись в лесу, соединённом с садом. Час, а может, и более, не возвращались ни девушка, ни старик; потом вдруг, как молодая серна, девушка перебежала в другом конце сада две аллеи и, испугавшись попавшегося навстречу ей чрезмерно толстого седого пана Кржембицкого, приехавшего к графу в гости, бросилась в другую сторону и, перебежав куртину, скрылась в замке. Кржембицкий сперва преследовал девушку, но, видя, что не догонит её, остановился и жадным взором смотрел ей вслед. Чрез несколько минут Кржембицкий вошёл в залу, названную графом королевскою, в память того, что некогда Стефан Баторий, проезжая через Ровно, остановился в этом замке.
Зала эта была очень велика, по сторонам свод поддерживали двадцать четыре колонны, с позолоченными капителями; три ряда окон, из коих первые из разноцветных стёкол, преимущественно голубого и розового цвета, ярко освещали всю внутренность. По стенам, разрисованным арабесками, стояли мраморные бюсты предков графа, а между ними вылепленные из алебастра, раскрашенные и раззолоченные гербы фамилии Замбеуша; у одной стены, прямо против главного входа, поставлена под бархатным навесом, обшитым золотою бахромою – колоссальная статуя Стефана Баторня; на пьедестале было вырезано: «1573 год» и латинская надпись, гласившая, что в этот год Баторий пожаловал прадеду Замбеуша большое количество земли и денег, за храбрость и знатность фамилии; последние слова, это было заметно, вырезаны позже: быть может, это было сделано по приказанию графа Йозефа? ибо надпись очень сообразна с его характером.
За статуею, по левую и правую сторону навеса, висели ружья, сабли, пистолеты, кинжалы, железная булава и два небольших древка, одно наверху с полумесяцем, а другое – с рыбой. Это были трофеи предков графа, отнятые у врагов. Граф Йозеф, с правой стороны, подле древка с полумесяцем, которое, может быть, некогда служило турецкому или татарскому полчищу знаменем, повесил огромную голову медведя, искусно сохранённую, и ружье, которым он убил этого лесного князя; под головою на стене, вырезал на латинском языке надпись: «Убивать медведей, волков и лисиц столько же трудно и славно, как побеждать турков, татар и казаков»...
Железные стулья с вычурными высокими узористыми спинками стояли у стен вокруг залы; чёрные кожаные подушки их по бокам были обиты медными гвоздями 0 круглыми шляпками. Двери и подоконные доски – с выпуклыми резными изображениями различных битв, пиршеств, охоты, победителями или торжествующими героями представлены предки графа, это легко можно узнать по сходству лиц резных изображений с бюстами.
В растворенные двери залы виднелись другие комнаты. также богато убранные.
Граф Замбуеш сидел у окна и курил файку: коротенький чёрный мундштучок с пенковою трубкою, оправленною в серебро. На нём был малинового бархата кунтуш, на голове – небольшая турецкая феска.
В залу вошёл Кржембицкий, короткий приятель графа, у которого пан жил несколько недель сряду.
– Что то за красавица у тебя, граф! – сказал пан Кржембицкий.
– То есть, не понимаю?
– Я говорю, что то за красавица твоя панна Юлия, диявол возьми меня, если я видел лучше и милее её девицу на свете.
– Где ты её видел?
– Сейчас в саду, как маленькая птичка, с цветка на цветок перепрыгивала.
– А то пан Кржембицкий, ещё я не знал, что у тебя горячее сердце; о то не худо и под старость!
– Этому лучший пример ты сам, граф!
Граф, довольный ответом Кржембицкого, захохотал во всё горло.
– Ну, я отдам тебе Юлию, что ты мне дашь?
– Если бы ты, граф Замбеуш, был диявол, я бы тебе и души своей не пожалел за Юлию, а как ты знатный граф и известный в целой Польше охотник, то я не знаю, что тебе дать!
– Я готов помириться с тобою на паре добрых борзых, пане Кржембицкий! – граф захохотал.
– И две пары достану первейших гончих.
– Сейчас явится сюда Юлия, посмотрим-ка, пане Кржембицкий, как бьётся у тебя сердце!
Граф захлопал в ладоши и в залу вбежал небольшой молоденький негр с отрезанными ушами и носом; он был весь одет в красном.
– Сейчас чтоб была здесь папка Юлия!
Негр исчез.
– Я не терплю проклятой девчонки казацкой веры... и с матерью с утра до вечера читает да читает святые книги; я добре диявольское племя мучил и всё делал, но нет, ничто не помогает; мать из гетманщины, то от детей добра не будет.
– Ты, граф, не любишь казаков, а они храбрые воины.
– С бабами, первейший народ в мире по храбрости, а с поляками на войне то первейшие трусы, и я с моими охотниками и собаками целую гетманщину завоюю, диявол возьми меня, – правда!..
– Правда, граф, но в таком только случае, когда я буду полковником в твоём войске; а без меня ты завоюешь одних баб, казаки будут догонять тебя и, разбивши собачье войско твоё, отнимут добычу, и ты ни с чем возвратишься в замок!..
– Пожалуй, я дам тебе чин генерала в моём собачьем войске!
– О то добре, пане, целый свет завоюем!
Негр явился в комнату Юлии; она с матерью о чём-то разговаривала.
Вся комната их была уставлена образами; и перед образом Пречистой Девы горела лампада; в углу стоял аналой, на нём лежал раскрытый молитвенник.
– Панна Юлия, тотчас иди к графу, он в зале!
– Зачем это, не увидал ли он меня, когда я была в саду? – спросила Юлия и сначала покраснела, потом побледнела и не знала, что ей делать. Наскоро поправила она рассыпавшиеся волосы, перевила их свежими зелёными листьями барвинка и побежала вслед за негром.
– Ну, что скажешь, пан Кржембицкий? – спросил граф, когда Юлия, потупив глаза, остановилась перед ним.
– Что ж мне сказать: панна Юлия так хороша собой, что нет лучше её в мире.
На глазах Юлии навернулись слёзы.
– Прочь, прочь, проклятое адское существо, прочь отсюда, чтобы и духа твоего не было слышно; а то сейчас вот на том дереве повешу! – закричал Замбеуш и застучал ногами об пол.
Юлия опрометью убежала.
– Не могу равнодушно смотреть, пане Кржембицкий, на это диявольское существо, когда вспомню, как она воспитана матерью: живая до Бога лезет; диявол возьми, – пару добрых собак достань, и бери её; а не то так я затравлю её собаками, а мать непременно повешу.
На другой день утром мать и дочь выбежали в сад и, осмотревшись во все стороны, поспешно побежали по просади к воротам, у которых по обыкновению стоял старик-нищий; увидев бегущих, старик поднял котомку, взял палку и пошёл в сад вместе с Анною и Юлиего; перебежав через лужайку, они скрылись в лесу; и часа через два, не ранее, возвратились домой. На следующее утро то же самое; нередко старик-нищий приходил и вечером, и всегда мать и Юлия встречали его, подавали ему милостыню. Графские гайдуки, а более всего женщины, стали замечать эти встречи, подозревали Юлию и мать её в каких-то тайных замыслах; но то были одни неверные догадки, и только.
Две невольницы графа видели, прогуливаясь утром в саду, когда нищий пошёл вместе с Юлией в лес, сел с нею на пригорке и долго, долго говорил ей что-то с жаром, указывая часто на небо, и прикладывая руку к сердцу.
Были и такие, в числе женщин, подсматривавших за Юлией, которые доказывали, что старик – отец Юлии; некоторые говорили, что это колдун, который гадает Юлии о будущей судьбе её, и сами желали сблизиться с ним. Было много толков, но истины не было нисколько. Между тем женские языки нередко лепетали графу о таком отношении Юлии и её матери к старику, и граф приказал строго присматривать за ними и узнать, что за человек нищий.
Прошло несколько дней, старик не показывался ни у ворот, ни в лесу, Юлия и мать её не выходили в сад; и все вновь решили, что нищий был действительно бедняк, что он получил милостыню, и собрав хлеба и денег, ушёл в другой замок. Но в это же самое время негр начал беспрестанно скрываться из замка и всегда перебегал через сад и лес. Начали подозревать негра, и в самом деле он часто бегал в комнату Юлии, это донесли графу.
Замбеуш позвал негра, начал расспрашивать его о старике нищем, о Юлии и матери её, но все его объяснения ничего не объяснили. Граф предоставил решение этого вопроса времени и обстоятельствам; но подтвердил вновь строго смотреть всем – за Юлиею и её матерью.
Вечером Анна и Юлия сидели в саду под берёзой; обе они были чрезвычайно грустны.
Долго молчала Юлия, подперев голову левою рукою, и, потом вздохнув, сказала:
– Мамо, мамо! Пошлёт ли Бог нам счастливый день, когда мы будем молиться в Лавре... как бы я молилась... Мамо-мамо, скоро ли будем в пещерах!
– Молись Богу милосердному, молись, моя доню, молись серденько! – говорила мать, прижимая к груди дочь – Бог даст и будем в Киеве – тогда сама поведу тебя и в ближние и в дальные пещеры, – будем в Софийском, отслужим молебен Варваре Великомученице, и перстень тебе куплю. Молись только Богу!
– Ох, мамо-мамо! Когда б ты знала, как болит моё серденько, и сама не знаю отчего, – ты знаешь, я Богу молюсь, а всё так тяжко, так тяжко, боюсь чего-то, – и сама не знаю чего!
– То так, моя доню, нечистый мутит нашу душу, хочет искусить нас; положи Матери Божией десять поклонов, когда будешь ложиться спать и – пошлёт она тебе радость и утешение.
– Отчего я тогда не могла молиться, как была в Киеве, отчего мне не было тогда хоть пять лет, я бы, мамо, осталась в Киеве, и ты б не покинула меня; мы жили бы в Божием граде!..
– Молчи, доню, да молись!..
– Молюсь и буду молиться, мамо!.. А завтра, когда наши поедут на охоту, я пойду к нему...
– Пойди, доню, от меня поклонись, скажи, что скоро, скоро Бог вынесет нас отсюда!
Они встали и пошли в замок. Из кустов, соседних с деревом, под которым сидели мать и дочь, выбежали две графские любовницы, и, хохоча, побежали в замок.
IX
Граф Йозеф Замбеуш с коротенькою файкой с зубах, заложив красные жилистые руки в широкие полосатые шальвары, без кунтуша, в рубахе красного цвета, ходил по широкому псарному двору, бранил псарей на чём свет стоит, и обещал по сто пуль вогнать в лоб каждого, который осмелится хотя пальцем тронуть его собаку.
Псари, стременные и прочие чины охотничьей кавалерии Замбеуша, приготовляли всё к отъезду в поле.
Три месяца прошло, как граф не полевал: всегда как только собирался, что-нибудь да помешает ему; и Замбеуш рассказывал всем, как чрезвычайное происшествие, что он так долго не был на охоте.
– За три месяца мыши полевой не убить!.. А?! Что скажет всякий, кто знает меня?! А?!.. Граф Замбеуш с ума сошёл – три месяца не был на охоте, – подумает каждый охотник! Да так оно и есть... Что же мне делать, когда нет ни одного порядочного стрелка, который бы попал в слона в пяти шагах, а не то что в лисицу или волка; что ж мне делать? Я стыжусь сказать это моим соседям... Как, скажут они, граф Замбеуш, первый охотник в Волынии, а нет у него стрелков! А, дьявол возьми, это истинная правда!..
Граф докурил трубку, вынул её изо рта, закрутил рыжие усы свои и, одной рукой помахивая чубучном, а другою лаская борзую, выходил из псарни; навстречу ему неожиданно шёл граф Жаба – Кржевецкий, приятель Замбеуша, сходный с ним и характером, и наружностию. Жаба был пониже ростом Замбеуша.
Замбеуш рассчитывал, что сын его женится на старшей дочери Жабы, и поэтому-то дружба их была тесная.
– Я к тебе, граф Йозеф, прямо от пана Любецкаго: что за собака добрая у него Пулкан; знаешь, граф Йозеф, во всей Польше нет подобной, то первая из первых собак во всём крае! А чёрт знает проклятаго пана Любецкаго, откуда он выкарабкал это сокровище, или он душу свою продал дияволу за Пулкана! – это просто сокровище, а не собака, и жены не нужно вернее и умнее Пулкана; ну просто, я без ума, граф, от этой собаки!
– Да что ты говоришь, граф Жаба, я знаю Пулкана; ну, добрая собака, да уж, не то, что ты говоришь, в целом крае не отыскать; у меня Подстрелит и Коханка такие же собаки; а я тебе, граф Жаба, скажу, что Коханки ни за что в мире не отдам, для меня не может быть ничего милее в жизни, чем Коханка; ей же, Богу милосердному известно, что я говорю тебе правду!
– Знаком ли с тобою пан Любецкий:
– А то диявол возьмёт душу его, чтобы я знался с Любецким: его предки камни клали, когда прадед мой строил замок, а я чтоб дружбу с ним заводил, – чёрт косматый его возьмёт!..
– Но то, граф, не дело говоришь, паи Любецкий бедный человек, но древней шляхетной фамилии!
– Когда род Пулкана шляхетный, то и пан Любецкий шляхтич – ибо он сам собачей породы, это я наверно знаю, то истина!
– Он славный охотник; прошлую зиму сам четырёх вепрей убил, а волков и лисиц без счета.
– Всё пустое говоришь, граф Жаба, я не убил двух вепрей, а чтобы поганый холоп убил четырёх!.. Не говори этого, ты лучше дай мне пистолет, пули и скажи: на, граф Замбеуш, заряди пистолет и выстрели себе в лоб, то я скорее соглашусь это сделать, нежели слушать такой вздор; ты безжалостно мучишь меня, граф Жаба.
– Ты, граф Замбеуш, вели гербы свои на дверях и на кунтушах войска твоего почистить, а то что-то достоинства твои не всем ясно видны!
– До гербов моих никому нет дела, я сам знаю мои достоинства!
– Но другим-то они не ясно видны! – сказал раздосадованный Жаба.
– В гербе моём нет пресмыкающихся, которые скачут; там голова шляхетнаго оленя с рогами.
– Осла с большими ушами! – с досадою сказал довольно громко граф Жаба, поняв колкую насмешку Замбеуша, относившуюся к его фамилии, поспешно ушёл из псарни, сел в свою одноколку и поскакал, не сказав ни слова графу Замбеушу.
Граф Йозеф послал вслед графу Жабе тысячу проклятий и чертовщин, и, рассерженный, ушёл в замок. Не прошло получаса, как в окно Замбеуш увидел, что по дороге к замку тащится целый обоз жидовских брик, обтянутых белою холстиной: по мере приближения фургонов Замбеуш заметил, что за каждою брикою привязаны своры собак; это так несказанно обрадовало его, что он приказал немедленно готовиться к выезду на охоту. Вышел на крыльцо и здесь от радости свистел, прыгал, пел песни, от нетерпения махал рукою, давая знать едущим, чтобы они скорее приближались.
И вот, на широкий двор въехало несколько бричек, запряжённых по четыре тощих коней, управляемых несчастными хилыми возницами, которые немилосердно хлыстали длинными бичами по бокам изнурённых животных.
Собаки лаяли и визжали, эта суматоха была приятна графу. В бриках, свернувшись, лежали усталые и заболевшие в дороге собаки и наложены были цельте горы всяких охотничьих припасов. Когда первая бричка подъехала к каменному столбу, к которому обыкновенно привязывали вершники лошадей, с фургона поспешно выскочил мужчина лет тридцати пяти, одетый в охотничью куртку, синего цвета, в широких красных шальварах с белыми серебряными лампасами, и вооружённый, в полном смысле слова, с. ног до головы: при нём были две сабли, три или более разной величины кинжала, пистолет, патроны в красном сафьянном патронташе висели через плечо, и десятки цепочек вились по груди и по бокам. Гость был брюнетом, длинные чёрные усы, огромные густые бакенбарды делали лицо его странным и вместе с этим очень интересным.
Закрутив усы, поправив сабли и пристукнув правою ногою так сильно, что едва от сапога не отлетела шпора, гость подошёл к графу.
Начались поклоны, а потом дружеские объятия и горячие целованья. Гость был Любецкий, которого за час тому граф называл холопом, дияволом и прочее.
– Я слышал, что по всей Польше, граф, славишься своею охотою; вот я приехал к тебе с моими сворами: не угодно ли будет твоему графскому достоинству посмотреть, какова и у меня охота. Граф Жаба-Кржевецкий был у меня сегодня, и взял с меня честное слово, что я заеду сегодня к тебе; вот я и заехал, не поедешь ли, граф, со мною на охоту.
Граф, прельщённый огромным числом собак, которые как нарочно были от первой до последней превосходны во всех статьях, не знал меры восхищению; он тысячу раз обнимал и целовал Любецкого, называл старым другом и приказал позвать к себе пана Кржембицкого.
Явился пан Кржембицкий.
– Вот, пан Кржембицкий, украдь или отвоюй у пана Любецкого пару собак, то я тебе отдам, что ты просил у меня, – с веселостию сказал Замбеуш.
– Добре, бардзо добре граф, достану; я давнишний друг и приятель Любецкаго, мы помиримся с ним, а собаки будут твои!..
Любецкий смеялся.
– Не думаю, чтобы твой Пулкан был лучше моей Коханки, пан Любецкий!
– Попробуем!
– Через час будем на охоте.
– Добре!
В это самое время нищий показался у ворот замка, а вслед за ним Анна; это не ускользнуло от взора графа. Дав знать рукою двум стоявшим подле него стрелкам, чтобы схватили Анну, Замбеуш, рассерженный, вбежал в комнату Юлии, которая в эту минуту, стоя на коленях в углу перед образом, молилась. Граф ударил её два раза кулаком по голове, и девушка без чувств упала наземь. Кровь полилась у неё изо рта; Замбеуш выбежал навстречу к стрелкам, которые вели Анну, и приказал связать её.
Из милосердия одна старуха, прислуживавшая Анне и Юлии, подняла несчастную жертву ненависти графа, умыла ей лицо и положила в постель. Юлия скоро пришла в чувство. Женщина сказала Юлии, что мать её связанная – в подземелье. Это не поразило Юлию, выросшую посреди таких ужасов и жестокостей, и привыкшую с детства ещё смотреть на всё в воле Божией и сердечно предаваться ей; у Юлии ещё достало столько твёрдости и присутствия духа, что она наскоро надела чёрное платье и вышла на крыльцо в ту самую минуту, когда псарня готовилась тронуться в путь.
На крыльце стоял граф в коротеньком бархатном полукафтанье алого цвета. Он и другие не заметили Юлии.
Вокруг графа Замбеуша толпились пан Кржембицкий, пан Любецкий, пан Цапля-Жидомор, пан Загреба и ещё несколько шляхтичей и восторженно хлопотали о своём псарном походе. Замбеушу подвели турецкого белого жеребца, он вскочил на него, отъехал несколько шагов вперёд и затрубил, давая знать, чтобы всё двинулось.
Одних охотников в свите Замбеуша было более двухсот, собак несчётное множество. За всадниками тащилось несколько фургонов, и в одном из них лежала связанная полумёртвая несчастная Анна, а в предпоследнем фургоне связанные в железной клетке два волка и лисица. Юлия поклонилась матери, благословила её в слезах, упав на колени, провожала её глазами, пока можно было видеть. Сердце её разрывалось. Когда уже все уехали, незаметно подошёл к ней старец, что-то сказал ей, и они поспешно вышли за ворота замка, и скоро скрылись из вида.
Среди разноцветной толпы резко отличался граф на белом скакуне; он быстро мчался впереди всех или осаживал коня, и, оставаясь сзади, с заметным нетерпением окидывал взором многолюдный охотничий стан.
По правую сторону его ехал негр, через плечо у него висела серебряная бутыль, наполненная водкой, которую граф пил для большей отваги во время охоты и потчивал отличившихся охотников.
Граф был, однако, скучен и сердит; впрочем это нисколько не препятствовало веселию, крикам и шуму прочих ехавших.
Долго гарцевали они по зелёной высокой траве.
Вдали навстречу графу показался в повозке несчастный рыжий еврей; увидев скачущую перед собой кавалькаду, он хотел своротить с дороги; но при повороте сломилася в телеге ось, и он должен был остаться на месте; подъехал рассерженный граф, выстрелил из пистолета в коня и убил его, еврея приказал связать и положить в бричку. Приказание его тотчас было исполнено.
Приблизились к леску. Граф дал знак, чтобы выпустили одного из двух волков; развязали зверя, приготовили Пулкана и Коханку. Вырвавшийся на свободу волк побежал вдаль, за ним два соперника, Коханка и Пулкан: весь стан занимала мысль: кто выиграет, чья лучше собака?
Граф, горя нетерпением, кричит, трубит, скачет вперёд. Пан Любецкий – тоже; охотники рассыпались по полю в разные стороны, поднялась тревога...
Вот Пулкан отстаёт, волка догоняет Коханка. Граф кричит от восторга; но миг – увёртливый волк своротил в сторону, Пулкан устремился вслед за ним стрелой, и волк не успел ещё сделать несколько скачков, как был уже под Пулканом, Коханка далеко отстала от него и даже не побежала разделить добычу с своим соперником.
Остервенелый граф подозвал к себе Коханку, приказал взять её на цепь и, подъехав к лесу, на первом дереве повесил еврея, собаку и свою несчастную прежнюю любимицу Анну. Спокойно, как будто бы он сделал обыкновенное дело, не заслуживающее внимания, поехал он вперёд; за ним двинулись все прочие.
Отъехав несколько вёрст, он послал негра в замок известить Юлию о смерти её матери и приказал повешенных не снимать с дерева.
Негр приехал; но при всём старании отыскать Юлию не смог; её не было в замке; он бросился в сад, нет её; побежал в лес – то же самое; вихрем помчался он в поле по дороге, куда граф направил свой поезд, и через полчаса настиг охотников, выезжавших из леса. Негр сказал графу, что Юлия ушла. В тот же миг граф возвратился к замку и разослал во все стороны верховых, отыскать и схватить Юлию; за её голову обещал тысячу червонцев. Понеслись всадники во все стороны, граф стоял на лошади недалеко от замка, потом тихою рысью поехал к синевшему вдали городу. Он придумывал казнь для бежавшей, и всё, что только ни приходило на мысль, казалось ему слабым и ничтожным.
Тихо подъехал он к развалинам. Покрытые серым мохом и поросшие местами кустарником, эти развалины огромного здания, некогда бывшей Иезуитской Академии, стояли на горе, направо при въезде в город. Величественность оставшихся степ, стройность и красота уцелевших колонн, мраморные украшения капителей, портики, архитравы, фризы были так изящно сделаны, что невольно заставляют сожалеть о богатых развалинах; и своими обломками эти остатки великолепного здания так заняли и привлекли графа, что он всё ближе и ближе подъезжал к ним; его привлекла огромная терраса и внутренность нескольких комнат.
Взор его обратился к фундаменту, он искал удобного места пройти в середину развалин, и вдруг, у разрушенного портика увидел сидящего на упавшей колонне старца нищего, которого нередко видал в замке; он ускорил бег коня; но не успел ещё сделать и двух шагов вперёд, как Юлия, услышавшая топот, подбежала к старцу, торопливо положила свою руку на его плечо и указала ему на едущего графа. Старик поспешно встал, взял Юлию за руку, и почти неся её на руках, скрылся в развалинах. В ту же минуту и граф остановился у лежавшей колонны, соскочил с лошади, побежал по следам старика вовнутрь, но не увидел ни Юлии, ни старика. Не прошло и пяти минут, вся свита графская окружила развалины.