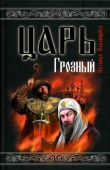Текст книги "Кочубей"
Автор книги: Даниил Мордовцев
Соавторы: Николай Сементовский,Фаддей Булгарин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 57 страниц)
КОЧУБЕЙ
Даниил Лукич Мордовцев
ЦАРЬ И ГЕТМАН
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
IЦарь Пётр Алексеевич осматривает работы, производимые под наблюдением старого Виниуса в новоотваёванном у шведов Шлиссельбурге.
Работа идёт напряжённо, нервно, сообразно той страстной возбуждённости, с которою неугомонный царь, в своём меркуриевом беге за Перовою, делает каждый свой быстрый шаг, кладёт кирпич на кирпич в этой вавилонской башне, в которую он обратил всю Россию, как бы желая скорее добраться до неба, захватить у времени и у истории всё, что потеряла Россия в течение не одного столетия спячки, застоя и внутренних неладиц.
Со всего северо-восточного клина России согнаны десятки тысяч рабочих к этому крепкому Орешку, который, как прославляли хвалители царя, удалось, наконец, разгрызть всесокрушающим зубам российского льва. Тысячи тачек неистово скрипят своими немазаными колёсами, «словно лебеди распущенные». Тысячи лопат в несколько часов срывают до основания горы и в других местах громоздят новые: не надо там, где было, – надо тут, где не было. Надо всё сызнова, с корня, с листьев до почек перевернуть старое дерево…
А царь-непоседа всё торопит, всё гонит, показываясь с своею геркулесовскою дубинкою то на том месте работ, то на другом. То падает его гигантская тень с крепостной стены на воду, на насыпи, то вырастает вдруг словно из земли между землекопами в канавах, и рабочие вздрагивают при виде этой колоссальной фигуры, и лопаты, тачки, заступы, топоры шибко, лихорадочно двигаются, словно бы в такт учащённому биению пульса великана, который заставляет учащённо и усиленно биться пульс всей Русcкой земли.
Глубокой осенью 1702 года взята была с бою шлиссельбургская крепость у неподатливого шведа Шлиппенбаха, а теперь уже весна, апрель – реки и моря вскрылись, и шведы не сегодня-завтра могут прийти водою к Орешку и взять его обратно... О! Это значит взять у Петра его любимое новорождённое детище, его новую Россию... Ведь этот ковш воды – это ковш живой сказочной воды, отнятой у шведского ворона... Эта паутина Нева – это ариаднина нитка, которая приведёт Россию к золотым яблокам Геспериды-Европы... Эта пядь земли, этот маленький «шлиссель» – ключ, Орешек – это ключ в Европу, ключ апостола Петра который отопрёт царю Петру и его России двери в рай... И после этого утратить эту дорогую пядь земли!.. Ни за что! Никогда!..
Вот почему так лихорадочно горят глаза у беспокойного царя при виде этой нервной работы землекопов и каменщиков...
Прислонившись к одной из башен крепости, Пётр задумчиво глядит вдаль. Он одет гак просто, так бедно – такое грубое тёмно-зелёное сукно у него на кафтане, такое грубое, что когда немка Аннушка, Монцова дочь, при виде его бросается ему на шею, то всегда поколет себе об это сукно и нежные ручки, и розовые щёчки; но зато это – своё сукно, не заморское, не астрадамовское, а сделанное на первой русской суконной фабрике... Энергичное лицо царя от времени до времени нервно подёргивается... Перед ним влево даль водная, всё Ладожское озеро искрится на солнце серебряною рябью... Вдоль берега его – флотилия из лодок... Жалкие лодки, и ни одного корабля?.. А вправо эта нитка водяная, эта синяя паутина, протянутая к Европе, – Нева... Но Нева ещё не вся его, устье в руках у шведов, и море заперто для этого водяного царя... Добраться до моря нельзя, там стоит проклятый Ниеншанц, это дьявол с огненным мечом, не пускающий врага... Надо его взять, этого дьявола... А как ещё возьмёшь?.. Шереметьев скоро прибудет с войском... Ну, а если и тут ждёт новая Нарва?.. Пётр вздрогнул и машинально так стукнул геркулесовской дубинкой о стону, что молоденький денщик его, юноша лет восемнадцати-девятнадцати, чернокудрый Павлушка Ягужинский, молча наблюдавший за царём своими живыми, бегающими еврейскими глазёнками, тоже невольно вздрогнул... Тут и Александр Меншиков, боящийся прервать задумчивое молчание царя... Пётр зол, заряжен, он нервно подёргивается: он шибко осерчал на старого Виниуса, на его медлительность. Он чуть со стены не сбросил обезумевшего от страха старого дьяка за недоставку артиллерийских снарядов и лекарств для крепости, которую не сегодня-завтра могут обложить шведы...
Вдруг распалённые внутренним огнём взоры царя останавливаются на чём-то, что, по-видимому, не было замечено прежде. Павлуша Ягужинский с юношеским любопытством рассматривает что-то копошащееся под стеною крепости, у нового канала.
А у канала мальчик в лохмотьях. Мальчику не более семи-восьми лет. Оборвыш чем-то серьёзно занят. Живые глаза царя невольно приковались к тому, что делал оборвыш. А оборвыш, оснастив верёвочками лапоть, поставив на нём мачту из большого гусиного пера и натянув из лоскутка онучи парус, перепускает это оригинальное судно через канал. Лапоть, подгоняемый ветерком, бойко плывёт через канал. Оборвыш радостно следит за ним своими детскими глазёнками и по положенным через канал доскам торопливо перебегает на ту сторону канала, чтобы причалить своё судно-лапоть. Так же радостно следят за проделками маленького оборвыша и живые глаза царя. Лицо его, доселе хмурое, мрачное, тёмное и холодное, мгновенно озаряется какою-то теплотой, так был на нём быстр переход от мрачного гнева к всепрощению.
– Смотри-тко, Данилыч! – сказал он отрывисто, показывая на маленького оборвыша.
– Вижу, государь... молодой матрос...
– Навигатор, – вставил Павлуша.
Ртутный царь не вытерпел и сошёл со стены к каналу. Маленький оборвыш, увидев перед собой громадного человека, такого большущего, какого он ни разу не видел и жизни, так и остался с разинутым ртом, изумлённо посматривая на этих, как ему казалось, солдат.
Царь ласково улыбался, глядя на маленького оборвыша, одетого в женскую кацавейку и в опорки.
– Это что у тебя, малец? – спросил он.
– Карапь, – бойко отвечал мальчик.
Царь засмеялся. Павлуша Ягужинский даже прыснул.
– А из чего он у тебя слажен? – снова спросил царь, трепля мальчика по бледной, обветренной щёчке.
– Это тятькин лапоть, а это онучка моя.
– Ай да молодец! Ай да моряк! – радостно говорил царь.
Но мальчуган что-то заботливо бросился к лаптю, бормоча: «Ишь ты, шведин поганый!.. Постой, я тебя!» В лапте возилось что-то чёрненькое.
– Что это тебя у тебя в корабле? – спрашивает царь.
– А шведской полоняник..
– Как? Какой полоняник?..
– Он царский корм воровал, я и накрыл его... Стой-стой, опрокинешь карапь.
– Да что у тебя там? Говори! – уже нетерпеливо спрашивал Пётр.
– Мышонок... он у нас в сумке сухари всё грыз... А тятька и говорит: этот швед царский корм ворует... Я его и поймал, привязал на верёвочку и катаю но морю, а после кошке отдам.
Бойкий мальчик, не подозревая, кто перед ним, смело болтал, видя, что всех занимает его «карапь», и вынул из лаптя самого мышонка... «Вот он, шведин... ишь юркий какой…»
Мальчик окончательно очаровал царя. Он видел в нём врождённое стремление к воде, к морю. Это самородок. Его только поддержать, выучить, направить, и из него выйдет мореходец.
– А чей ты, мальчик? Как тебя зовут? Откуда ты? – нетерпеливо спросил царь.
– Меня зовут Симкой... Нас с тятькой сюда пригнали на царскую работу... Тятька там землю роет.
Царь задумался и молча глядел на мальчика. При виде его рубищ, которых он никогда не замечал, как по привычке не замечал жалкого вида рабочих, широко загадывал обо всей России, о её славе и могуществе, при виде дырявой кацавейки я старых порток, исчез которые сквозило маленькое, худощавое тело ребёнка, он нервно тряхнул головой и, достав из кармана несколько серебряных монет, бросил их и лапоть.
– Это тебе и тятьке, скажи, что царь пожаловал, – сказал он отрывисто и погладил ребёнка.
Мальчик оторопел и обратил на великана свои серые, светлые, испуганные глаза.
– А ты, Павел, запиши его вместе с отцом: кто и из каких волостей, – обратился он к Ягужинскому.
Мальчик по-прежнему стоял испуганно, не смея прикоснуться к лаптю.
– Возьми же деньги, Сима, не бойся... Я пожаловал их тебе, – ласково сказал он мальчику. – А ты, Данилыч, не забудь о нём...
– Не забуду, государь.
– Запиши его в мои навигаторы, в московскую школу.
– Будет по сему, государь, – отсекал Меншиков.
В это мгновение на досках, перекинутых через новый, узкий, но глубокий канал, по которым за несколько минут перед этим перебегал Симка за своим кораблём, а потом переходили царь, Меншиков и юный Ягужинский, послышался крик испуга, и что-то тяжёлое бухнуло в воду…
– Караул! Караул! – послышались отчаянные крики.
В канале кто-то барахтался, беспомощно хлопая об воду руками и глухо взывая о помощи... Из воды показывается ещё одна голова, потом другая... Всё это отчаянно мечется, утопающие хватаются один за другого... видна последняя, безумная, молчаливая борьба из-за последнего дыхания, и все трое исчезают под водой...
Царь первый бросается спасать утопающих... Но как? Чем?
– Лодок! Багров! Сети! – кричал он громовым голосом, так что вся крепость встрепенулась, тысячи рабочих солдат и матросов бросились к каналу, заслышав крик царя, и некоторые матросы отважно ринулись в холодную апрельскую ледяную воду...
– Лодок! Багров! – гремит голос царя. – Кто утонул?
– Доктора Лейма, государь, я опознал, – отвечает Ментиков.
– А я, государь, видел Кенигсека и Петелина, – прибавил Ягужинский.
– Господи! Какое несчастье!
– Но вот и лодки с баграми... В одну из них прыгает царь с такою поспешностью, что едва не опрокидывает её; да ему это нипочём, он любит воду.
– Государь!! Береги себя! – кричит испуганно Ментиков.
– Ищи там! Подавайся ниже!..
Лодки бьются на месте, толкутся в узком канале, словно в ступе, а утопленников всё не найдут.
– Спускай ниже!.. Их водой несло... подайся сюда! – командует царь, бороздя воду длинным багром.
Лодки стукаются одна о другую. Меншиков постоянно повторяет, чтоб берегли царя. Берега канала усыпаны народом, который напряжённо ждёт... Иные крестятся.
– Кто утонул?
– Немцы, паря.
– Туда им, куцым, и дорога, – отзывается кто-то.
Наконец, багор царя зацепил что-то, тащит... Из воды показывается что-то серое... спина человеческая, а голова и ноги в воде... Приподнимается багор выше, виден затылок утопленника и чёрные, мокрые волосы, падающие на лицо...
– Благодарение Богу… Кенигсек бедняжка…
Царь быстро схватывает его за шиворот и втаскивает в лодку.
– Ищи других, тут должны быть, – распоряжается царь.
– Не клади, не клади, царь-государь! – торопливо предупреждает старый матрос. – Не клади наземь, не отойдёт, не откачаешь.
– Качать! Качать! – слышатся голоса.
Лодка пристав берегу. Утопленника, словно мешок, слабо набитые чем-то мягким, с рук на руки сдают стоящим на берегу. Царь, проворно сбросив с своего громадного тела кафтан, в который можно было завернуть двух утопленников, кидает его на берег.
– Качайте на моём кафтане!.. А ты, Данилыч, обыщи его карманы, может, есть важные бумаги, государственные, запечатать надо тут же...
– Ещё тащут! – дрожит толпа. – Вон, вон, матушки!
Снова из-под воды показывается что-то скомканное, перегнутое, мёртвое, но ещё не окоченевшее... А Кенигсека кладут на царский кафтан. Меншиков, исполняя приказ царя, опоражнивает карманы утопленника и найденные у него мокрые бумаги тут же вкладывает и небольшой сафьяновый портфель и отдаёт Ягужинскому.
– Запечатай тотчас и сохрани.
Кенигсека качают. Беспомощно переваливается мёртвое, посиневшее тело по кафтану. Из-за спутавшихся мокрых волос, падающих слипшимися прядями на лицо, шины красивые очертания этого молодого, ещё за несколько минут полного жизни лица... теперь оно такое серьёзное, молчаливое, застывшее...
– Лекаря бы надо, – с беспокойством говорит Ментиков, сильно встряхивая царский кафтан.
– Да вон и лекаря тащут, – отвечает юный Павлуша, который всё видит и всё слышит.
Действительно, из другой лодки выносит на берег другого утопленника – это доктор Лейм... Отыскивают, наконец, и Петелина...
В трёх местах на берегу канала идёт энергическое качанье трёх свежих трупов. Пётр не спускает глаз с Кенигсека. Ему особенно жаль его, надо, во что бы то ни стало, оживить этого мертвеца, откачать, отнять у смерти... Она ещё не успела его далеко унести... Душа его тут, близко, может быть, за теми плотно сжатыми красивыми губами... Стоит только их разжать, и они порозовеют, язык заговорит, душа скажется... Пётр трогает эти губы, холодные такие, мёртвые...
Кенигсек, или Кенисен, как называл его Пётр, был саксонским посланником при русском дворе; а недавно, прельщённый выгодами службы в России, он поступил в русское подданство, и Пётр был очень рад приобрести себе такого служаку... И вдруг, на глазах его, он погибает! Это большая потеря...
Но, может быть, он отойдёт... Он так недолго был под ногой... Правда, вода ледяная, режет, обжигает своим холодом.
– Что, Данилыч?
– Трясу, государь... Душу, кажись бы, всю вытрясти можно, кабы...
– Кабы не отлетела?
– Да, государь.
Царь нагибается к трупу, щупает голову мертвеца – холодна, как глыба. И тело коченеет.
– Помре... Царство ему небесное... – Царь снимает шляпу и крестится, крестится и толпа. – Вот не ждали, не гадали... Вместо радости печаль.
– Надо же было, государь, немецкому водяному и жертву принести водою и немцами, – заговаривает Ментиков.
– Правда... правда... А всё за мои грехи.
– За всех, царь-государь...
– А бумаги вынул?
– Вынул, государь... У Павлуши.
Но царю некогда долго останавливаться на этом печальном эпизоде. Надо спешить вперёд. Шереметев с войском, поди, уж у Ниеншанца. Надо с лёгкой флотилией плыть на сикурс к нему.
Царь велит с честью похоронить утопленников и готовиться в поход под Ниеншанц.
– А об Симке не забыли? – вспоминает царь о маленьком оборвыше.
– Нет, государь, – отвечает Меншиков. – Неумедлительно иду сыскать его отца, и всё учиню, как ты, государь, указать изволил.
– Изрядно. Тут потеряли, а там, может, бог даст, найдём.
Истинно, государь: не знаешь, где найдёшь, где потеряешь.
– Дай Бог... Кто знает, что может из Симки выйти. Пути Господни неисповедимы…
IIВ то время, с которого начинается наше повествование, весной 1703 года, Петербурга ещё не существовало. Нева принадлежала шведам, равно как и всё Балтийское море, в только небольшой камень, на котором, при выходе Невы из Ладожского озера, ютилась шведская крепость Нотебург, древний новгородский Орешек, – был взят Петром, укреплён и переименован в Шлиссельбург вместо Орешки. Петру так нравились немецкие названия.
После Шлиссельбурга надо было, во что бы то ни стало, отвоевать и всю Неву. С этой целью, похоронив Кенигсека и других его несчастных товарищей по смерти, он двинул свою лодочную флотилию вниз по Неве, с тем чтобы идти на помощь Шереметеву, который с двадцатипятитысячным войском тоже подвигался к Неве имея намерение напасть на Ниеншанц, стоявший при впадении речки Охты в Неву. На месте же нынешнего Петербурга чернел сплошной дремучий лес.
Лесом покрыты были и все берега Невы вплоть от Ладожского озера до устья реки, до Финского залива.
Спускаясь с своей небольшой гребной флотилией вниз по Неве, Пётр был глубоко взволнован всем, что видел перед собою. Угрюмый бор, покрывавший берега реки, он уже превращал в пылком воображении своём в бесчисленные армады кораблей, и эти армады будут не чета «непобедимой армаде» Филиппа II, короля испанского. Нет! Его армады будут действительно непобедимы... А эта многоводная река, но которой скользила его флотилия, такой реки он не видал во всей Европе. Что Волга! То река неустойчивая, с расползающимися, песчаными берегами. А Нева – она точно закована и свои берега и несёт постоянную неубывающую массу воды в то заманчивое, чужое, Варяжское море... О! Тут, на этой реке, должна быть столица России...
И пылкое воображение царя уносится вдаль, в глубину грядущих веков... При устьях Невы видится ему величавый город, столица восточных царей, к которой обращены удивлённые взоры всего света. Со всех морей и океанов, от всех народов Старого и Нового Света плывут корабли в этот величавый город, в город Петра... Петроград... Нет, это слово противное, Москвой затхлой пахнет, византийским ладаном отдаётся. Не быть тут Петрограду, довольно и византийского Царьграда... А будет тут Россенбург или Ризенбург, город богатырей... Нет, пусть лучше будет тут Питербург... Да, это лучше всего... Он будет славен, более славен, чем Тир и Сидон, более славен, чем Рим и Карфаген... Он будет весь на воде, как Венеция. Каналы изрежут его вдоль и поперёк... Вода, море-океан станут колыбелью российского народа…
А флотилия, взмахивая длинными вёслами ловких гребцов словно стая длиннокрылых птиц неслышно пенит прозрачную невскую воду. С каждым взмахом весел, с каждым поворотом руля открываются новые пустынные берега, окаймлённые зелёными борами, а выше – голубым небом… На берегах ни души человеческой, да и пения птиц не слышно, хотя самая пора бы петь и птице, и человеку: апрель на исходе... Только и виднеются над водой длиннокрылые, белогрудые чайки, которых жалобный скрипучий крик, совсем не похожий на крик серой, чубатой! южной чайки, нарушает могильную тишину этой красивой, но холодной, неприветливой природы...
На царском катере, на шпеньком сиденье, почти у самых ног царя сидит Павлуша Ягужинский и грустно смотрит на эти неприветливые берега, на эту красивую, но холодную природу. И ему вспоминается другая природа, другая зелень, другое солнце... Как ни молод он, но и у него уже есть свои воспоминанья, свои могилы в сердце. Жизнь его, начавшаяся где-то далеко на юге, в Польской Украине, среди чубатых и усатых казаков, и, как нитка, оборвавшаяся там полным забвеньем, потом та же жизнь в шумной, толкучей Москве, перенёсшая его словно на ковре-самолёте сюда, в эту холодную Карелию, – эта жизнь оставила в его памяти какие-то клочки воспоминаний, смет, ощущений сладостных и горьких, смешение веры в людей и глубокого к ним недоверия, эта жизнь научила его думать, задумываться, вспоминать...
Да, Павлуша Ягужинский рано начал думать. Ещё там, на далёкой, тёплой родине, которая вспоминается ему как сонная грёза, он уже начал задумываться. Чем-то сиротливым, чужим рос он среди родной природы, которая была ему более близка, более отзывчива, чем люди. Эти гордые, надутые маленькие польские панки, его сверстники, чуждались его, как неродовитого шляхтича, у которого не было ни холопов, ни быдла, ни грунту, ни палаца, ни богатых маентков, хоть его, Павликов, татко был такой же благородный, как и те надутые паны, но только не был ясновельможным паном, а учителем и музыкантом. И эти черномазые хохлята, отцы и матери которых работали на канон как быдло, тоже избегали Павлушу Ягужинского... «Жидовиня», «лядскiй недовирок», «перекинчик», «собача вира», «свиняче ухо» – вот что он слышал среди этих чумазых хохлят и недоумевал, за что они его не любят... «Жид», «жид»... нет, не жид, потому что и жиденята бегают от него, как от чужого...
Вот что помнится ему из далёкого детства... Ещё помин гея ему его отец, вечно грустный и задумчивый, сидящий над какими-то старинными книгами или в тихий летний вечер играющий на скрипке... Что за плачущие звуки лились тогда из-под горького смычка татки! Слушает, бывало, маленький Павлик эти всхлипывания смычка, слушает и у самого польются слёзы, неведомо отчего... И становится маленькому Павлику жаль всего, на что он ни взглянет, хочется ему обнять всё плачущее, утешить...
Татко говорил потом, что когда они жили ещё в Польше за Днепром, то Павлику пошёл только пятый год... А он помнит эти зелёные иглы – тополи высокие, что вели к панскому палацу...
Потом он помнит себя уже в Москве. Помнит, как с татком ходил он в немецкую кирку, где татко тоже играл, но уже не на скрипке, а на органе. На скрипке он продолжал играть только дома, да и то осторожно, потому что нередко слышал, как москвичи говорили: «Вон немецкий пёс воет – себе на похороны, на свою голову...» А московские мальчишки дразнили Павлика «нехристем» и нередко бросали в него каменьем. За что? Павлик и об этом часто думал Но чаще и чаще до слуха Павлика начинают долетать слова: «какое красивое чёртово отродье», «какое хорошенький жидёнок», «немчура, немчура, а поди ты, зело леповиден бесёнок...»
Павлик учится читать, писать, чертить, рисовать... Татка его так много знает и сам учит Павлика...
И Павлик всё растёт, вытягивается, хорошо уже говорит по-московски, попривык к Москве.
А в Москве так страшно становится, такие зловещие слухи ходят... Говорят, что стрельцы всех немцев, всех нехристей перебить хотят... А там какие-то смуты в Кремле: то царя хотят убить, то царевну Софью заточить... Стоном стонет Москва, страшно кругом...
А эти ужасные казни стрельцов... Едут на телегах с зажжёнными свечами в руках, а за inf ми бегут стрельчихи да воют, душу разрывают – воют… Какая страшная Москва!
– Что, Павлуша, задумался? По Москве, чаю, скучаешь? – говорит царь, ласково глядя на юношу.
Павлуша невольно вздрогнул. Он действительно думал о Москве, только страшной, кровавой, стрелецкой.
– А? Заскучал, поди, но Москве?
– Нету, государь, не скучаю, – отвечал юноша.
– То-то! Со мной скучать некогда.
– Некогда, государь, да и неохота.
– Правда. Скучают только дармоеды да лежебоки, А мы не лежим, – отрывисто говорил царь, глядя вдаль и тихо налегая на руль.
Юноша молчал. Слова царя так и обдали его холодной действительностью... Царь был в духе.
– А что, хотел бы ты тут жить? – снова спросил он сшито юного любимца, лукаво улыбаясь.
– Где государь поволит жить, там и я.
– Так... А, может быть, Бог и доведёт до благополучного конца, – сказал царь в раздумье.
Это сами собой сказывались его заветные думы, его мечтания.
А флотилия всё скользит неслышно по гладкой водяной поверхности холодной, неприветливой реки. Тихо кругом. Ни говору не слышно, ни смеху, ни песен. Да и как петь, когда всякий час флотилия может наткнуться на шведские корабли, на замаскированные редуты, на засады?
Глаза царя зорко следят за всей флотилией. Ничьим другим глазам он не верит, верит он только своим глазам. Он сам хочет всё видеть, всё знать... Были только одни глаза, которым он доверял, как своим собственным, – это бойкие, живые глаза Павлуши Ягужинского.
– Это моё око, – часто говорил Пётр, указывая на Павлушу, – коли Павел увидит что, то истина дойдёт до меня такою же истиною, как ежели бы я сам её видел.
А теперь Павлуша сидит такой задумчивый. Ему было нехорошо, страшно чего-то... И зачем утонул этот Кенигсек? Зачем эти проклятые бумаги он носил с собой!.. Когда Павлуша по приказанию царя запечатывал их, то он увидел между ними что-то такое страшное, отчего у него полосы стали дыбом, кровь застыла... Неужели же это правда?.. О! Как он желал бы, чтоб чти проклятые бумаги пропали, уничтожились, исчезли бы под водой вместе с трупом Кенигсека...
И Павлуша силился отогнать от себя это страшное, которое он видел в бумагах утонувшего Кенигсека. Он старался думать о своём прошлом… В этом прошлом был такой крутой перлом. И опять всё это точно во сне было… Понравился Павлуша Головкину, Гавриле Ивановичу, и он взял его к себе в жильцы, в комнатные… «Такого смазливенького паренька, как Павлуша, всякому охота держать около себя на глазах», – говаривал, бывало, Гаврило Иванович: «и показать гостям есть что – малый бойкий…» И Павлуше жилось у Головкина – не то хорошо, не то дурно; а надо было привыкать – дом знатный, можно в люди выйти… Зорко присматривается Павлуша ко всему, что около него, быстро всё понимает, и Головкин не нахвалится Павлушей… Он его любит как сына, балует его, ласкает… И Павлуше вспоминается, что почему-то ему противно становилось от этих ласк. Но у Павлуши уже образуется характер будущего государственного человека: он уже многое знает, и знает, где помолчать... Он всё обдумывает, взвешивает, всему отводит надлежащее место...
Замечает Павлушу и царь у Головкина. Павлуша и царю нравится…
И вот Павлуша у царя на глазах, и денщиках его вместе с Ванькой Орловым... Только тот больше всё за девками дворскими... А Павлуша ни-ни, не глядит на девок, как они ни заигрывают с ним... Одну только девушку не может забыть, да то не здешняя... Далеко она... а так вот и стоит перед глазами... Да и имя-то какое милое – Мотря, таких имён во всей Москве нет...
На днях только они воротились с царём из Воронежа. Царь осматривал там новые корабли, весел был, всех торопил, всё ему хочется Азовское да Чёрное море себе завоевать, из Воронежа-то! Мало того, и султана терского воронежскими кораблями из Цареграда выгнать, а Дон-от соединить и с Волгой, и с Днепром, и с Двинами обеими, и с Обью – Дон-от. Вот чадушко! Со всеми концами света задумал Дон и Воронеж соединишь... «И на тот свет, говорит, прокопаюсь – только б у меня помощники были!..» А Павлушу вместе с бывшим там в Воронеже, по малороссийским делам, генеральным судьёю Василием Кочубеем и с бумагами царь посылал из Воронежа к гетману, к Мазепе Ивану Степановичу; а гетман в то время гостил на хуторе у Кочубеихи в Диканьке... Вот там-то Павлуша и видел эту девушку, дочку Кочубея, её-то и не может он забыть...
Вот и теперь, от этой невской холодной пустыни, мысль Павлуши отлетает в ту яркую зелень юга, в эту счастливую Диканьку... Апрель в начале, a уже всё в цвету. Никогда Павлуша не подозревал даже, что так дивен и прекрасен может быть свет Божий… Деревья – вишни, яблони, груши, тёрн – словно снежною, розоватою метелью засыпаны сверху донизу – хлопья, комья, горы этого снегу цветочного, куда ни глянешь, где ни ступишь... Деревьев не видать совсем, а виден только цвет, цвет, цвет без конца... Только ниже виднеется зелень, да и та вся усыпана цветами, живыми и умирающими, опавшими, завядающими... Это – цветочное море кругом! А птицы заливаются. Господи! Павлуша так и затрепетал всем телом, когда очутился в этом раю... Разом как будто воскрес один день из его детства, из той золотой, забытой, застланной пеленою лет поры, когда они жили где-то далеко там, за Днепром... Только не слышно плачущем скрипки доброго татка... Но зато поют птицы, столько голосов, столько мелодий неуловимых, столько подмывающего, доброго, нежного, стадного, что после московского холода и угрюмого и молчанья природы, Павлуша не выдержал и, бросившись лицом на траву, зарыдал...
Вдруг он слышит, кто кто-то тихо трогает его за плечо. В изумлении он приподымает голову и... не верит глазам своим: перед ним стоит русалка, не то богиня этого рая... и она вся в цветах, вся сияющая, как весна, как это дивное голубое небо... На волосах её, густых и чёрных, как вороново крыло, корона из цветов. И коса её вся переплетена цветами. Гирлянды цветов обвиваются вокруг шеи вместе с кораллами и спадают вниз по белой, шитом красными узорами сорочке... Смугло-белое, матовое без румянца личико смотрит ласково, девушка открывает розовые губы, из-за белых, мелких, как у мышки, зубков вылетают какие-то слова, не похожие ни на польские, ни на московские, но довольно попятные...
– Чего вы плачете? – спрашивает она.
– Так... мне хорошо… я не знаю, – бормочет Павлуша, боясь взглянуть на видение.
– Та вы ж с татком приiхали?
– Нет... мой татко в Москве…
Павлуша заметил, что девушка улыбнулась.
– Ни, не ваш татко, а мiй – Кочубей... Вин з вами вид царя прiихав до пана гетьмана...
– Да... он… я, – лепетал Павлуша, всё ещё не пришедший в себя.
– Може, вас кто обидив у нас?
– Нет, никто, я так заплакал, вспомнил детство.
– А вам якiй рик? – спрашивала девушка.
Павлуша не понимает слово «рик» и молчит, глядя вопросительно в чёрные, детские добрые глаза.
– Год вам якiй? – допытывается девушка.
Павлуша понял. – Мне восемнадцать уже исполнилось.
– Овва! А мени вже скоро симнадцятый буде...
В это мгновенье за кустами мелькнула тень, и показалась бодрая фигура старика с седыми усами и живыми серыми глазами, которые, при постоянно понуром лице старика, смотрели словно исподлобья, но смотрели бойко, лукаво и как будто приветливо... Это был Мазепа.
– Те-те-те! – весело заговорил гетман. – Вже моя дочечка из москалём женихается...
Девушка вспыхнула. Павлуша тоже стоял растерянный – он узнал Мазепу.
– От так дивка! От так Мотрёнька! Вже й пидчепила царьского денщика... Ото дивчача натура! – смеялся гетман, но смеялся немножко ревнивым смехом.
– Ну бо, тату... Вам бы все жарты, – заговорила девушка, надув губки.
– Яки жарты! У вас тут не до жарт...
– Та вони ж бо, тату, плакали...
А вон идёт и сам хозяин сада – Кочубей, осыпанный, как снегом, цветом вишен, яблонь, груш... Господи! Какой рай, какие светлые видения...
И мысль Павлуши, плывущего по неприглядной, холодной Неве, переносится в этот кран, и из хмурого северного леса выступают светлые видения...
– Павел, – вдруг пробуждает его голос царя.
– Что изволишь, государь?
– Бумаги Кенигсека запечатал?
– Запечатал, государь.
– Хорошо. После спрошу.
Опять проклятые бумаги... Быть беде, как он сам увидит это страшнее...