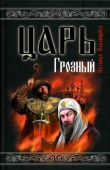Текст книги "Кочубей"
Автор книги: Даниил Мордовцев
Соавторы: Николай Сементовский,Фаддей Булгарин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 48 (всего у книги 57 страниц)
Долго сидел Мазепа у берега, разгадывая, кто такой был монах, зачем и куда он поворотил.
На другое утро по обыкновению Мазепа пришёл к девице.
– Вчера я сидел в саду и видел, какой-то монах катался, что ли, в душегубке, но, не приставая к берегу, проехал мимо.
– Ты этого монаха видел?
– Видел, светло было.
– Молодой или старик?
– Старик, борода длинная и белая!
– Не знаком тебе?
– Кажется, где-то я видел его, не помню.
Гетман чрез минуту вышел из комнаты.
XV
Солнце зашло за синие горы; сумрак спускался на землю, вечерний ветерок разнёс запах медунки и других цветов; пастух, играя на сопелке, гнал с поля стадо, жницы возвращались в хаты, торопясь топить печки да вечерю и обед на завтра варить; обедают во время жатвы до восхода солнца, когда же старательной хозяйке успеть приготовить всё для обеда: не один же сварит борщ с капустою и салом! В огороде растёт пшеничка, а в хиже есть творог и сметана, и пшеничку можно сварить, и вареники приготовить.
Пришли в хаты, подпалили в печках, запылала солома, и дым жёлто-серыми густыми клубами заклубился из высоких плетёных труб, украшенных сверху вырезанными из дерева петушками. В Батурине повеселело: на улицах поднялся шум и гомон, где-негде бандурист заиграет на бандуре, и вокруг его соберутся девчата, начнут смеяться, запоют, их обступят хлопцы да парубки, вот и весело. А там под хатами соберётся громада, старые люди: деды да батьки поседают на колодки, обопрутся на длинные палки и начнут вспоминать про славные дела храбрых казаков запорожских, хвалить минувшие годы, и спокойно дымятся под носами их коротенькие люльки. Вот так бывало когда-то в Батурине, в столице гетманской.
У Генерального судьи Василия Леонтиевича Кочубея славный сад был в Батурине: берёзы, клёны, липы, яворы, дубы в три охвата, вязы, калина, бузок... и не перечесть всех названий деревьев, которые росли в саду; а цветов: розы, зинзивера, ноготок, пивонии, зирочек и всяких других, – девчат батуринских всех можно бы заквечать, и сад ещё был бы полон цветов.
Часто знатное казачество гуляло в саду Генерального судьи; он всем позволял гулять в саду, да Любовь Фёдоровна не такая была пани: сроду сердита, не любила простых людей, хоть и сама была не крепко письменна, да зато горделивая, – что же делать, и Василию Леонтиевичу доставалось от неё, часто бедный приглаживал свою чуприну, всё терпел, сердечный; другой раз и жаль было его, человек смирный, добрый, пан знатный и богатый, а что лучше всего, набожный: как только услышит, что благовестит в церкви, надевает жупан, берёт палку, шапку, да скорее и поспешает: не успеет ещё и ктитор прийти, а Василий Леонтиевич ставит свечи перед святыми иконами да кладёт земные поклоны; любили ж и его паны-отцы: кончится служба, смотришь, отец Гавриил или замковской Помпий сам несёт ему на серебряном блюдце великую, великую просфиру. Василий Леонтиевич возьмёт её, перекрестится, приложится к кресту и потом чинно выходит из церкви: казачество, в белых свитках, в червовых чоботах, подпоясанное красными поясами, кланяется низко Генеральному судье; все казаки знали его, да как же и не знать пана доброго, богатого, и после пана гетмана старшего в гетманщине; да к тому же ещё, часто бывало говорили люди, что после Ивана Степановича никому другому не приходится отдавать булаву, как Кочубею, да и сам пан под весёлый час проговаривался.
«Кому, кому, – думали казаки, – была бы тогда утеха, а Любовь Фёдоровна не знала бы, что и делать от радости; горда пани – себе на роду – хочется быть гетманшею, может статься и будет; что же, не диво: полюбят московские паны, так и всё, что захотела, то и сделают, – за примером далеко ходить не надобно: в Батурине есть мурованные будинки, а в будинках живёт Иван Степанович. Нехай ему легко сгадается».
Так рассуждали казаки, сидевшие под хатами; а в этот час Василий Леонтиевич и Любовь Фёдоровна сидели вдвоём на рундуке, который выходил на двор, и смотрели на возращавшийся с поля народ.
– Ох... Боже мой, Боже!..
– Чего тебе так тяжко, сердце моё!
– Так, душко!
– Скажи, серденько моё, чего в самом деле ты сумуешь?
– Ох... Боже мой, Боже, как же сердце моё не будет болеть, когда нашему нечестивому гетману с Москвы шубы за шубами, жупаны за жупанами шлют, да все шубы соболиныя, да с диаментовыми гудзяками, алым аксамитом покрытый; все говорят, что он такой теперь боярин, как был Голицын: голубая лента на жупане и цепь золотая с орлами, а титулов, Боже, Боже – и всё-то православный царь ему надавал.
– Царь, говорят, любит его больше всех в своём царстве; а если б знал царь, кого он любит!..
– Так, Любонько, за это и Бог не прогневается, когда мы будем говорить, что гетман не такой, чтобы любил его царь. Громада толкует, что Мазепа на беду всем снюхался с королём шведским и Станиславом Польским.
– Вот ещё, что запели! Я первый раз от тебя, Василью, это слышу.
– Так, так, моё серденько; я и сам не верил, да в Полтавщине был твой родич Искра, говорил мне об этом, был в тот час и поп Святайло, и тот подтвердил, сами они слышали от казака; мне поп Святайло сказал и прозвание того казака, да вот, дурная память, из головы вон... постой, вспомню... как, бишь, зовут этого казака... Петро Яценко, так-так, Петро Яценко, перекресть, богатый арендатор, и в Ахтырке есть у него аренды. Вот он и говорил, что часто казаки приходят в корчму, под весёлый час, напившись горелки, и начнут говорить про гетмана; один, что он слышал, будто гетман польскому королю хочет отдать гетманщину, другой шведскому – кому б то ни было, а всё он изменит православному Московскому царю.
– Молчи, Василию, до времени, да старайся всё проведывать потихоньку; а будет случай, так царю донесём.
– Ох, страшно, Любонько, Бог с ним совсем, ты разве не знаешь, что прав не прав казак, даже и чернец, а всем, кто слово сказал, что гетман недоброе думает, головы отрубливали да вешали тело на виселицах, а головы на шесты... давно разве это было?!
– Вешали и головы отрубливали тем, которые не умели как донести; будет время, я сама всё сделаю, ты только слушай меня.
– Добре, Любонько!
– То-то, добре! Ты, Василию, не забудь, что после Мазепы непременно булава должна быть в твоих руках; с этою думкою вставай и ложись спать, да Богу молись!
– Добре, Любонько!
– Будешь, говорю тебе, гетманом, хотя бы ты сам не захотел этого, так я есть у тебя, мне нужно, чтобы ты был гетманом, вот и всё!
– Добре, Любонько!
– Когда ты ездил до гетмана в Гончаровку, приезжал сын судьи Чуйкевич, и что ты себе хочешь, всё трётся да мнётся подле Мотрёньки; она-то и знать его не хочет, видеть его не может, а он так как индык перед индычкою... смех да и только; Мотрёнька знает: как будет батько гетманом, так не Чуйкевич женихом будет!.. О, моя дочка любит славу... люблю и я её за это, люблю.
– Мотрёнька, дочка моя, нечего сказать, славу любит; я сидел в шатре: Мотрёнька, да старшая дочка Искры, да Осипова, взявшись за руки, ходили по саду и рассказывают: Мотрёнька говорит: «Я бы ничего в свете не хотела, если б была за гетманом, тогда бы меня все поважали, в сребре да золоте ходила бы я, каждый Божий день червонный золотом шитыя черевички надевала бы, а намиста, Боже твоя воля! Какого б тогда не было у меня намиста; а что всего лучше, все знали бы меня в гетманщине, знали б и во всём свете: говорили бы: Мотрёнька жинка гетманская; короли ручку у меня целовали бы!» – а Искрина да Осипова все подтверждают ей, вот такия-то девчата! Да и ожидай от них добра: впереди матери невод закидают!!!
– Хорошо делают: умные девчата, знают своё добро!
– Ты, Любонько, говорила, что Чуйкевич подле Мотрёньки увивается?
– Я ж тебе говорю, как индык перед индычкою, бедная Мотрёнька места от него не найдёт.
– И дочка не скажет ему, что в огороде у нас Гарбузов растёт вволю.
– Да видишь ли, Чуйкевич ничего не говорит об весильи, а то давно бы в бричке его и не один и не два лежали бы гарбуза, да ещё с шишками, настоящих волошских!
– Правду сказать, если бы всем женихам Мотрёнькиным давать гарбузы, так в огороде у нас давно бы ни одного не осталось.
– Слова твои на правду похожи!
– Подумай, сколько уже женихов было, и всем то гарбуз, то политично откажем, и одни с гарбузами, другие с носами возвращались домой.
– Так когда-то было и со мною, пока я не вышла за тебя! – сказала Любовь Фёдоровна и покачала головою. – Ох, лета мои молодые, лета мои молодые, не воротитесь вы никогда! А как згадаю, когда молода была, так сердце надвое разрывается!
– Эх, Любонько, что прошло, то минулось!
– Знаю песню эту и без тебя, Василий! Когда бы Господь хоть на старости лет порадовал, чтоб булава была в наших руках!
– Не состарилась, Любонько, Господь Бог пошлёт ещё радость!
– Дай Господи! Да раз уже Мазепа задумал подружиться с поляками, шведами да татарами, то не будет долго гетманом!
– И я такой думки. Где Мотрёнька, целый вечер не видал её?
– Сидит где-нибудь под деревом в саду и поёт; с того часа, как Чуйкевич начал волочиться за нею, она как переродилась: с утра до вечера сумует да сумует.
– Так, так.
– Пойду, посмотрю, что она делает!
Любовь Фёдоровна вошла в сад и, переходя из просади в просадь, остановилась у самого спуска горы, где протекал прозрачный Сейм; полный месяц катился над рекою и, купаясь в волнах, осребрял их своим лучом. Послышалась песенка, Любовь Фёдоровна начала вслушиваться, ей показалось, что кто-то поёт у самого берега; тихо спустилась она к реке и видит: Мотрёнька стоит у самого берега, берёт посребренную месяцем воду на гребёнку, чешет против месяца свою чёрную густую косу и что-то тихо говорит.
Любовь Фёдоровна поняла, что делает Мотрёнька, и внимательно прислушалась к её словам.
Мотрёнька произнесла имя Ивана.
– Ага, вот как наши знают! – сказала Любовь Фёдоровна про себя, тихо взошла на гору и, пришедши к Василию Леонтиевичу, спросила:
– Знаешь, где Мотрёнька и что она делает?
– Не знаю!
– Против месяца, у берега косу чешет; полюбила Ивана, какого же – Ивана?
– Да это всё выдумки девичьи.
– Нет, Василий, не выдумки, не говори этого; ты не знаешь, она брала гребёнкою воду, в которой месяц купался, расчёсывала косу, – и как раз полюбит её тот, кого она любит; а кого не любит она, тому и свет будет не мил!
– А, Любонько! Не знаю! Не моё дело!
– Кто же тот Иван, у нас и гетман Иван, не он ли, чего добраго! – усмехаясь, говорила Кочубеева.
– Уж начала звонить!
– Чего звонить! Ты знаешь, Василий, что Мотрёнька Мазепу любит, если правду сказать, так больше, чем тебя! Ты ей родной батько, а Мазепа только крестный!
– То нам так кажется!
– Нет, не кажется!
Пусть здоровая будет, пусть любит кого любит! Будь он добрый, умный, достаточный человек, так и рушники подаём.
– Пора б уже, слава Богу, восемнадцатый год наступает; да десять, когда не больше, женихов с гарбузами отправила!
– Всё воля Его Святая!
– Поздно уже, пойдём, спать пора.
Василий Леонтиевич и Любовь Фёдоровна ушли.
XVI
Ходит по саду одна-одинёшенька Мотрёнька и жалостно поёт. Сядет под берёзою, склонит прелестную головку на белую ручку, смотрит на сорванную, только что распустившуюся розу и жалеет, что завянет она не на родной ветке; вздыхает, а сердце её плачет, горько плачет; невесело ей на свете и горя она не знает, слёзы льются из чёрных очей... пусть льются, сердцу легче, – ни мать, ни отец не увидят их, – не увидит их никто из людей, да и не засмеются...
Не сирота Мотрёнька, есть у неё отец и мать, знатные люди, – да что, они не помогут в её горе, сердце болит без милого: на что тогда и счастье, на что и самая жизнь, без милого всё могила.
Но где её милый, в какой стороне, не москвич ли белолицый со светлыми усами? – не потому ли Мотрёнька тоскует, что уехал он в Московщину, не ляха ли полюбила, что в красном аксамитовом кунтуше часто приезжал до гетмана? Видно, ляха! Ибо идёт Мотрёнька к гетману и радостно смеётся, надеется увидеть коханого... Но ляха не Иваном зовут; где же Иван, которого она полюбила? Ни отец, ни мать и никто не знает; а Мотрёнька всё горюет да горюет.
Три дня бедняжка сидела в саду, да тихонько, чтобы никто не видал слёз, плакала; три дня сильно тосковала;
встанет рано, помолится Богу, поцелует руку у матери и отца, тихонько отворит двери в сад, да была такая! И нет; мать спрашивает, где Мотрёнька? Из одной комнаты в другую пойдёт – нет дочери.
– В сад ушли панночка! – ответит девка, услуживавшая Мотрёньке.
– Плакать! Пусть плачет: как и я была молодою, плакала и я; пусть плачет, сердцу легче будет! – скажет Любовь Фёдоровна, сядет на диван, поджав под себя ноги, вяжет чулок, сидит молча и думает: как она будет угашать гостей на Мотрёнькиной свадьбе.
А Мотрёнька в саду, то песенку весёлую запоёт, то вдруг горько заплачет, то печально запоёт и засмеётся, но горько засмеётся.
– Когда бы я знала, когда бы я видела того Ивана, сама бы привела в церковь и поставила бы с дочкой в парочке, только б Мотрёнька моя не тосковала... жаль дочки, да что ж делать, не знаю я Ивана… а спросить не хочу, не скажет, сама я знаю; и ещё больше затоскует...
– А я знаю, какого она полюбила Ивана! – сказал Василий Леонтьевич.
– А какого, скажи, когда знаешь?
– Москалика!
– Так и есть; горе ж моё, горе, да тяжкое горе! Горе отдать за него Мотрёньку: повезёт, недобрый, в далёкий край, не повидят её больше мои старые очи, не прижму её к своему сердцу... горе, тяжкое горе! А подсунуть москалику гарбузец, затоскует моя дочка не так, как теперь тоскует; когда б знала, что москалика полюбит, лучше б в Батурине не жила; когда б знала, что будет так горевать, лучше б маленькою заховала. Кого бы ни полюбила, рада б отдать дочку, не за москалика!..
– Полюбила, да и разлюбит!
– Ты не знаешь девичьего сердца! – вздохнув, сказала Любовь Фёдоровна, и только было хотела пойти к Мотрёньке, как гайдук вошёл в двери и сказал, что приехал гетман.
– Вот тебе и снег на голову... и не ждали и не думали!
Василий Леонтьевич побежал надеть жупан, Любовь Фёдоровна вышла встречать кума.
– Здравствуй, добродейная моя кума, здравствуй, радости моей радость! Душа веселится, сердце несказанно торжествует, когда очи мои видят тебя, Любовь Фёдоровна!
Мазепа несколько раз с жаром поцеловал руку Любови Фёдоровны.
– Кум, дорогой кум, давно ты не был у нас, забыл нас, своих родичей; грех, ей-ей же грех... не люблю тебя за это!
– Мать моя родная, ей же-ей царские дела, ни день ни ночь покоя нет!
– Зачем же ты не бережёшь своё здоровье, ведь тебе не молодеть; а посмотри на голову, чуприну снег присыпал... куме, куме, бросил бы ты все дела да знал бы одного себя, есть у тебя и без московских приятели ещё повернее и получше...
– Всех, кума моя добрая, надобно любить: и врагов любите ваших, сказал Господь!..
– Да-ну, куме мой, брось ты врагов! На что их вспоминать, слава Богу милосердному, есть не враги; об них слово доброе сказать не в тягость.
Жупан Василия Леонтьевича лежал в шатре, разбитом в саду, он пошёл в сад – смотрит, Мотрёнька сидит задумавшись.
– Мотрёнька, крестный отец твой приехал, как тебе не стыдно сидеть да печалиться!.. Вот, постой, я всё расскажу гетману! – сказал нежно любящий свою дочь Василий Леонтьевич.
Мотрёнька побежала в дом, умылась, причесала голову; радость, как солнце из-за туч, просияла на обворожительном её личике, и она, как светлая звёздочка, вошла в комнату, где сидел гетман.
– Здравствуй, доню!
– Здравствуй, батьку!
Сказала, опустила пламенные очи в землю и, как маков цвет, покраснела, подошла к руке крестного отца, поцеловала её; Мазепа поцеловал крестницу в уста и посадил её подле себя.
Вошёл Василий Леонтьевич.
Гетман и судья поздравствовались, обнялись, поцеловались и сели.
– Буду жаловаться тебе, ясновельможный, на дочку твою.
– За что?
– Да смех сказать, – говорил Василий Леонтиевич, смотря на Мотрёньку, которая сидела как мёртвая, и поминутно то краснела, то бледнела.
– Ну, что? Говори, пожалуйста, куме; я как крестный отец, да ещё гетман, так не посмотрю, что она родная твоя дочь, а за что будет – пусть не прогневается... в Гончаровке у меня, сами знаете, сад густой, – смеясь говорил Иван Степанович, и украдкою страстно посматривал на Мотрёньку.
– Спроси, сделай милость, куме, какому она Ивану песни поёт! – сказала Любовь Фёдоровна. Мотрёнька как мёртвая побледнела.
– Ага, а что – дочко, ты думала, что мать ничего не знает? – сказал Василий Леонтьевич.
– Ну, доню, скажи мне правду, какому Ивану песни поёшь?
Мотрёнька молчала.
– Скажи, доню, или ты уже сердишься на меня и не хочешь отвечать!
– Никакому.
– Ей-ей неправда, доню, неправда; я сама слышала и видела, как ты и косу против месяца чесала!
Мотрёнька подняла свои чёрные глаза, посмотрела на мать, опять опустила их и ни слова не сказала.
– В москалика влюбилась, – сказала Любовь Фёдоровна.
– В москалика, в москалика, – подтвердил Кочубей.
– Нехай, доню, лихо москаликам, есть у нас свои Иваны, черноусые да красивые, люби, дочко, своих лучше.
– И я то же самое говорила ей – да вот беда, москалик приглянулся!
Мазепа засмеялся, взял Мотрёньку за голову, приклонил к себе и поцеловал её в уста.
– Я сам найду жениха, знатного воеводу или боярина!
Мотрёнька встала, едва могла удержаться, чтоб не заплакать, и ушла в другую комнату.
Недолго посидел гетман и уехал, прося Василия Леонтьевича и Любовь Фёдоровну посещать и не забывать его.
Гетман со двора, а Чуйкевич на двор. Мотрёнька увидела приехавшего и сильнее прежнего задумалась.
Гостя, как и всех гостей, Василий Леонтьевич принял радушно, Любовь Фёдоровна также была рада приезжему.
Позвали Мотрёньку, Чуйкевич в первые минуты смутился, потом пришёл в себя и завязался довольно весёлый разговор.
Любовь Фёдоровна говорила – как летом скучно в Батурине, нет ни свадеб, ни банкетов, негде повеселиться, а молодым потанцевать.
Чуйкевич утверждал, что скоро будет банкет у гетмана, Мазепа получил от царя шубы, соболи, аксамит, четыре села и пять деревень, в которых четыре тысячи девяносто пять душ и тысяча восемьсот семьдесят дворов. Знаем про милость царя-государя к нашему ясновельможному гетману, знаем и поздравляли Ивана Степановича, а когда будет банкет, так и повеселимся! – сказал Кочубей.
– За что ж подарил царь Ивану Степановичу столько сел и деревень? – спросила Любовь Фёдоровна.
– Чтоб не ходил на войну против шведов; царь бережёт нашего гетмана; кому не известно, как он любит его, хотя правду сказать, Иван Степанович... да что ж будешь делать... – Чуйкевич замолчал.
– Ну, ну, что же Иван Степанович? – спросила Любовь Фёдоровна.
– Да так, ничего! говорил Чуйкевич.
– Вот так, испугался! То-то все вы думкою богаты, а на деле так за стену прячутся, знаем вас!..
– Иван Степанович благодетель наш! – сказал Кочубей.
– Благодетель, истинный благодетель, я сам говорю!
Час был двенадцатый, в большой комнате приготовляли стол для обеда, Любовь Фёдоровна также засуетилась. Чуйкевич подойдёт к Мотрёньке, скажет ей два-три слова; Мотрёнька отворотится от него, пересядет на другое место; Чуйкевич тоже покраснеет и опять начнёт разговаривать с Любовью Фёдоровною.
– Что в такие жаркие дни делаете вы, Любовь Фёдоровна?
– Всё думаю, за кого бы дочку мою отдать замуж, да не придумаю; пора уже, слава Богу, восемнадцатый год; скорее из дома, меньше хлопот!
– Вот, женихов нет! – сказал Василий Леонтьевич.
Чуйкевич вздохнул, покраснел и, чтобы не заметили его смущений, начал закручивать усы.
Кочубей вышел из комнаты.
– Любовь Фёдоровна, мать моя, я давно хотел сказать... да всё не смею, – начал Чуйкевич, севши подле Кочубеевой, и поцеловал её руку, – да всё не смею, хоть сердце крепко, крепко болит... Ох!.. – он тяжело вздохнул.
– От чего у тебя сердце болит?
– Болит, крепко болит, Любовь Фёдоровна...
– Вот ещё, выдумал! Казак, посмотреть на него любо, а рассказывает, что сердце болит; пусть болит у дивчат, а не у вашего брата! Недаром же стыдно говорить тебе об этом!..
– А что, не от Мотрёнька ли болит сердце его? – спросил Василий Леонтьевич, войдя в комнату.
– Да – так, вы угадали, – пробормотал Чуйкевич.
– От Мотрёньки? – спросила Любовь Фёдоровна.
– Да разве не слышала, он сказал, что от Мотрёньки.
– Мотрёнька, что это значит!
– Не знаю!
– Давно ты полюбил Мотрёньку?
– Давно, Любовь Фёдоровна, мать моя родная!
– Ну что ж ты опустила очи-то свои в землю, дочко? Не сегодня, так завтра, а всё надобно замуж; целый век не сидеть в доме отца и матери, такое дело!
Так, так! – сказал Василий Леонтьевич довольно серьёзно.
– Вот жених сыскался, о чём же ещё думать.
– Воля ваша! – отвечала Мотрёнька, понимая мысли отца и матери.
Чуйкевич был невыразимо восхищен.
– Пойдём обедать, борщ на столе прохолонет! – сказала Кочубеева.
Все вошли в другую комнату, где был накрыт стол, и сели обедать.
– Ну когда так, надобно рушники готовить!
– А ты и не наготовила ещё? – спросил Василий Леонтьевич.
«Да кто же знал, что Господь Бог так скоро пошлёт жениха.
Приняли борщ, подали другие кушанья, разговор не прекращался ни на минуту; когда подали жаркое, Любовь Фёдоровна мигнула стоявшему подле неё гайдуку Ивану Иванову, гайдук усмехнулся, поняв знак Кочубеевой, и тотчас ушёл.
– Когда же ты думаешь, сынок, за рушниками-то приехать?
– Когда скажете!
– Это твоё дело.
– Да хоть через неделю.
В эту минуту Иван поставил на стол огромный печёный гарбуз.
– Вот так ещё, и гарбуз на закуску! – сказала Любовь Фёдоровна. – Кто же это постарался: я не приказывала печь гарбуза; это ты, Мотрёнька?
Мотрёнька смеялась и, закрывая лицо платком, сказала:
– Нет, не я, не знаю!
– Сегодня бы гарбуза не следовало подавать, да когда уже на столе, так нечего делать, будем есть.
Чуйкевич покраснел и догадался, для чего подан гарбуз, и, когда поднесли ему кусок на тарелке, не захотел есть.
– Жаль, что ты, сынок, не хочешь есть, а гарбуз сладкий; я страх как люблю печёные гарбузы.
Встали из-за стола, Чуйкевич взял шапку и, сколько его ни удерживали на вечер, уехал.
Целый день Любовь Фёдоровна, Василий Леонтьевич и Мотрёнька смеялись над Чуйкевичем.
– Скажи мне, сделай милость, кого же ты любишь, дочко моя?
– Никого, мамо!
– Неправда, не верю!
– Никого!
– Ивана, я знаю, да какого Ивана?
– Ни Ивана, ни Петра и никого!
– А плачешь отчего да печалишься!
– Так!
– Всё так!
– Пусть плачет и печалится; пройдёт всё! – сказал Василий Леонтьевич.
– Пусть плачет, я не пеняю, но говорю ей только одно: не забудет советы мои, счастлива будет; обождёт год-два, Бог подаст, в наших руках будет булава, тогда не Чуйкевич станет свататься, гетманская дочь, не судьи!
Мотрёнька ушла.
– Молода ещё, ничего не понимает! – сказал Кочубей.
– Известно, дивчина! Ей лишь бы скорее замуж, вот и всё!..
– Пусть обождёт, дождётся своего!..