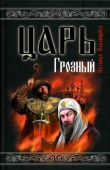Текст книги "Кочубей"
Автор книги: Даниил Мордовцев
Соавторы: Николай Сементовский,Фаддей Булгарин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 57 страниц)
– Гей, любезный наш хозяин! – сказал седой урядник. – Вели-ка подать гарнец доброго мёду, чтоб распить его, на прощанье, с приятелем. Как воротимся из-под шведа, так заплатим тебе шведскою добычею.
– За то, что ты принесёшь из-под шведа, я не дам и полкварты простой горелки, – отвечал перекрёст, улыбнувшись насмешливо. – Смотри, береги только свою седую чуприну! Послушай-ка, что говорят о шведах московские солдаты!
– А что говорить москалям? Били их шведы, а потом они побили шведов, да ещё и город зачали строить на их земле, – возразил урядник.
– Правда, удалось москалям побить шведов там, где не было их короля, – примолвил перекрёст, – и где на одного шведа было по десяти русских...
– Брешешь, пане хозяин! – сказал с гневом урядник. – Я сам был при московском войске, когда мы побили шведов в Польше, под Калишем, с князем Меншиковым, в Чухонщине с Шереметевым и в самой шведской земле с Апраксиным. Мы были равны числом. А чтоб ты знал, как москали не боятся теперь шведа, так я расскажу тебе, что сделал Апраксин. Узнав, что шведов только восемь тысяч противу нас, он взял с собою столько же московского войска, хотя имел его втрое более, и пошёл навстречу шведу, напал, разбил в пух и воротился, не потеряв своих и десятой доли. Не веришь, так спроси у Грицка и Потапенки: они были тогда со мною. Да и пан есаул Кравченко скажет тебе, правду ли я говорю...
– Я не хочу спорить, что москалям удалось побить шведов раза два, три, да всё-таки стою на своём, что тогда не было с ними их короля, – возразил перекрёст.
– Ну, а что диво их король! – сказал урядник. – Побил он русских под Нарвой, да тогда и с русскими не было их царя, а начальствовал ими изменник, который продал московское войско, да и улизнул к шведам, со своими немцами! Эдак немудрено воевать! Уж московский-то царь – не шведу чета! Орел орлом! Как взглянет на человека, так дрожь пронимает, а что схватит в руки, всё трещит, будь сталь, будь камень... Сущий богатырь! Конь под ним так и вьётся, а как гаркнет перед войском, так, кажется, и мёртвый бы встрепенулся. Пусть бы король шведский встретился с самим царём, так ему небо с овчинку покажется! Как вспомню про старину, так царь московский, ни дать ни взять, наш Палей!..
– Сгинь ты, пропади со своим Палеем! – сказал перекрёст, плюнув и топнув ногою. – Вот нашёл кого сравнивать с царём!
– Я не сравниваю, – возразил урядник, – а так, пришло к слову! Состарился я на войне, а отроду не видывал таких молодцов на коне перед войском, как царь да наш Палей, с которым мы били и татар, и турок, и ляхов...
– Стыдно и грешно тебе, старик, вспоминать о Палее, – сказал перекрёст, – разве ты не знаешь, что он наказан за измену?
– А мне почему знать! – отвечал урядник. – Так было сказано, а правда ли, одному Богу известно.
– Не одному Богу, а целому свету известно, – примолвил перекрёст, – что Палей поступил против присяги, грабив польских панов против воли и вопреки приказаниям нашего милостивого пана гетмана...
Старый урядник громко захохотал.
– Ха, ха, ха! Так это, по-твоему, измена! – сказал он. – А который гетман, считая от Хмельницкого до нашего милостивого Ивана Степановича, не нагревал рук в Польше? Гё, ге, хозяин! Ты, видно, не считал подвод гетманского обоза, когда мы воротились из последнего похода в Польшу! Ведь для нашего брата, казака, Польша то же, что озеро; как захочется рыбки, так и закидывай уду!
В толпе раздался хохот и шум. Все казаки пристали к мнению урядника. Один дюжий казак перекричал всех и сказал громко:
– Как ляхи пановали на Украйне, так сосали из нас кровь, а теперь наша очередь! Коли бы гетман наш...
– Молчи ты, бестолковый! – примолвил другой казак, толкнув его под бок. – Ни слова про гетмана, коли не хочешь, чтоб завтра же услали тебя копать землю в Печерской крепости или строить корабли в Воронеже...
– Постойте вы, гоголи, придёт время, что вы будете со слезами поминать польское панованье! – возразил перекрёст. – Будет с вами то же, что с московскими стрельцами! Недаром в целом московском царстве говорят, что царь хочет переселить всех казаков по московским городам, а особенно в свой новый город, на шведской земле, при море, где шесть месяцев сряду такой мороз – что камни лопаются, три месяца холодный ветер – что дух занимает, а три месяца такое лето – что хуже нашей зимы. Вот там запоёте другую песню! Дай только царю московскому управиться со шведом, так он примется за вас!..
– Типун бы тебе на язык! – сказал старый урядник, – Я столько лет выходил по походам, вместе с москалями, а никогда ни словечка не слыхал об этом! Всё это сущая ложь и обман, а выдумывают и разглашают это сами же ляхи, – трясца их матери! Трудно лисице забыть о курятнике!
– Ха, ха, ха! Ляхам опять захотелось засунуть лапу на Украйну! – сказал дюжий казак. – Хорошее житье пчёлам, коли медведь пасечником!
– Хорошо жить пчёлам, когда они сами едят свой мёд, – возразил перекрёст, – а ещё лучше было бы украинцам, когда б ни лях, ни москаль не вмешивался в казацкие дела, как было при Хмельницком!
– Вот что правда, то правда! – сказал старый урядник. – Того-то и хотел старик Палей!
– Опять ты со своим Палеем! – подхватил с досадой перекрёст. – У нашего пана гетмана больше ума в мизинце, чем в целом запорожце!..
– Ум-то есть... да... что тут говорить! – сказал урядник. – Подавай-ка мёду!.. Пейте, братцы! Во славу и в память гетманщины и казатчины, каковы они были при отцах и дедах наших!..
– За здоровье нашего пана гетмана! – воскликнул один из сердюков, сидевших особо. – Такого гетмана не было и не будет; а кто не пьёт за его здоровье, тот подавись первым куском и захлебнись первым глотком! Ура!
Сердюки прокричали ура. Некоторые казаки пристали к ним, а старики, поднеся чарки и кружки к устам, прихлебнули и в молчании поглядывали друг на друга.
– Уж коли быть Украине такой, как она была прежде, при дедах наших, так не чрез кого другого, как чрез нашего пана гетмана, – сказал сердюк. – По правде сказать, так и нынешнее житье не лучше ляшской неволи. Служи казак на своём коне и в своей одежде, таскайся Бог знает куда, бейся, терпи нужду, да и воротись домой ни с чем, коли не пришлось костей сложить на чужой стороне. То ли дело, бывало, при старой гетманщине, когда казак шёл на войну, как на охоту, пригонял домой целые стада и табуны да приносил чересы с червонцами и серебро, расплавленное в ружейном дуле! Ведь кто и теперь богат, так от старины, а не от нынешнего житья!
– Правда, сущая правда! – повторили в толпе.
– По-моему, – продолжал сердюк, – так всю бы Польшу, по самую Варшаву, выжечь начисто, сделать из неё степь, ляхов перерезать, баб и ляшенят продать татарам, всё добро, разумеется, забрать на Украйну, а московскому царю поклониться и сказать: мы не пустим к тебе ни турок, ни татар, а ты избавь нас от кацапов.
Хохот и восклицания в толпе заглушили слова сердюка.
– Славно, дядя!
– Правда, правда! – кричали казаки, согретые вином.
– Этой правдой, сердюк, ты или сам попадёшь, или других втянешь в петлю, – сказал старый урядник. – Братцы! – примолвил он своим товарищам. – Пойдём прочь отсюда! Не бывать добру, коли сердюки вмешались в казацкое дело. А я знаю хорошо Кондаченку!
– А как ты меня знаешь? – воскликнул Кондаченко, вскочив со своего места и подбоченясь.
– Знаю, что у тебя язык как жёрнов: что подсыплют на него, то он и мелет, – возразил урядник, смотря смело в глаза Кондаченке. – Видно, хозяйский медок сладок, – примолвил ом насмешливо, – что твои речи так сходны с хозяйскими!
– Знаем и мы тебя, старая лисица! – отвечал Кондаченко, озлившись. – Туда дорога Черниговскому полку, куда и палеевцам! Каков поп, таков и приход!
– Как ты смеешь стращать и поносить Черниговский полк! – вскричал старый урядник, вскочив также из-за стола и схватив за ворот Кондаченку. – Наш пак полковник Полуботок, первый полковник в целом войске, и черниговцы более всех отслужили царю... Ваше сердюцкое дело воевать с бабами, за печью, да красть кур, а ты смеешь ещё брехать на черниговцев!..
Кондаченко, желая вырваться из рук урядника, толкнул его в грудь. На помощь уряднику бросились его товарищи, а к Кондаченке прискочили сердюки. Завязалась драка.
– Бей палачей-сердюков! – кричали казаки.
– Бей бунтовщиков, – вопили сердюки.
В корчму сбежались с площади сердюки и казаки. Сперва дрались кулаками, но вскоре засверкало оружие, и помост обагрился кровью.
Перекрёст побежал в гетманский дворец, чтоб уведомить о происшедшем и призвать стражу, а некоторые казаки бросились к полковнику Полуботку. Стража поспешила на место драки, разогнала народ и упорнейших отвела в войсковую тюрьму.
Полковник Полуботок давно уже заметил, что в войске распространяется дух буйства, внушаемый какою-то невидимою силой, но, зная нерасположение к себе Мазепы и всех его окружающих, довольствовался наблюдением порядка в своём полку, а не смел объявить гетману о своих опасениях. По мере приближения войска шведского к российским пределам возрастала дерзость поляков, находившихся в услужении у гетмана, и своеволие в речах, дотоле неслыханное, особенно заметно было между сердюками. Гетман, сказываясь почти всегда больным и редко показываясь в народе, не предпринимал никаких мер к пресечению сего зла, а приближённые к гетману старшины, казалось, не замечали происходившего. Верные долгу и присяге полковники и генеральные старшины хотя догадывались о кроющемся в войске злоумышлении и даже подозревали самого гетмана, но, опасаясь его мщения и зная неограниченную доверенность к нему царя, молчали и ждали последствий. Наконец, после драки, случившейся в корчме, и взятии под стражу казаков Черниговского полка, прибывших в Батурин с Полуботком, он, расспросив их о подробностях дела, решился воспользоваться сим случаем для объяснения с гетманом и после вечерни пошёл во дворец.
Полуботок не слишком надеялся, что гетман допустит его к себе, но вознамерился требовать личного объяснения для того более, чтоб сложить с себя всякую ответственность, если бы дошло до розыска. Он приготовил письменное донесение, чтоб вручить генеральному писарю, когда ему не позволено будет видеться с гетманом.
Сверх чаяния, Мазепа допустил к себе Полуботка и, сверх всякого ожидания, принял его отменно ласково. Гетман сидел в своих больших креслах, укутанный одеялами, и подушками. Только немой татарин находился при нём.
– Здравствуй, Павел Леонтьевич! – сказал Мазепа, протянув руку Полуботку. Полуботок не смел пожать руки гетмана, но поцеловал его в плечо и низко поклонился.
– Умираю, брат, умираю! – примолвил Мазепа жалобным голосом. – Много недовольных мною в войске между панами полковниками и старшинами, но совесть говорит мне, что по смерти моей они отдадут мне справедливость, и это одно убеждение облегчает мои страдания!
Полуботок молчал.
– Ты, некогда, любил меня, Павел Леонтьевич! – сказал Мазепа. – А с отцом твоим мы были старые приятели и искренние друзья. Злые люди разлучили нас, однако же ты, надеюсь, не помянешь меня лихом и не скажешь, чтоб я не исполнял слов вседневной молитвы: «И отпусти нам долги наши, яко и мы отпускаем должникам нашим»?
– Вы сущую правду изволите говорить, ясневельможный гетман! Злые люди оклеветали меня перед вами и лишили вашей милости и доверенности. Но я никогда не поминал и не помяну вас лихом, ибо хотя и безвинно был оклеветан, будто участвовал с Забеллою в составлении доноса противу вас, но, по вашей милости, освобождён от всякого преследования и даже получил обратно чин, место и отнятое на скарб именье...
– Так ты не забыл этого! – сказал Мазепа с коварною усмешкой. – Бог видит душу твою, Павел Леонтьевич! – примолвил он. – Но в то время меня убедили в твоём соучастии с Забеллою, и я простил тебя не потому, что почитал тебя безвинным, но по той причине, что всегда любил и люблю тебя, зная твой высокий ум, опытность в делах и любовь к родине, и уверен, что после меня ты один в состоянии поддержать права наши... А мне недолго уже быть на страже у сей святыни!.. – Мазепа опустил голову на грудь и, взглянув исподлобья на Полуботка, погрузился в думу.
– Я должен полагать себя счастливым, если вы, ясневельможный гетман, признаёте моё усердие к службе его царского величества и обратили внимание на малые мои способности. Сие-то самое усердие к службе и радение о спокойствии вашем привели меня теперь к вам, ясневельможный гетман. Не обвиняя никого из тех, кому вы поручаете исполнение своих предначертаний о благоденствии нашего отечества, я должен, по совести, сказать вам, что с некоторого времени, именно с тех пор, как вы начали так часто хворать, наблюдение за порядком значительно ослабело. Жиды и польские выходцы явно распространяют в войсковых землях универсалы короля шведского; по всем перекрёсткам поют песни, возбуждающие в казаках ненависть к нынешнему порядку вещей; в корчмах и на площадях толкуют Бог весть что... и никто не помышляет о прекращении сего зла, которое, при теперешних обстоятельствах, может иметь весьма пагубные последствия!
– Я в первый раз слышу об этом, – сказал простодушно гетман, – а что написано в этих универсалах, что говорится в песнях, что толкует народ?
Полуботок наморщил чело, взглянул с недоверчивостью на Мазепу и, не спуская с него глаз, отвечал:
– В универсалах возбуждают народ украинский к бунту противу царя русского, в песнях приглашают нас вооружиться за прежнюю независимость и отложиться от России, а народ толкует о старине, вспоминает прошлое своеволие и, сравнивая с нынешним положением нашего края, ропщет на настоящее...
Полуботок замолчал, заметив, что гетман что-то хочет сказать. Но Мазепа, устремив проницательный взор на Полуботка, не говорил ни слова и, отворив уста, казалось, не хотел спустить слов с языка.
Двое умнейших и вместе хитрейших людей в Малороссии, знаменитой издревле искусством и ловкостью своих сынов в скрывании настоящих замыслов под личиною простодушия, Мазепа и Полуботок, с взаимною недоверчивостью в сердце, сошедшись наедине, после долгого несогласия, единоборствовали теперь оружием своего ума. Мазепа хотел уловить Полуботка в свои сети, а Полуботок, догадавшись с первого слова, что Мазепа не чужд распространяемых в народе козней, желал удостовериться в этом, чтоб погубить его в собственных его тенётах. Мазепа, заметив, что нерешительность его в ответе не ушла от внимания Полуботка, вдруг хватился за ноги свои, обернулся в одеяла и застонал:
– Прости, Павел Леонтьевич, что я слушал тебя рассеянно. Сколько я ни крепился, но не могу выдержать жестокой боли!
Полуботок хотел удалиться, но Мазепа удержал его и просил присесть. Молчание продолжалось несколько минут, наконец Мазепа сказал:
– Кто подбрасывает универсалы шведского короля, разыскать трудно! Его царское величество воюет с одною половиною Польши, а с другою находится в союзе. Проезд чрез Украину и даже убежище в ней невозбранны приверженцам короля Августа, и нам невозможно читать в сердцах и обыскивать всех пришлецов. Под именем друзей Августа, быть может, сюда заходят враги его. Но что касается до возмутительных песен, то нет сомнения, что они составлены у нас и нашими земляками, ибо вряд ли поляк в состоянии постигнуть все таинства нашего языка и передать чувства нашего народа. По песням можно бы было добраться до источника сего замысла, если бы всё войско было вместе. Но теперь это невозможно! Не помнишь ли ты хоть одной из этих песен или хотя несколько стихов?
Полуботок, не говоря ни слова, вынул из-за пазухи бумагу и, подавая Мазепе, примолвил:
– Вот знаменитая песня, которую поют все слепцы, все бродящие по Украине музыканты и даже многие казаки!..
Мазепа взял бумагу и, взглянув на неё, улыбнулся и сказал:
– Эта песня давно мне известна! Её представили царю Искра и Кочубей при своём доносе и уверяли, что я сочинил её для посеяния в народе возмутительных правил!..
Полуботок не знал подробностей доноса Искры и Кочубея, а потому и не мог догадываться, что песня сия была уже представлена царю и приписываема Мазепе. Выпытывая слепцов и музыкантов, чрез своих приближённых, Полуботок нашёл след и узнал, что песня сия вышла из батуринской красной корчмы, от перекрёста, покровительствуемого Мазепою, а потому слова гетмана поразили Полуботка и почти объяснили то, о чём он прежде догадывался.
– А что, Павел Леонтьевич, песенка, право, хорошо сложена? – сказал Мазепа будто в шутку. – Как тебе нравятся, например, вот эти стихи: «Жалься Боже Украины, что не вкупе мает сыны. Еден живёт и с поганы, кличет сюда атаманы, идём матки ратовати, не даймо ей погибати! Другий ляхам за грош служит, по Украйне и той тужит. Третий Москве юже голдует, и ей верне услугует...»
Мазепа перестал читать и смотрел с простодушною улыбкою в глаза Полуботку, как будто ожидая ответа. Полуботок молчал и покручивал усы.
– Ну что ты скажешь об этих стихах, Павел Леонтьевич?
– Песня сложена складно, но здесь кстати вспомнить московскую пословицу: «Не всё то правда, что в песне говорится». Грешно и стыдно тем, которые живут с поганы и служат за гроши ляхам. Но долг, присяга и благо нашей родины повелевают нам служить Москве и служить ей верно, потому что Украина не может быть независимым царством, и если б, в наказание за грехи наши, Господь Бог отторгнул нас от единоверческой России, то мы впали бы или в турецкую, или в польскую неволю.
Мазепа покачал головою и сказал:
– Что ты это толкуешь, умная голова! Украйна не может быть независимою! А Молдавия, а Волошина разве лучше Украйны!
– Не дай Бог такой независимости, как независимость этих несчастных стран, сжатых между сильными и хищными соседями и обязанных беспрерывно то биться с ними, то служить им, то откупаться от беды! Мы народ русской крови и русской веры и наше счастие в соединении с Россией...
– Так зачем же ты так часто жалуешься и скорбишь на нарушение прав и привилегий, Павел Леонтьевич? Ведь в этом виновен не я, ваш гетман, верный сын Украйны... Понимаешь ли меня, Павел Леонтьевич, в этом виновен не я, Иван Мазепа, готовый пролить последнюю каплю крови за права и привилегии наши!
– Права и привилегии наши надобно беречь как зеницу ока, – сказал Полуботок с жаром. – За это я охотно положу свою голову!
– Ну, а в песне только этого от нас и требуют! – подхватил Мазепа с радостью.
– Ведь это то самое, только в стихах, что ты сказал мне пред этим, Павел Леонтьевич, и другой, слушая тебя, подумал бы, что ты сам сложил песню, – примолвил Мазепа, захохотав притворным смехом.
Полуботок, хотя чувствовал настоящий смысл гетманских слов, но притворился также, что принимает их в шутку.
– Правда, ясневельможный гетман, что права паши надобно защищать, не жалея жизни, и, не опасаясь преследования и опалы, говорить правду. Но я не понимаю, о каких врагах говорится в песне, с кем советуют сражаться и кого бить?
– А, ты не понимаешь этого в песне? – возразил Мазепа, посмотрев с лукавою усмешкой на Полуботка. – Мне кажется, что врагами называют тех, которые нарушают права наши...
– Теперь понимаю! – сказал Полуботок, погладив усы и опустив голову.
– Дай Бог, что Господь вразумил тебя, Павел Леонтьевич! – примолвил Мазепа, приняв важный вид. – На таких людях, как ты и как я, лежит тяжкая ответственность пред Богом за благо народа, над которым мы поставлены. Скажи мне, Павел Леонтьевич, хочешь ли ты искренно помириться со мной?
– Вы не можете сомневаться в этом, ясневельможный гетман!
– Дай же мне руку! – примолвил Мазепа, взяв за руку Полуботка и пожав её крепко. – Ты невзлюбил меня, воображая, что я по собственной воле нарушаю права наши. Я докажу тебе противное, только чур не выдавать! Помни слова песни: «Озметеся все за руки!» Только будь послушен, а не далее как чрез месяц ты будешь генералом, графом, если угодно тебе, и сам выберешь для себя маетности, какие захочешь!..
– У его царского величества есть люди, оказавшие ему более услуг, нежели я, и имеющие более прав на столь высокие милости! – отвечал Полуботок, кланяясь.
– Не в этом дело, братец! – возразил Мазепа, нахмурив брови. – Всё, чего только ты можешь желать, в твоей собственной воле. Только будь послушен мне и служи верно Украйне.
– Я никогда не был ослушником ваших приказаний и никогда не изменял пользам моего отечества...
– Это мы увидим! – сказал Мазепа и снова стал гладить свои ноги, будто чувствуя боль, а в самом деле для того только, чтоб пресечь разговор, которого продолжение он почитал излишним.
– Он хочет поговорить с вами, ясневельможный гетман, насчёт бывшей драки в красной корчме и о задержании казаков моего полка...
– Вели всех выпустить из тюрьмы. Это дело пустое, и теперь не та пора, чтоб заниматься разбирательством ссор между пьяными казаками...
– Но я думаю, что для прекращения подобных беспорядков не худо было бы выслать не только из Батурина, но даже из Украйны людей подозрительных, о которых идёт молва, будто они польские шпионы... – сказал Полуботок, не спуская глаз с гетмана.
– А кого же ты подозреваешь, Павел Леонтьевич? – спросил Мазепа.
– Более всех Марью Ломтиковскую, которая то сама отлучается в Польшу, то переписывается чрез нарочных.
– Мы сошлись в мыслях! Я тоже сильно подозреваю её и уже отдал приказание выслать её отсюда, – сказал Мазепа. – Прошу тебя, говори мне всегда откровенно, что ты думаешь: я всегда готов следовать твоим советам...
В это время вошёл слуга и доложил, что генеральный писарь просит позволения войти. Мазепа взял за руку Полуботка и, пожимая её, сказал:
– Озметеся все за руки! От сего часа я твой верный друг, Павел Леонтьевич, и докажу тебе это на деле, ибо убеждён, что никого нет в Украйне достойнее тебя занять моё место.
– Много милости! – прошептал Полуботок и, поклонившись низко, вышел за двери, убедившись совершенно, что Мазепа замышляет измену. Полуботок не прельстился пышными обещаниями Мазепы и притворною его дружбою и не увлёкся его ласкательствами. Не имея никаких ясных доказательств к уличению Мазепы в его замыслах, Полуботок не смел обнаруживать явно своих подозрений, а тем более доносить. Он решился немедленно отправиться в свой полк и ждать происшествий. Мазепа также не был уверен, чтоб он мог преклонить хитрого Полуботка на свою сторону сладкими речами и обещаниями, но ему хотелось испытать его и на всякий случай бросить в душу его искры честолюбия, раздражая в то же время главную страсть его, привязанность к правам отечества. Только Орлику и Войнаровскому открыл вполне свои замыслы. С другими старшинами войска он поступал так, как с Полуботком, действуя с каждым сходно его образу мыслей, способностей, надежд и желаний и представляя каждому свои замыслы под полупрозрачным покровом.
Орлик, отдав отчёт в своих распоряжениях касательно приготовлений к походу, сказал:
– Мне кажется, что теперь надлежало бы приласкать несколько полковников, прежде нежели вы заблагорассудите открыть им дело. Особенно надобно приласкать тех, которые преданы вам. Некоторые из них уже представляли, неоднократно, свои просьбы. Вот, например, преданный вам Чечел, уже около года как просил о пожаловании ему войсковой деревни, прилежащей к ранговой его маетности.
– Умный ты человек, Филипп, и я люблю тебя, как родного сына, а должен сказать тебе, что в некоторых делах, а именно в управлении машиной, составленною из голов и сердец человеческих, ты часто делаешь промахи. Знаешь ли ты, в чём состоит счастье человека? В надежде, любезный друг! Каждый человек скоро привыкает к тому, что имеет, и всегда стремится душою к тому, что представляет ему надежда. Правитель должен искусно пользоваться этою общею слабостью рода человеческого и, представляя каждому из слуг своих целый океан благ в будущем, изливать на всех, только по капельке, благодетельную росу, чтоб гортань не засохла вовсе от жажды. От того, кто желает и надеется, можно всего требовать и ожидать, а тот, кто получил желаемое, хочет отдыхать, как путник после трудного пути или работник после тяжкого труда. Благодарность – прекрасное чувство, но оно пламенно на словах, а весьма неповоротливо в деле. Одним словом, необходимое в настоящем и надежда в будущем, вот две пружины, которыми правитель может двигать сердца в свою пользу. Помни это, любезный мой Филипп, и удостоверься теперь, какую доверенность имею я к тебе и какую участь тебе готовлю, открывая правила, стоившие мне долгих размышлений и опытов. Итак, льсти старшинам и полковникам и обещай им всё, чего они желают и надеются, давая притом чувствовать, что одна помеха к исполнению есть воля царя.
Орлик не отвечал ни слова и, казалось, рассуждал о слышанном.
– Здесь ли Мария? – спросил гетман, по некотором молчании.
– Насчёт этой женщины я хотел бы также представить вам некоторые замечания, – возразил Орлик. – Вы хотели отправить её в Петербург, вероятно, с важным поручением. Можно ли надеяться на женщину?.. – Орлику, находившемуся в любовных связях с Марией Ивановной Ломтикотзской, не хотелось с ней расстаться, а потому он вознамерился отклонить предназначенное ей путешествие возбуждением подозрения в гетмане.
– Будь спокоен! – сказал гетман. – Поручение её не касается нашего общественного дела... Позови её, а сам останься в канцелярии и изготовь подорожный лист для неё и подарки для моих приятелей в Петербурге.
Орлик вышел, и через несколько минут явилась Мария. Мазепа приветливо улыбнулся и, покачав головою, сказал:
– Чудная ты женщина, Мария! Вместо того, чтоб стареть, ты всё становишься прекраснее. Я, право, боюсь, чтоб в Петербурге ты не вскружила всех голов...
– Тем лучше будет для вас, – отвечала Мария шутливо. – Я заставлю их преклониться пред вами.
– Спасибо и за доброе желание, – сказал Мазепа, – а что я не сомневаюсь в твоей дружбе, – примолвил он, взяв её за руку, – это я докажу тебе теперь. Дело, которое я поручаю тебе ныне, составляет величайшую для меня важность. Орлик уже сказал тебе, что Наталия – дочь моя. Неопытность и злые советы вовлекли её в постыдную страсть к этому бродяге, которого я лелеял в моём доме, к палеевскому казаку Огневику. Он теперь находится в Кронштадте, на Галерном флоте... Мария... друг мой... избавь меня навеки от этого человека!
Холодный трепет пробежал по всем жилам Марии. Мазепа заметил её смущение.
– Ты побледнела, Мария! Что это значит?
– Я не знаю, чего вы от меня требуете... Не понимаю вас! – отвечала она с Притворным хладнокровием. – Начало вашей речи смутило меня...
– С твоею твёрдою душою стыдно смущаться! Неужели ты не в силах раздавить червя, убить змею? А враг наш хуже, чем змей, и ничтожнее, чем червь!..
– Итак, вы поручаете мне убить Огневика? – сказала Мария, едва преодолевая внутреннее движение.
– А разве ты не в состоянии выполнить это поручение, для счастия, для спокойствия твоего друга, твоего любовника? Мария! Вот лист белой бумаги, подписанный мною. Пиши сама, чего требуешь за свой великодушный подвиг. Я на всё согласен.
Мария подошла к столу, взяла бумагу и изодрала её в куски, сказав:
– Вы обижаете меня! На что я решаюсь из дружбы, того не сделаю за миллионы!
Мазепа бросился ей на шею и прижал её к сердцу, восклицая:
– Друг мой, моя добрая, моя милая Мария! Никогда не забуду тебя, никогда не оставлю тебя! Отныне я твой – как был в первый день нашей любви.
Сняв с руки своей драгоценный перстень, Мазепа надел его на палец Марии, примолвив: – Да послужит он символом сочетания душ наших!
Мария, притворяясь тронутою внезапным порывом прежней любви гетмана, рада была, что могла прикрыть мнимою чувствительностью смятение, произведённое в ней сею ужасною доверенностью и гнусным поручением. Мазепа отпер шкаф, вынул небольшую серебряную коробочку и, подавая её Марии, сказал:
– Здесь сокрыта – смерть!
Протянув руку, Мазепа замолчал и смотрел в глаза Марии.
– Учить учёного, только портить, – примолвил Мазепа, – тебе легко будет сойтись с моим злодеем и попотчевать его от меня – этим лакомством. Действуй по уму своему и по обстоятельствам.
Мария, не говоря ни слова, взяла коробочку с ядом.
– Теперь прощай и ступай с Богом! – сказал Мазепа, обняв Марию и поцеловав её. – Помни, что отныне – я снова повергаюсь к ногам твоим!.. Орлик выдаст тебе деньги и бумаги!
Мария вышла, но она была в таком положении, что должна была отдохнуть и успокоиться с полчаса, в саду, прежде нежели осмелилась показаться в люди. Орлик удивился, увидев её. Она была бледна и расстроена. Тщетно он расспрашивал её: она не открыла Орлику тайны своего поручения и в ту же ночь отправилась в путь.