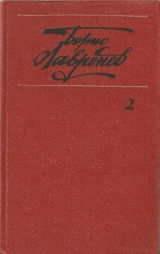
Текст книги "Собрание сочинений. т.2. Повести и рассказы"
Автор книги: Борис Лавренев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 42 страниц)
– Хорошо, – сказал человек, обдав коменданта брызгами белого огня стекол. – Переписать и к вечеру доставить под конвоем в казармы гвардейского экипажа.
Распорядившись, человек в очках прошел по всему помещению арестного дома, приглядываясь к мелочам с мимолетным, но острым вниманием.
Открыв дверь в ванную, он увидел облака опалового тумана, и стекла очков завуалились тончайшей росой.
– Прачечная? – вскинул человек потускнелый взблеск на коменданта. – Это прекрасно. Благодарю за инициативу, товарищ. У вас первого вижу.
Комендант приложил руку к козырьку и нетерпеливо, стараясь еще больше поразить начальника, скороговоркой доложил:
– Разрешите доложить, товарищ комиссар. Прачечная не чудно, а прачка у нас чудная. В штанах и бывший генерал. Бывший генерал. Бывший профессор даже. И такой старик старательный и хороший, ровно и не буржуй.
Комиссар, сощурив один глаз, со странным выражением оглядел коменданта и, ничего не ответив, резко рванул дверь в ванную. Евгений Павлович обернулся и смахнул с рук пену.
Человек в очках подошел вплотную.
– Простите, вы бывший генерал? – спросил он вежливо.
Евгений Павлович, словно сомневаясь в ответе, ответил не сразу. Он обтер ладони о штаны и вздернул бородкой.
– Да.
– Какой пост вы занимали в старой армии?
– Я нестроевой. Я профессор истории права в Военно-юридической академии, – стесняясь и потупясь, вымолвил Евгений Павлович.
Человек в очках повернулся к коменданту и молча опалил его очками. Несмотря на росу на стеклах, они блеснули страшно, и комендант попятился. Но человек не сказал коменданту ни слова. Он взял Евгения Павловича под локоть.
– Вас не затруднит, генерал, если я попрошу вас проехать со мной на машине в штаб обороны?
– Зачем? – спросил осторожно Евгений Павлович.
– Я объясню вам подробно на месте. А пока задам вам короткий вопрос. Наша республика, – он подчеркнул коротко и отрывисто слово «наша», – отбивается от белых орд. Сейчас не время для принципиальных споров, счетов и обид. Сейчас все, в ком живая душа, должны быть с нами. У вас есть знания. Хотите помочь нам?
Генерал молчал. Комендант незаметно подтолкнул его сзади и сделал сердитый знак глазами. Евгений Павлович тихо засмеялся и сказал:
– Если я могу быть полезен…
Спустя короткое время генерал погрузил свой сундучок в автомобиль комиссара. Он остался в прачечной гимнастерке, но сверху надел генеральскую шинель. Другой у него не было.
Человек в стеклах улыбнулся.
– Дорогой генерал, – обронил он, – закройте ваши «революционные» отвороты. Время тревожное, и мою машину могут обстрелять на улице с таким пассажиром. Мы постараемся одеть вас по-современному.
Человек в очках нахлобучил шапку и молчал, закрывая рот от ветра. На повороте какой-то улицы он приоткрыл рот и спросил:
– Вы сколько времени пробыли… прачкой?
– Около года.
– Почему же вы не пытались найти себе какое-нибудь более подходящее занятие, никому не жаловались, не заявляли?
Генерал смотрел на мелькание ощетиненной улицы. Мимо застопорившей машины, лихо распуская волны клешей и пену кудрей из-под бескозырок, шел отряд матросов. Они топали бутсами и пели:
Эх, яблочко, да от Юденича,
На матроса попадешь – куда денешься?
Мотив завивался вместе со снегом над улицей упрямым вихром. Генерал проводил матросов взглядом и уже тогда ответил комиссару:
– Вы, может быть, не поверите, но я первый раз в жизни чувствовал себя по-настоящему нужным.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Петроград бросал в бой отряды, полки и дивизии, как радиостанция бросает волны в эфир. Отряды, полки и дивизии обрушивались на противника частыми, но слабыми толчками. Радиостанция войны работала на короткой волне, наспех собирая атомы человеческой энергии.
Ударив противника, части откатывались назад, истекая кровью и глуша город слухами о поражениях и разгромах.
Притекали новые части и так же, нанеся короткий и слабый удар, отваливались, обессиленные голодом, отсутствием снаряжения и патронов, шипящей вражеской пропагандой, свивавшейся на всех углах, как клубки серых змей.
По растрепанным, промоченным лошадиной мочой и навозом, взбухшим большакам и заснеженным проселкам валялись дохлые лошади, брошенные, разломанные повозки, перевернутые вверх колесами пушки.
На взлете горы за Гатчиной уже три дня как уныло висел, завалясь набок, облупленный броневик. Возле него беспрестанно возились механики с изломанными молотками и выщербленными клещами, посылая проклятия насмехающемуся распухшему времени, катящемуся над полями и городами.
Жизнь нельзя было угасить ничем. Она клокотала и бурлила по дорогам, под разнузданные грохоты пушек. Она смеялась над лопающимися от свинцовых плевков пулеметами, хотевшими выбить эту жизнь кровью и хрустом костей.
И не на плакате, а на широких плечах, далеко за огненной страдой фронта, хмурилось бульдожье лицо генерала Юденича. Генерал хлестал нагайкой крутые бока белого коня и яростно колол его шпорами.
Генерал был похож на время. Он был так же тучен и злобен. Он хотел раздавить жизнь, воплотившуюся перед ним в армии противника. В этой странной армии все было непонятно генералу Юденичу.
Вместо шелковых и парчовых полотнищ, расписанных радужными крестами и сдобренных густой сусалью тяжелого блеска империи, знаменами этой армии служили красные ситцевые платочки выборгских и василеостровских работниц, которые стояли наравне с мужьями, братьями и любовниками в рядах накатывающихся на генерала Юденича отрядов.
Эта армия не устраивала парадов, торжественных шествий в завоеванных городах, не служила молебнов и благодарственных литий на еще окровавленных боем площадях, – но молчаливо, судорожно сжав челюсти и винтовки, лезла вперед, и в глазах падающих бойцов этой армии и после смерти можно было прочесть упрямое сожаление о том, что свинцовый кусок, пущенный белым солдатом, не дал возможности бойцу свидеться с генералом Юденичем.
И, смотря в такие глаза, генерал вздрагивал всей спиной и бульдожьими щеками при мысли об этом свидании.
И часто, въезжая в город на белом откормленном коне, он думал, разочарованный и недовольный, о муравьином упорстве и стоицизме этой жизни, стремящейся победить самое время.
Он думал о неблагодарности этой страны, которой вместо голода и муки рождения неизвестных благ в будущем он везет в своих крепко кованных обозах настоящую пышную белую муку и жирные ломти канадского прессованного масла. Вздымающиеся навстречу генеральскому шествию сотни тысяч рук не брали его муки, а отталкивали со злобой и презрением.
Этого генерал не в силах был осмыслить.
И вечером, читая штабные сводки, бегущие лиловыми взводиками по бумаге английского производства, гладкой и хрусткой, генерал Юденич зверел и пучил щеки. Короткие узловатые пальцы бешено сминали британский пергамент. Генерал Юденич звал начальников штабов и хриплым фельдфебельским басом требовал усилить напор, чтобы сломить непонятное упорство защитников Петрограда.
Звенели в эфире радиограммы, и наутро полки с прославленными двухвековой историей российской победоносной армии именами кидались в отчаянные атаки, затягивая петлю вокруг леденеющего города, и уже шрапнели визжали над царскосельскими и гатчинскими парками, и прицелы пушек щупали кирпичные трубы окрестных заводов.
Штаб дивизии разбросался по избам одной из Екатериновок. Русские императоры и императрицы понатыкали по всей питерской округе эти бесчисленные тезоименитые царственным особам поселки, словно незаконнорожденных детей.
Шрапнели накатывались все ближе и ближе на Екатериновку, звенели низко и пронзительно, вспарывали снег свистящими пульками.
По шоссе, мимо сваленной, словно карточный домик, будки шоссейного сторожа, нахлестывая лошадей, улепетывали выбивающиеся из сил обозы продчасти дивизии. Продуктов в них не было и следа. Вожатые обоза навалили телеги доверху никому не нужным барахлом: горшочками со сломанной и замерзшей геранью, раскоряченными деревенскими стульями и диванами, перинами, кроватями.
На одной из повозок тряслась увязанная стоймя мраморная нимфа, очевидно взятая из какого-нибудь дворцового сада.
Ее вытянутая тонкая рука, с пухленькими пальчиками куртуазной бездельницы восемнадцатого века, вскидывалась в небо при каждом ухабе дороги, и со стороны казалось, что нимфа летит над телегой, благословляя это рачительное и хозяйственное бегство.
Шрапнели ложились все ниже и гуще, и вот на шоссе между скачущими телегами взметнулся огневой фонтан гранаты. Скакавшая телега перевернулась. Колеса ее пусто и ухмылочно завертелись в воздухе. Она грохнулась на спины лошадей, давя и круша их. Задняя телега с нимфой налетела на опрокинутую.
Дым взрыва медленно растаял. Нимфа все качалась лад телегами, но уже без руки. Грудь ее и лицо были густо залиты алой струей, и вокруг шеи, как боа, завернулась лошадиная нога.
Из далекого перелеска поползли задом по снегу серые раскоряки. Отходила под обстрелом белых последняя цепь прикрытия штаба дивизии.
На крыльцо штаба вышел начдив и поднял к глазам бинокль. Его обеспокоил обстрел, но он ничего не знал о действительном положении. Связь телефонила, что все благополучно и белые сдерживаются резервами.
Бинокль не успел подняться и упал, закачавшись на ремне.
Начдив сорвал с головы шапку, шарахнул ее о крыльцо и выругался короткой, стреляющей бранью. Он рванул дверь избы и крикнул:
– Все наружу! Живо! Кидай писарскую муру ко всем собакам. Тащи пулеметы на улицу. Прикрытие отрезали.
Из сутулой двери, гудя и топоча, роем выгнанных дымом пчел, выкарабкивались сотрудники штаба с винтовками. В дверях сбился человеческий клубок. Тогда те, которые внутри были заняты пулеметом, не захотели ждать, пока умнется людская давка в дверях. Они подкатили пулемет к окну, приподняли оскаленную машинку рылом вперед и, раскачав, саданули ею в переплет рамы. Рама с треском, звоном и ржавым скрипением петель вывалилась, и пулемет мягко съехал в сухие кусты черемухи под окном.
Начдив размахивал наганом у крыльца.
– В цепь! В цепь, боженята! Сыпь к лесу на подмогу прикрытию! Пулеметчики, пристраивай мопса на околицу! Вертись, расторопные. Живо!
Он побежал за развертывающейся ровной линеечкой поперек улицы цепью и на бегу заорал, сложив ладони рупором, обертываясь назад:
– Гре-е-бенков!.. Пошли на край сказать трибуналу, чтоб катились к божьим родичам. Некогда судить. Арестованных пусть кончают, а сами драпают во весь дух.
Начальник штаба ткнул в спину красноармейца в желтых, расписанных анилиновыми цветами валенках и показал на край деревни. Красноармеец побежал по мелкому снежку, переваливаясь и подкидывая на бегу винтовку.
Он подбежал к избушке с кирпичной стеной. На крыльце сидел карликовый, весь в узоре ласковых рябинок, красноармеец и, потыкивая штыком в стороны, сдерживал толпившуюся кучу финских мужиков.
– Не лезь!.. Засудят зараз вашего кулака и кашей накормят… Горошком свинцовым.
Мужики молчали и следили за красноармейцем притаенными, зверьими, тупыми и страшными глазами.
– Кимка! – крикнул, подбегая, красноармеец в желтых валенках. – Вы тут очумели? Кончай базар! Начдив приказал. Обходят кадеты.
Рябой Кимка равнодушно показал штыком на финнов.
– Погляди. Ежели лезть будут – пори брюхо, – сказал он флегматично и ушел в избу.
Финны прислушивались. В избе глухо, словно в подушку, лопнул выстрел. Финны залопотали, и красноармейцу стало жутко. Вслед за выстрелом вышел, застегивая кобуру, председатель трибунала, долговязый, сутулый человек. Губы у него дергались.
– Пошли вон! – закричал он на финнов. – Вон, а то всех перешибу, кровоглоты!
Мужики метнулись от избы: хвостики их шапок замелькали за заборами и деревьями. Красноармеец в крашеных валенках, выскочивший следом за председателем трибунала, заправил пояс с новенькими подсумками потуже на животе и побежал догонять цепь начдива.
– Передай начдиву, что пойдем на Антропшино, – крикнул вдогонку председатель трибунала.
Трибунальщики столпились у крыльца. Сухонький старичок в мятой, но аккуратно пригнанной шинели, в налезающем на уши шлеме вышел из избы последним и из-за спин других глядел на перебегающую огородами цепь начдива, подергивая колючей серебряной щеточкой бородки.
– Ну, товарищи, айда, – сказал председатель трибунала и тронулся по улице.
За ним нестройной гурьбой поплелись трибунальщики.
Они приближались уже к последним избам села. От них широкая аллея входила прямо в лесок. И вдруг из леска, как выбегают на межу за колосьями зайцы, высыпалось полсотни всадников в стальных немецких шлемах.
Это были кавалеристы полковника Бермонта-Авалова, полковника, продававшего свою шпагу, честь и подданство и за немецкие марки, и за русские рубли, и за английские фунты.
Кавалеристы скакали вразброд. Обнаженные шашки бледно серебрились в заснеженном воздухе.
Председатель трибунала остановился и нервно вырвал револьвер из кобуры.
– Рассыпайся! Беги кто куда, задворками, по огородам. Кто уйдет, пробирайся поодиночке на Антропшино.
Кучка людей растаяла и рассыпалась.
Председатель стал за ствол столетней липы и, упирая револьвер в корявый нарост коры, неторопливо подцепил на мушку скакавшего впереди кавалериста. Он успел выстрелить пять раз, пока налетевшая лошадь не придавила его боком к дереву, и опустившаяся шашка, раздвоив шлем, оставила на лбу председателя трибунала глубокую щель.
По огородам, прыгая и перелезая через заборы, бежали трибунальцы, отстреливаясь. За ними гонялись всадники.
Красноармеец в ласковых оспенных рябинках и сухонький старичок в налезающем на уши шлеме подбегали уже к опушке леса. Сзади, тяжело хрипя и отбивая чечетку подковами, настигала шестивершковая пегая лошадь. Красноармеец остановился и вскинул винтовку. Плеснул грохочущий желтый язычок, и всадник кулем ссунулся на землю. Лошадь набежала на красноармейца и остановилась. Он схватил ее за повод и обернулся к старику.
– Товарищ следователь, лезайте, а я позади вас. На коне способней.
Он посадил старика и вскарабкался сам. Лошадиный круп мелькнул между лесной порослью и скрылся.
Всадники, окончив гонку за трибунальцами, скакали уже в тыл цепям.
И когда они выскакали в поле, к трупу председателя, раскинутому под липой, медленно, поодиночке, как волки к падали, стали собираться разогнанные мужики-финны. Они постояли несколько секунд молча и вдруг, словно сговорясь, стали топтать труп добротными, подбитыми кожей валенками.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
– Не иначе как заплутались. Ишь какая мгла! Ни черта не видать. Придется до утра перемаяться под кустиками.
Евгений Павлович из-под руки вгляделся поверх лохматого кустарника, прикрывающего опушку. За кустарником, шагах в двадцати, блеклая полоса снега чернела и обрывалась в непроглядную пустоту, от которой веяло холодом и одиночеством. В этой вороненой пропасти по временам искрилась какая-то блесткая точка.
– Как будто огонек вон там, Рыбкин, – сказал Евгений Павлович голосом, потеплевшим от надежды.
Красноармеец вгрызся взглядом в тьму и покачал головой.
– Не. Мережится это. С устатку да с голоду. А коли б и на самом деле – все едино, товарищ Адамов, не след до утра соваться. Напоремся на белугу. Н-но!.. Балуй, черт офицерский! – крикнул он на пегую лошадь, дернувшую повод.
– Что же делать? – спросил уныло Евгений Павлович.
– Да одно осталось – податься в чащу. Коняку положим, сами к ней к пузу примостимся, чтоб не простыть, – так и заночуем.
Евгений Павлович пошел следом за Рыбкиным и лошадью, трудно поднимая с земли коченеющие ноги.
Рыбкин выбрал место, где кусты сошлись в кружок, протащил лошадь внутрь, ломая ветки, и, похлопав ее по коленям, заставил лечь. Уложив лошадь, окликнул:
– Идите, товарищ Адамов. Лягайте под самое брюхо, приваливайтесь, а ноги кладите ей на шулятики. Буде тепло, что на печке.
– А ты? – спросил генерал.
– А я тоже сбочку привалюсь. Нам привычно.
Евгений Павлович улегся. От лошадиного мерно вздымающегося живота сквозь шинель дошло мягкое, разнеживающее тепло.
Над головой сухо звенели промерзшие веточки. Облака в небе бежали, торопясь и разрываясь; промежду них выскакивали и гасли мерцающие лиловатые звезды.
Рыбкин зашевелился и приподнял голову.
– Ясняет, – сказал он тихо, – звездочки видать. – И, помолчав, добавил: – Вот берет меня интерес узнать, чи есть бог, чи на самом деле один воздух? Вы вот, товарищ Адамов, науки знаете – объясните.
– Ты же большевик? – ответил генерал с ласковым удивлением.
Рыбкин засмеялся.
– А как же. Билет имею по форме.
– Значит, ты не можешь верить в бога.
– Оно, конечно, – ответил красноармеец. – А только все одно: смутно нам как-то без бога. Хрестьяне мы. Неужто так нельзя, чтоб божецкую правду и большевицкую правду вместе собрать?..
Дремота ослепляла веки Евгения Павловича. С шепотом Рыбкина сливался промерзший звон веточек. Сквозь дремоту ответил:
– Правда всегда одна, Рыбкин. Всегда одна. Только нужно каждому уметь познать правду. Об этом трудно рассказать. И совместить можно. Нужно только верить, что правда, за которую стоишь, – настоящая и единственная.
Рыбкин зашевелился, прикрывая рваными полами шинели ноги, и похлопал с мужицкой лаской по брюху завозившуюся лошадь.
Она стихла. Рыбкин сказал:
– И, по-моему, очень даже можно. Мы, конечно, мало чему учены. За медную полушку писарь по складам читать обучил. А вот, коли почитать, скажем, Евангелие и, допустим, партейную программу, то видать – что по писанию, что по программе – одинаковая правда. И Христос для бедных трудящихся старался, и большевики об том же страдают. А что церква за богатых заступой стала, так в том попы повинны. Попы тоже человеки, греху подвержены.
– Да, – односложно ответил Евгений Павлович.
– Видать, сон вас долит, товарищ Адамов. Спите. Авось завтра выберемся. А не выберемся, так вам с полбеды, зато мне беда…
– А почему мне полбеды? – оживился Евгений Павлович, приоткрывая глаза.
– В рассуждении кадетов. Вас-то простят, как вы генеральского чина; а Рыбкина, мужика, – пожалуйте под машинку.
– Глупости говоришь, Рыбкин. Одинаково скверно будет и тебе и мне. Ну, давай спать!..
– Спокойной ночи, товарищ Адамов, – вздохнул красноармеец.
Евгений Павлович прижался плотнее к лошадиному брюху. Сквозь пленку дремы подумалось о словах Рыбкина, и генерал представил себе встречу с белыми. И неожиданно почувствовал испуг и томительное отвращение. Чтобы отделаться от этой мысли, надвинул шлем на глаза и уткнулся носом в лошадиную шерсть.
– Вставайте, товарищ Адамов. Идтить пора. Светает.
Сквозь сон генерал почувствовал осторожные подергивания за плечо и раскрыл глаза. Оспенные рябинки со щек Рыбкина ласково усмехались ему.
– Заспались. Мне и то жаль вас будить было, да надо.
Евгений Павлович наскоро вытер лицо снегом и вскарабкался на лошадь.
Рыбкин потянул за повод.
– А ты что не садишься?
– Лошадь ослабла. Двоих не свезет. Да идти-то уж недалеко.
И красноармеец зашагал по снегу, ведя лошадь.
За опушкой, где вчера видели только черный провал, лежала ровная белая полянка. Она опять замыкалась редким березняком. Пройдя березняк, Рыбкин остановился.
– Глядите, деревня, – сказал он смешливо, вытягивая туда палец. – Знать бы, так не пришлось бы в лесу мерзнуть. Только вот чия? Наша иль ихняя?
Он пролез в кусты, присел на корточки, долго вглядывался из-под руки и с радостным лицом повернулся к генералу.
– Наша. Красный флаг над избой. Повезло-таки. Ходим скорей!..
Он опять ухватился за повод лошади и вприпрыжку побежал по снегу, волоча винтовку. Уже у самых строений, навстречу из-за избы, высыпала куча солдат, несущих длинное бревно.
– Товарищи! – заголосил Рыбкин. – Ребяточки! Подмогите!
Солдаты услышали крик, бросили бревно, выпрямились и обернулись. Рыбкин громко охнул и осел. На плечах солдат он различил красные лоскутки погон. Рыбкин метнулся к Евгению Павловичу.
– Белуга!.. Гоните в лес, а мне все одно пропадать. Я их попридержу! – крикнул он, припадая на одно колено и вскидывая винтовку.
Генерал повернул лошадь и тронул ее шенкелями. Но усталое и голодное животное, почуявшее запах еды и стойла, заупрямилось. Генерал оглянулся. Солдаты бежали от изб. Рыбкин яростно дергал затвор и, завыв, отшвырнул винтовку в сторону.
– Примерз затвор! – крикнул он. – Один конец, монумент ихней матери в глотку!
Солдаты набежали. Генерал увидел, как трое навалились на Рыбкина. Двое подбежали, ухватили за повод и грубо сдернули Евгения Павловича на землю. Скрученного поясом Рыбкина подняли с земли. По губе у него стекала струйка крови. Он молчал. Его подвели к Евгению Павловичу и поставили рядом. Рослый солдат с нерусским лицом подошел к Евгению Павловичу и, заглянув в лицо, сильно рванул за бородку.
– Штарый шволичь, – сказал он, сплюнув, – пешок шыпет, а балшивик.
Другой солдат, засмеявшись, ударил Евгения Павловича в бок прикладом рыбкинской винтовки. Евгений Павлович шатнулся и жалко, по-детски, ойкнул.
И тогда от жалости или от растерянности, но вырвалось у Рыбкина от сердца негаданное слово:
– Не трожьте, гадюки, старичка. Ваший он. Из генералов.
Солдаты переглянулись. Рослый, с нерусским лицом, насупясь, покраснел и, скрывая смущение, прикрикнул:
– Форвертс! Марш на штаб!








