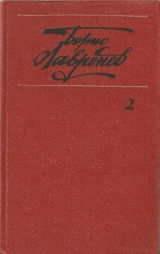
Текст книги "Собрание сочинений. т.2. Повести и рассказы"
Автор книги: Борис Лавренев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 42 страниц)
Он оглянулся. Позади его догоняли Блиц с Марковым, спокойно разговаривая.
«Ну и чудесно, – подумалось Мочалову, – может быть, все уладится. Снимать Маркова с полета было бы так же тяжело, как выгнать из дома старшего брата».
Девиль, свезший Маркова на стенку, пригреб на своем тузике к самолету Мочалова.
– Э, Митчелл! Алло! – позвал он, просовывая голову в дверь кабины.
Пит оглянулся:
– В чем дело?
– У вас все готово?
– Все.
– Тогда давайте закусим. Хозяева тоже ушли позавтракать. Нам с вами уже не удастся плотно перехватить. У вас есть закуска?
– Да! Сандвичи и всякая мелочь.
– И у меня. Кроме того, у меня кофе в термосе, так что у нас будет королевское меню. Вылезайте и тащите ваш продуктовый магазин.
Пит вылез и уселся на дороге люка. Девиль разлил кофе в алюминиевые кружки. Пит взял кружку, но не дотрагивался до нее губами. Он сидел, поджав ноги, и сосредоточенно смотрел на носки своих ботинок.
– Что вы так разглядываете свои сапоги, Митчелл? – спросил Девиль. – Не думаете ли вы, что они из золота?
– Нет, – Пит оторвался от задумчивого созерцания, – я думаю об одной вещи, которую никак не могу понять.
– А именно?
– Минут пятнадцать назад, когда я работал с мотором, мне послышались на набережной крики и какой-то шум. Я выглянул наружу и увидел, что командор Мошалоу насел на другого пилота и тузит кулаками.
– О-ээ! – произнес Девиль, переставая жевать сандвич. – Они подрались?
– Они валялись по земле, один на другом, и на моих глазах командор Мошалоу прижал этого маленького, с зелеными глазами, и притиснул его к земле. Естественно, я подумал, что они поссорились, и предложил командору позвать полисмена. Вообразите, он ответил, что это не драка, а шутка и еще что-то по-русски, чего я не понял. Я подумал – он врет от стыда, что я застал их драку. Но действительно они забавлялись, потому что через минуту разговаривали, как друзья.
– Что же, у них не все болты тут завинчены? – Девиль дотронулся до головы.
– Вот и я тоже подумал сначала. Это очень странно, что два взрослых пилота, перед вылетом в такую экспедицию, валяются по земле, как бешеные телята.
– Да, – ответил Девиль, – а впрочем… какое нам до этого дело? Пусть они ходят по земле хоть вверх ногами. Мне на это плевать. Я не имею никаких возражений, поскольку я получил все, обусловленное контрактом. А почему вас это волнует? Или вам недоплатили?
– Нет, – Пит отрицательно мотнул головой, – я тоже получил все. Да это, в сущности, меня и не беспокоит. Вот если они затеют такую возню в воздухе, тогда я соображу – продолжать мне эту игру или нет. Но меня занимает другая сторона происшествия. Я не стар, но кое-что на своем веку повидал. Главным образом, я видел людей. Мне приходилось встречаться со всякими нациями. Я знавал китайцев, французов, итальянцев, немцев. Вы знаете, этих людей немало в Америке. И понимаете, что меня удивляло. Люди называются по-разному, и несмотря на это, немца трудно отличить от японца и японца от неаполитанца.
– Ну, джапа я отличу за километр, – заметил Девиль.
– Снаружи, конечно. Но я не об этом говорю. Суть в том, что люди разных наций разнятся только внешне. Разная форма глаз, носа, окраска кожи. В смысле же психологии я не знаю особой разницы между японцем и парижанином. Все равно как если вы возьмете доллар и двадцать франков. На долларе Вашингтон, на франках – мисс Франция. Разные рисунки на одинаковом серебре одной пробы. Средний японец думает и говорит о том же, что и средний немец. О выгодной работе, хорошей женитьбе, покупке фермы и сберегательной книжке. Вам приходилось когда-нибудь разговаривать с вашими знакомыми об архитектурных стилях?
– Я в них ничего не понимаю, – процедил Девиль, жуя ветчину.
– Но у вас и нет никакого желания их понимать. Вам просто некогда и не до архитектуры. Вам впору заработать на хлеб. Мы ничего не знаем, кроме нашего непосредственного ремесла. Это собачья старость, Девиль. А вот я смотрю на русских и вижу, что они не похожи ни на кого. Вчера я просидел три битых часа в номере у командора Мошалоу, где были все русские. Они говорили без умолку и ожесточенно спорили. А когда я спросил у командора, о чем разговор, – оказалось, что они спорили об американской архитектуре. Я мог предположить все что угодно, только не это. Как хотите, мне это непонятно.
– Ну, видите ли, все-таки русские полудикий народ, – снисходительно сказал Девиль.
Пит отмахнулся:
– Бросьте эти сказки. Если бы они спорили, какие кольца продевать в ноздри и куда вставлять павлиньи перья, я мог бы вообразить такую чушь. Но полудикие люди, которые три часа спорят об архитектуре, – извините, это вздор. В них, по-моему, есть то, чего нам не хватает, – молодость. Они, видимо, чертовски молоды, жизнерадостны и жадны на ощущения. Мне это нравится, но я хотел бы знать, откуда у них эта молодость?
Девиль небрежно скривился.
– Охота! Вы большой чудак, Митчелл! Вы начинаете закапываться в философию. Не советую. Это не по носу нашему брату. Кроме того, я слыхал, что один немецкий философ так углубился в решение вопроса о причине всех причин, что забыл принимать пищу и умер от истощения. С вами может случиться то же… Смотрите на жизнь проще. Русские щедро платят, и с меня этого хватает.
– Вы говорите как стандартный американец, – с неудовольствием сказал Пит.
– Я и есть стандартный американец. Это отличный продукт… Но вон подходят русские. Давайте убирать наш ленч и пожелаем друг другу счастливой дороги.
Пит встал. К самолетам приближались русские летчики в сопровождении своего советника и директора «Эйрвейс Комнани».
– Все в порядке, механики? – спросил со стенки командор Мочалов.
– Йес, – в один голос ответили Митчелл и Девиль.
– Отлично. Сейчас мы летим. Приготовиться к старту.
– Ну, товарищи, ни пуха ни пера, по охотничьему присловью, – пожелал юрисконсульт торгпредства, пожимая руки летчикам.
– Марков! На первом этапе поведешь ты, – сказал Мочалов, застегивая ремни шлема, – я пойду ведомым. Товарищи командиры, по самолетам!
Тузики в две очереди развезли команды. Мочалов сел на пилотское место. Саженко закладывал под сетку планшета карту первого этапа. Потом оглядел навигационные приборы, новенькие и блестевшие бронзой и никелем.
– Чистая работа, – сказал он и даже облизнулся от удовольствия.
Освобожденные от буйков и хвостовых швартовов, самолеты медленно отходили от стенки, отгоняемые легким ветерком. Митчелл сложил тузик, убрал трап и захлопнул дверцу кабины.
– Самолет готов, пайлот.
Мочалов поглядел в сторону соседнего самолета. В стекле кабины мелькнула поднятая рука Маркова, и Мочалов повторил жест.
– Контакт!
– Контакт!
Моторы взвыли. Завертевшиеся пропеллеры погнали назад упругую струю воздуха и водяной пыли. Самолет стал разворачиваться против ветра. На набережной юрисконсульт бежал, ловя катящуюся шляпу, сдутую вихрем винтов. Мочалов улыбнулся.
Глухой рев моторов перешел в пронзительно звонкий вопль на полном газу, и самолет Маркова, вздрогнув, побежал по воде. Мочалов подрулил ему в струю кильватера. Несколько секунд стремительного пробега – шипение воды под поплавками, плавное покачивание. И сразу привычное ощущение невесомой легкости, которое определяет отрыв от воды.
Описав широкую дугу в воздухе, синяя птица Маркова развертывалась к северу, с каждой минутой набирая высоту.
«Здорово ведет», – подумал Мочалов, оценивая мастерство товарища.
На вираже самолет накренило влево. Под собой Мочалов увидел нежно-голубой извилистый залив, воздушные очертания моста у Голден-Гейт, геометрические чертежи фортов, горы, покрытые еще не зазеленевшими рощами, коробочки домов. Весеннее солнце обливало пейзаж горячей глазурью. За бухтой лежала густая бескрайняя синева океана. И хотя все это было привычно, Мочалов, в веселом опьянении сверкающей широтой, толкнул в бок Саженко и, показав вниз, крикнул во весь голос:
– Красота.
9
Тонкий и высокий свист, похожий на свист пули, звенел, не умолкая. Мочалов повернул голову и прислушался.
Свист продолжался, меняя тембр с глухого на пронзительный.
Мочалов встал и подошел к заиндевевшему окну. Постоял, прислушиваясь. Распахнул форточку. С визгом ворвалась в комнату и закружилась, обжигая лицо, стая сухих серебряных искр. Мочалов зажмурился и быстро захлопнул форточку.
Это повторялось сегодня уже несколько раз. Это было и вчера и раньше. Пурга метет и неистовствует пятые сутки. Поселок занесен до крыш. На улицах сугробы в двухэтажный дом. В двух шагах не видно человека, и шелестящие снежные вихри вонзаются в лицо тысячами колющих игл. На аэродроме накрепко привязаны сменившие поплавки на лыжи, занесенные выше плоскостей самолеты, и каждым день приходится устраивать авралы, чтобы тяжесть сугробов не надломила хрупкие крылья.
Пятые сутки нет никакой возможности тронуться с моста. А время не ждет. С каждым часом положение становится тревожней. Вчерашнее радио из лагеря «Коммодора Беринга» уже носит угрожающий характер.
Мочалов вернулся к столу и нагнулся над бланком радиограммы. Лагерь «Беринга» сообщил, что на льду плохо обстоит дело с теплой обувью. При быстром погружения корабля он увлек с собой на дно отломившуюся льдину, на которой находился ящик с выгруженными меховыми сапогами. Из-за этого несчастья девять человек из четырнадцати остались в обычных кожаных и брезентовых сапогах. Обувь начинает разваливаться, и это грозит бедами. Один уже отморозил ступни.
Мочалов ударил кулаком по столу:
– Чертова пурга!
Пурга не пугала его. Он готов был лететь в самую дьявольскую погоду, сквозь все бури и ураганы, но важность задания удерживала его от авантюры. Рисковать нельзя. Авария самолетов подписывает смертный приговор четырнадцати отрезанным от мира и жадно ждущим спасения людям.
Нужно ждать. Ждать, какая бы злость на проклятую погоду ни накипала в сердце. А пурга, словно издеваясь, не хотела униматься.
Мочалов посмотрел на фантастические серебряные сады, расцветшие на оконных стеклах, и нервно зашагал из угла в угол комнаты поселкового отеля. Это громкое название плохо шло к двухэтажному коттеджу канадского типа, в котором едва разместился состав звена, заняв все свободные номера.
Чистенький и уютный коттедж очень напоминал финские северные дачи. Стены из некрашеной сосны теплились смолистой желтизной досок, слезились янтарными каплями живицы и уютно пахли хвоей. Невозмутимая монастырская тишина владела домом. Здесь хорошо было пожить на отдыхе, побегать на лыжах по синему снегу, глотать всей грудью ледяной, чистый, как горный ключ, воздух. Но сидеть взаперти в жарко натопленной каморке, пока стихнет бешенство разнуздавшегося ветра! Сидеть, зная, что с каждой просроченной минутой ближе подходит гибель к товарищам, было изнурительным испытанием для нервной системы. Несколько раз Мочалов порывался дать распоряжение о вылете, но в последний миг сдерживал себя.
«Советский летчик имеет право на риск лишь тогда, когда не остается никакого нормального выхода», – вспоминал он свою же мысль.
Постучали в дверь. В щель заглянула коридорная девушка.
– Сэр! Капитан Смит пришел. Он ждет вас в холле.
– Хорошо! Будьте добры сказать остальным, чтобы шли в холл.
Капитан Смит, начальник поселкового аэродрома, являлся каждый день в этот час с метеорологическими сводками. Он принял русских летчиков с отцовским радушием, помогал всем, чем мог, и вместе с ними страдал от пурги.
Мочалов спустился в холл – шестиугольный сарай, рядом с лестницей. Дощатый потолок холла почернел от каминного и табачного дыма. Середину холла занимал громадный дубовый стол с десятком пепельниц.
Капитан Смит сидел, положив ноги, на решетку камина, и сосал трубку. Темно-бурое лицо его, в рябинах и буграх, казалось вырубленным из того же корня, что и трубка. Неожиданным на этом лице старого пирата были ярко-синие ласковые детские глаза.
– Алло! Мистер Мошалоу! Как поживаете?
Он потряс ладонь Мочалова в своей заскорузлой огромной кисти.
– Неважно поживаю, капитан. Может быть, вы принесли утешительные новости?
– О, – Смит усмехнулся, – не особенно утешительные. Перемена предвидится. Ветер стихает и за ночь, наверное, стихнет совсем. Но предстоит новая неприятность, мистер Мошалоу. Сводка предсказывает на завтра оттепель и большую туманность. Лететь все равно нельзя.
– В тумане? Ну, нет, капитан. Туман нас не остановит.
– Оэ! – Смит удивленно взглянул на Мочалова. – Вы никогда не видали хорошего тумана на Аляске. Сгущенные сливки Дженкинса прозрачны, как виски, по сравнению с нашим туманом, мистер Мошалоу. Никто из летчиков не рискует летать, когда на Аляску надвигается этот туман. И вам не советую… Добрый вечер! Добрый вечер! – Смит прервал разговор, здороваясь с спустившимися летчиками.
– Примите во внимание, что на вашем пути, через мыс Йорк и дальше к северу, лежит сильно пересеченная местность, неразведанные горные цепи. Вы рискуете в любую минуту напороться на скалу, – продолжал он, обращаясь к Мочалову, – а пробить туман вы вряд ли сможете. В это время года он стоит очень высоко, а над ним еще облачность. Вы не выйдете под солнце ниже чем на двух тысячах метров. А на такой высоте вы рискуете обледенеть и заморозить моторы. Идти же низом – это девяносто девять шансов треснуться о какой-нибудь отрог. Поверьте моему опыту, я с малолетства знаю эти чертовы места.
Мочалов задумался. Он смотрел по очереди на лица товарищей. Они все были угрюмы и скучны. Пятидневное вынужденное безделье заточения надоело всем, и Мочалов понял это.
– Я лично считаю, что дальше сидеть и ждать у моря погоды бессмысленно. Все эти дни я вынужден был воздерживаться от вылета, рассуждая, что вылет в такую пургу грозит аварией или гибелью, а наша первая задача – сохранение в целости материальной части и личного состава, чтобы долететь до места и вернуться, не потеряв ни одного человека, ни одного самолета. Капитан Смит прав – туман опасен. Но я нахожу нужным лететь, не откладывая дальше. Никакой гарантии нет, что на смену туману не придет снова пурга. Мы можем ждать благоприятной погоды больше месяца, но тогда нам придется подобрать со льда только трупы, а мы имеем приказ спасти людей. Я мог бы просто приказать лететь, но я хочу знать и ваше мнение. Лететь ли вместе, или выпустить один самолет на разведку, оставив второй в резерве. Или, наконец, ждать всем еще несколько дней в надежде на хорошую погоду.
– По-моему, лететь, и вместе.
Сказал Марков. Голос был крепок и ровен. Глаза блестели уже не лихорадочным жаром, а уверенным боевым блеском, и Мочалов обрадованно посмотрел на Маркова.
«Отлично. Значит, выздоровел», – повеселел Мочалов.
– Так! Остальные как думают?
– Можно было бы подождать сутки-другие. Но ты прав, что нет гарантии на перемену к лучшему. Думаю также, что лететь обязательно нужно всем вместе. На случай какого-нибудь… – Саженко замялся, не захотев сказать «несчастья». – На случай происшествия есть товарищи рядом… и можно нанести на карту координаты, если понадобится помощь.
– Поддерживаю Саженко, – сказал второй штурман. Блиц молча кивнул.
– Следовательно, разногласий нет? Тогда назначаю вылет на завтра с рассветом, в десять часов. Всем приготовиться и обеспечить материальную часть.
– Ну, как? – спросил Смит, когда кончился непонятный русский разговор. – Поспим еще денька два?
– Нет, капитан. Завтра утром вылет. Я ценю ваши советы, но ждать нельзя.
– Но это безумие, – сказал Смит.
– Это только слепой полет, капитан. Для чего-нибудь учились же мы слепым полетам. Мы отвечаем за жизнь людей на льдине.
– Но свою-то вы цените во что-нибудь? – Смит вынул трубку изо рта.
– Несомненно, капитан. Каждый из нас хочет жить. Но там хотят жить еще больше.
Смит неторопливо выбил пепел из трубки и положил ее в карман куртки. Подошел к Мочалову, заглядывая ему в лицо своими детскими глазами, и сердечно сказал, положив руку на плечо летчику:
– Не сердитесь, мистер Мошалоу, за прямоту. Вы сумасшедший, но если бы я был женат, я попросил бы свою жену, чтобы она нарожала мне таких ребят, как вы.
Он застегнул куртку, надел шапку и вышел.
– Механики, – обратился Мочалов к Митчеллу и Девилю, – мы вылетаем завтра утром. Поэтому вам придется сейчас же заняться расчисткой самолетов и моторами, чтобы к рассвету все было в полном порядке.
Митчелл удивленно посмотрел на командора и перевел глаза на Девиля.
Приказание было неожиданно и непривычно. Бортмеханики должны работать днем, а не ночью. Митчелл почувствовал раздражение. Все-таки русские странные люди и делают все не по-человечески… Достаточно того, что каждый день приходилось с утра до вечера надрываться, оберегая самолеты от заносов. И сегодня они провели больше четырех часов на этой скучной и утомительной работе и порядком утомились.
– Если позволите заметить, пайлот, – сказал Митчелл сухо и недовольно, – мы полагаем, что ночное время существует для сна и отдыха, а не для возни с моторами. Можно успеть сделать это утром и вылететь не в десять, а в полдень.
Мочалов сунул руки в карманы. Кровь плеснула ему в виски, и он тяжело задышал. Он предугадывал это еще в разговоре с Экком перед отъездом. Конечно! Иностранцы, наемники. Пошли на службу ради наживы, соблазненные высокой оплатой и легким заработком. Какое им дело до чувств и волнений Мочалова и его товарищей? Они выполняют работу механически, равнодушно. Нужно было настоять на своих бортмеханиках. С этими шкурниками еще наплачешься. Они будут саботировать и отлынивать от работы всякий раз, когда вздумается.
Его потянуло обложить обоих механиков всем запасом ругательных английских слов, пришедших ему на память, но он сдержал себя. Ни к чему! Только обозлишь их, и тогда можно остаться вовсе без механиков. Нужно попробовать пронять их иначе.
– Отлично, – сказал он, с презрением пожав плечами и в упор смотря на Митчелла, – отлично, механики! Вы совершенно правы! Вы наняты для дневной работы, в определенные часы. Я упустил это из виду. Вы обязаны работать «от и до», а остальное вас не касается. Вы правы! На льдине замерзают и ждут гибели не ваши, а наши товарищи. Следовательно, их судьба вас не касается. Вы правы!.. Можете отдыхать. Мы справимся с работой без вас. Вы отправляйтесь спать, а завтра приходите на готовое. Все же лететь мы будем в десять, а не в двенадцать. Ступайте спать, Митчелл. Спокойной ночи!
Он резко повернулся спиной к бортмеханикам.
– Одну минуту, пайлот, – услыхал он за собой голос Митчелла.
– Разговор кончен, – сухо отрезал Мочалов, – я сказал, что вы вправе требовать отдыха. Идите спать. Желаю приятных снов.
Но Митчелл обошел его и стал перед ним. Он был красен до корней волос, и белесые брови стали светлее лица.
– Разговор не кончен, пайлот, – сказал он настойчиво, – я сообщил вам, что в Америке мы имеем обыкновение работать днем, и полагал возможным просить вас отложить час вылета, чтобы мы могли сделать работу утром, отдохнув. Это было мое мнение. Но я не желаю позволять вам бросать мне упреки в бесчеловечности и равнодушии к погибающим. Это право вам не предоставлено контрактом, мистер Мошалоу. Мы не считаем нормальным, чтобы летчики делали работу за бортмехаников. Если это нужно, мы будем работать всю ночь. Вы могли бы нам объяснить необходимость этого, не прибегая к оскорблениям. Мы будем работать! Правильно, Девиль?
– О’кей, Митчелл, – спокойно сказал Девиль, – мы пойдем на работу, сэр, чтобы вы не могли потом рассказывать, что американцы не умеют работать, когда нужно. Не поспать несколько часов не страшно. Я предпочитаю не спать, чем слушать обидные речи.
– Ладно, – Мочалов усмехнулся, – тогда я беру свои слова обратно. Пойдемте к самолетам, Митчелл.
Все вместе они вышли на ночную улицу. Пурга еще мела, но ярость ее уже ослабела. Снег не метался больше в бешеном танце, а только перебегал, дымясь, по закраинам сугробов. Но самолеты, расчищенные в полдень, снова замело почти по плоскости. У своего самолета они разобрали лопаты. Саженко зашел с другой стороны. Мочалов и Митчелл остались вдвоем. Пухлые комья снега полетели в сторону.
Митчелл работал с молчаливым ожесточением, как будто желая показать летчику, как может работать американец, задетый за живое. Он захватывал громадные пушистые глыбы и, весь напрягаясь, сворачивал их. Мочалов с улыбкой посматривал на него.
«Задело по самолюбию, – подумал он, – так и надо. Сперва на самолюбие, а потом на сознание! Иначе ему трудно понять. По существу, он должен воспринимать нас примерно так же, как воспринял бы марсиан».
Глубоко всадив лопату в заскрипевший сугроб, Мочалов налег на нее, но не смог выпростать, – снежный ком был слишком тяжел. Он выпрямился, чтобы передохнуть, и вдруг, пораженный, прислушался. К утихавшему посвисту ветра примешался человеческий свист, неожиданно и фантастически возникший рядом и складывавшийся в знакомый мотив. Насвистывал, несомненно, Митчелл. И несомненно, это был мотив «Типперери».
Не может быть! Мочалов откинул наушник. Нет, он не ослышался. Действительно, Митчелл, разбрасывая снег, свистал эту знакомую, въевшуюся в память с детства песенку. Это казалось невероятным, но это было так. Мочалов шагнул к Митчеллу и взволнованно схватил механика за рукав.
– Почему вы свистите эту песню? Откуда вы ее знаете? – спросил он быстро и почти сердито.
Митчелл воткнул лопату в снег и удивленно посмотрел на пилота.
– Если вам не нравится, я могу перестать, пайлот. Я вспомнил ее случайно, – сказал он виновато-недоуменно.
– Нет, нет, – прервал Мочалов, – пожалуйста… Я только хочу знать, откуда вы знаете эту песню? Где и когда вы услышали ее впервые?
– Где и когда? – Митчелл с возрастающим изумлением смотрел на взволнованного командора, – но это совсем нестоящее дело, пайлот. Мальчишкой я учился в военной школе, и мы всегда пели эту песню. Ее привезли в Америку наши солдаты с большой войны. Они переняли ее у английских томми. Наш воспитатель был из солдат и обучил нас. Дурацкая песня, пайлот, но эти паршивые мотивчики вцепляются в человека, как клещ в коровье брюхо. Трудно запомнить хорошую арию из оперы, а такая чепуха застревает в мозгу на всю жизнь. Я люблю свистать ее во время работы. От этого становится легче и веселей.
Мочалов молчал. Сложный узор воспоминаний стремительно развертывался перед ним. От перрона разгромленной станции Приволжья до этой минуты на синем ночном снегу Аляски. Он был очень взволнован и не мог сразу справиться с волнением.
– А почему вас так интересует эта песня, пайлот? – осторожно спросил Пит.
Мочалов ответил не сразу.
– Это забавно, – сказал он наконец, – очень забавно. Мы могли бы никогда не встретиться с вами, Митчелл. И никогда не знали бы, что есть два человека, совершенно различных человека, которые любят петь одну песню. Дурацкую песню – вы правильно сказали. Я тоже знаю ее, Митчелл. И ко мне она привязалась с детства. Только вас научили в школе, а я узнал ее, когда был бездомным бродячим щенком. Очень странно.
– Да, пайлот, – ответил Пит, подумав, – и я тоже говорю, что это очень странно. Я никогда не смог бы предположить, что вы знаете эту песню.
Мочалов усмехнулся.
– А скажите, Митчелл, вы знаете, что такое «Типперери»?
Митчелл прислонился к фюзеляжу и долго смотрел перед собой, как будто припоминая.
– Говорят, что это маленькая деревенька, кажется в Ирландии, если я не ошибаюсь. Но мне наплевать на это, – сказал он вдруг с нежданной горячностью, – наплевать. Я не интересуюсь и думаю, что эта деревня просто выдумана. Я люблю иногда помечтать, пайлот. Когда живется не очень легко, иногда позволяешь себе думать о хорошей жизни, пайлот. И в мечтах я представляю себе, что Типперери – страна чудес, в которой жила Алиса. Что это счастливая большая земля, где солнце светит, не заходя, где нет несчастных, больных и бедных, девушки красивы, как феи, и добры, как ангелы, а цветы громадны и пахнут счастьем.
– А вы представляете себе, где находится эта земля? – спросил Мочалов.
– Нет, пайлот. Наверное, такой земли совсем нет. Она ведь должна быть очень большой, и если б она существовала, люди знали бы о ней. Это только мечта маленьких людей, пайлот. Им хочется счастья, и они выдумывают себе такую счастливую землю. Я спрашивал у многих, где может быть земля, на которой всем одинаково хорошо живется, но никто не знает адреса. Или она не существует, или она провалилась в океан, как вулканический остров.
– Вы так думаете, Митчелл? – спросил Мочалов. – Тогда вы плохо знаете географию счастья. Такая земля есть.
– Мне не удалось много учиться, пайлот, – Митчелл вздохнул, – но в нашей школе географию учили подробно. Только преподаватель никогда не говорил о такой земле. А вы знаете ее, пайлот?
– Ваш учитель бы стар и слеп, Митчелл. Он не мог знать, где большая счастливая земля. А я знаю. Я могу показать вам ее. И вы ее увидите.
– Где же она?
– Это моя родина, Митчелл.
Пит оттолкнулся от фюзеляжа и засмеялся:
– Вы говорите о России?
– Бывшей России, Митчелл, которая провалилась в океан, как вулканический остров. А на ее месте поднялся из волн Советский Союз.
Митчелл развел руками.
– It is long way to Tipperary, it’s long way to go…[48]48
Долог путь до Типперери, долог путь…
[Закрыть]Простите, пайлот, но вы тоже рассказываете сказки. Я кое-что знаю о вашей стране. Я не верил россказням, что вы ходите одетыми в свои бороды и едите человечье мясо. Раньше не верил, а теперь подавно. Но насчет счастливой земли вы меня не уверите. Вы поставили себе задачу догнать и перегнать Америку, я читал об этом в газетах. Если вам понадобилось догонять нас, – значит, у вас хуже, чем у нас, а Америка совсем не похожа на счастливую землю. Как могут быть счастливыми люди, которые не могут иметь ничего своего и которые ни во что не верят?.. Это невозможно, пайлот.
– Вот что! – засмеялся Мочалов. – Но у вас ложное представление о том, что мы имеем и во что верим.
– Если я думаю неправильно, я хотел бы узнать правду, – серьезно сказал Пит.
– Видите ли, Митчелл. Рассказывать вам все будет долго и трудно. Многое просто покажется непонятным или неправдоподобным. У нас будет еще впереди время для разговоров. Я только отвергаю ваше представление, что мы ничего не имеем и ни во что не верим. Мы имеем все, кроме права эксплуатировать человека. И верим, но не в бога, а в знание и труд.
– Это туманно, – возразил Митчелл. – Очень хорошо, но туманно. Знание? Это понятно для меня. Я знаю, что ученый человек может добиться в жизни вдесятеро большего, чем неуч. Что же касается труда – не понимаю. Как можно верить в самое скучное дело, которым человек вынужден заниматься из-под палки или от голода? Пустая затея. Как можно верить в самое неприятное и обременительное, что есть в жизни?
– Я же говорю, что вы не поймете сразу, – согласился Мочалов, – нужно многое видеть своими глазами. Вы житель другой планеты, Митчелл. Это ясно даже из вашей сегодняшней попытки отказаться от неприятного и обременительного занятия – ночной работы у самолета.
– Но я согласился.
– Да. Потому, что из моего обращения к вам вы краешком уяснили себе разницу между вашим и нашим отношением к труду. И вам стало стыдно, что я, ваш начальник и работодатель, пойду в пургу работать без сна и отдыха, а вы, на основе своего формального права, будете валяться в теплой кровати. Тот эгоизм, который заставляет вас ревниво оберегать свои права и беречь свои силы, понятен при вашем отношении к работе, как к подневольному делу, высасывающему соки. Вы стремитесь сохранить себя подольше, чтобы не лишиться трудоспособности, а с ней права на жизнь, потому что, нетрудоспособному, вам никто не поможет. Вы всю жизнь работаете не на себя, а на других, и цель вашего труда заключается в том, чтобы поддержать свои силы для возможно более долгой работы на других. И такой труд вам противен. У нас каждый работает для всех, и для себя в первую очередь. И мы не ненавидим труд, а любим его, как свое дело, как дело своей чести.
– Интересно, но малоправдоподобно, пайлот, – сказал Пит со смешком. – Хотел бы я видеть, как люди трудятся с удовольствием и для себя.
– Вы сможете это увидеть, – Мочалов взял лопату, – а пока давайте продолжать. И чтоб было веселей, мы можем петь вместе нашу дурацкую песню.
– О’кей, – сказал Пит, весело хватая лопату, – попробуем работать с удовольствием.
Они наперегонки швыряли рассыпающиеся серебряной пылью комья снега и во все горло распевали «Типперери», каждый по-своему. И Питу казалось, что он выпил стакан шипучего и хмельного напитка, от которого весело кружилась голова.
10
Окончив работу, Мочалов вернулся в номер, разделся, обтерся одеколоном и залез под одеяло. Нужно было выспаться и отдохнуть в оставшиеся часы. Он вытянулся во весь рост на спине, закинув руки под затылок.
«А он неплохой парнишка – Митчелл, – подумал он, вспоминая разговор с механиком. – Но каких только казусов не бывает в жизни. Никакая фантазия не перешибет. Нужно же было, чтоб он засвистел „Типперери“. Тысячи песен на свете, и почему именно эта?»
Он выпростал руки из-под головы и потянулся к выключателю настольной лампы. Но прежде чем он дотронулся до него, без стука отворилась дверь, и на пороге Мочалов увидел Маркова.
– А… заходи, – сказал он, искренне обрадовавшись. Впервые после крупной размолвки, когда Марков назвал его сопляком, он пришел к нему запросто, как прежде. – Хорошо, что зашел. Я не хотел тебе, навязываться, раз ты сам просил оставить тебя в покое. Но я здорово рад, что у тебя все уладилось. Мне чертовски неприятно было видеть, как тебя развезло. Я тебя и люблю и уважаю, ведь ты мне в летные отцы годишься. Ты белых бил в воздухе, когда я штаны подвязать не умел… и вдруг такая история. Я боялся, что ты окончательно запсихуешь, и чуть не запрыгал от радости, когда увидел, что ты опять прежний, боевой… Очень хорошо. Садись!
Марков присел на край постели и открыто, хорошо улыбнулся.
– А ты знаешь, зачем я пришел? – спросил он, слегка прищурив теплый свой цыганский глаз.
– Нет! Просто пришел – и все… Какие еще причины нужны?
– Слушай, Дмитрий, – сказал вдруг Марков тихо и просто, – не удивляйся только и не лезь на стенку. Я пришел просить снять меня с полета.
– Ты что?
Мочалов откинул одеяло и сел на постели, растерянно уставившись на Маркова. Он ждал чего угодно, но не этого. Пришел здоровый человек, старый товарищ, пришел запросто, дружески и… черт знает что!
– Объясни! Почему? – спросил он недоуменно, пристально смотря в глаза Маркову, и тот потупился. Легкий румянец выступил на его смуглых скулах.
– Сейчас объясню. Только не перебивай и дай договорить. Возражать будешь после, хотя думаю, что, выслушав, возражать не станешь. Я очень тяжело шел к этому решению, и этим объясняется мое состояние. Но сейчас все продумано окончательно. Все созрело на этом этапе. Когда я вел сюда самолет, со мной несколько раз делалось совсем скверно. Я чувствовал, что теряю способность управлять машиной. Это заметил не только я, но и Доброславин. Он ничего тебе не говорил?








