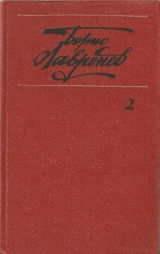
Текст книги "Собрание сочинений. т.2. Повести и рассказы"
Автор книги: Борис Лавренев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 42 страниц)
– Чепуха, – ответил Мочалов, – благодарю за комплимент, но любой летчик у нас сделал бы то же самое… Кстати, вы заметили, что назвали меня кэмрадом?
Митчелл помолчал. Ответил с необыкновенной серьезностью:
– Да, заметил.
Опять сделал паузу и, вдруг засияв широкой улыбкой, крикнул, фамильярно трепля по плечу пилота:
– О’кей… Гуд!.. Вери гуд, кэмрад Мошалоу!
16
– Тише, черти! Разоржались в худой час.
Из угла, от приемника, гневно обернулся на смех радист, оседланный наушниками. Посреди палатки, на опрокинутом ящике, команда играла в козла, обучая Митчелла. Он быстро овладел несложным искусством и с удовольствием проводил время в игре. Он только что приставил последнюю косточку, подмигнул и, старательно выговаривая буквы, сказал партнерам:
– Митчелл, фсе ф парадке.
Эту фразу он перенял у Мочалова и выговаривал ее довольно чисто.
Хохот, покрывший его слова, вызвал раздраженный окрик радиста:
– Помолчите минутку. В ушах от вас трещит. Принимаю дневную сводку информации.
В палатке стихло. Было слышно, как поскрипывает карандаш радиста, нанося строчки на бумагу. Вскоре он снял наушники и встал. Перешел в другой угол палатки и присел на нарах рядом с худощавым человеком в пегой кухлянке.
– Товарищ парторг, получай сводку.
Парторг взял листок, расправил его на колене, нагнулся и стал разбирать написанное. Дочитал, прикрыл листок широкой ладонью и поднялся с нар.
Митчелл увидел, как повернулись на его голос все в палатке. Затем игравшие неожиданно смешали косточки и окружили человека в пегой кухлянке, стоявшего с листком в руках.
Митчелл с любопытством следил за происходящим, не понимая слов, но чувствуя, что происходит нечто не совсем обычное.
Человек в пегой кухлянке, видимо, читал вслух с листка, и люди напряженно-внимательно слушали. Потом читавший положил листок на ящик, засунул руки в карманы кухлянки и заговорил. Говорил он довольно долго, и слова его лишь изредка прерывались одобрительными возгласами.
Когда он кончил, люди в палатке гулко захлопали в ладоши и заулыбались, переговариваясь.
Питу очень хотелось понять, в чем дело, но происходящее было слишком сложно, он не мог разобраться.
Недалеко от него, скрестив руки на коленях, на нарах сидел старик профессор. Веселые живчики печного огня метались в расколотом звездой стекле его очков. Полный любопытства, Пит вытянул руку и осторожно коснулся костлявой кисти профессора.
– Прошу извинения, сэр, – сказал он, – мне очень интересно, о чем говорил тот человек. Что-нибудь случилось?
Профессор повернулся к Питу и рассеянно поглядел на него.
– Ничего особенного не произошло, – сказал он, – совершенно обычное дело. Состоялось общее собрание команды.
– Я это понимаю, – пояснил Пит, – но по какому поводу собрание и о чем здесь говорили?
Профессор раскурил трубку и пыхнул на Пита теплым дымком.
– Если вас это интересует – пожалуйста. В сегодняшней сводке радионовостей радист принял сообщение из нашей страны о подавлении революционного восстания в Боливии…
– Восстание в Боливии, – поразился Пит, – но какое отношение имеет восстание в Боливии к команде, находящейся на льдине?
Профессор усмехнулся.
– Как бы это вам разъяснить? – произнес он раздумчиво. – Дело в том, что для нас это совершенно естественная связь. Восстание в Боливии так же волнует нас, как волнуют события, происходящие на нашей земле. Это интернациональная солидарность.
– Я это понимаю, – возразил Пит, – но мне хотелось бы знать, что именно говорили здесь о восстании в Боливии?
– Очень просто, – ответил профессор, – вот этот товарищ в пегой кухлянке, он партийный организатор нашей ячейки. И он сообщал товарищам подробности о восстании. Весь месяц в Боливии шли жестокие бои между правительством генерала Охеда и восставшими крестьянами и рабочими. Сначала восставшие имели успех и захватили несколько городов, но затем генерал Охеда обратился за помощью к правительствам Перу и Аргентины. Началась интервенция, и с помощью чужих войск восстание было жесточайше раздавлено. Тысячи повстанцев расстреляны пулеметами. Их семьи выброшены на улицу, жилища разрушены. Международная организация помощи революционерам предприняла кампанию защиты и помощи. Во всей нашей стране идут широкие сборы в пользу семей замученных повстанцев в Боливии. Вот, собственно, и все.
Митчелл помолчал, смотря в пол, словно отыскивая там ответ на свои мысли.
– Да, – сказал он, – и это понятно, но я не могу уяснить одного. Чему же тогда аплодировали ваши люди? Эти известия, насколько я понимаю, должны опечалить их, а не обрадовать.
Профессор засмеялся.
– Что вы, что вы? – сказал он. – Вы совершенно неправильно поняли. Аплодисменты относились совсем к другому. Товарищ, делавший доклад, предложил всей команде принять участие в кампании помощи. В нашей стране, на фабриках и заводах и в деревнях, принимаются решения отчислить в пользу боливийских повстанцев двухдневный заработок. Мы считаем возможным отдать больше. Мы плаваем вдали от жилых берегов уже около года, и нам некуда было тратить наш заработок. По предложению одного из товарищей, команда вынесла постановление отчислить семьям погибших революционеров недельный оклад содержания.
Пит отодвинулся от профессора и посмотрел на старика, думая, что ослышался.
– Простите, я не расслышал, вы сказали отчислить сколько?
– Недельный заработок, – спокойно подтвердил профессор. – Эти деньги команда отдает детям убитых, расстрелянных и сидящих в тюрьмах.
Пит нервно повертел головой, как будто он был в крахмальном воротничке и этот воротничок невыносимо резал ему шею.
– Но почему их так волнует судьба чужих детей, когда их собственные дети, вероятно, испытывают сейчас большую нужду? Почему они раньше не подумают о своих детях? Никто еще не знает, что случится с нами завтра и увидит ли кто-нибудь твердую землю и родные дома? Не логичнее ли было бы позаботиться о сбережениях для своих семей? Кто поможет им, если жены останутся вдовами, а дети сиротами?
Пит взволновался и, как всегда, покраснел до волос, и белые брови резко выделялись на малиновой коже. Он перебегал глазами с одного лица на другое, он всматривался в эти странные русские черты, такие простые и в то же время необъяснимо сложные.
Люди только что, не моргнув глазом, вынули из своего, вероятно тощего, кошелька значительную часть тяжелого заработка и, как будто ничего не произошло, занялись обычными делами. Игроки в козла снова вернулись к ящику, разбирали косточки и смеялись. Понимали ли они, что делали? Не помутило ли сидение на льдине, постоянное ожидание гибели их здравый смысл?
Пит с нетерпением ждал ответа профессора.
– Видите, Митчелл, – мягко сказал старик, – вам это, конечно, странно. Моим товарищам нет особенной нужды думать о своих детях в смысле материальной поддержки. О них позаботятся правительство и вся страна. Страна усыновит наших сирот и поможет нашим вдовам, если мы не вернемся. Это твердо известно каждому из находящихся здесь, как известно и то, что никто в мире не пошевелит пальцем для помощи детям погибших повстанцев. Если бы наша родина была богаче, она приютила бы у себя сирот трудящихся всего мира и оказывала бы им помощь, потому что мы думаем о счастье подрастающего поколения во всем мире. Попробуйте понять это. Вся команда единогласно отдала свой заработок детям людей, которые на другом конце планеты поплатились жизнью в борьбе за дело, за которое боролись и победили мы. Ясно это вам?
– Вы говорите, вся команда? – переспросил Пит. – Следовательно, ни один человек не задумался и не отказался?
Профессор пожал плечами.
– Товарищ, который вел собрание, ставил этот вопрос на голосование и спрашивал, кто против такого решения. Вы видели – не поднялась ни одна рука.
– Так, теперь мне почти ясно… Благодарю вас, – сказал Пит.
– Митчелл! – позвали его играющие в козла. – Ком ю, плиз. Без тебя, друг, что-то скучно.
Пит вежливо улыбнулся и подсел к ящику. Но на этот раз игра не клеилась. Он был рассеян и думал совсем о другом. Руки его невпопад ставили косточки, он зевал, ошибался, а в его мозгу незримо для других происходили странные вещи. Тяжкие нагромождения привычных понятий и мыслей рушились и рассыпались в пыль. Он шесть раз подряд остался козлом.
– Эге, у Митчелла, ребята, не все в порядке, – смеясь, сказал один из играющих.
Пит посмотрел на него без улыбки, задумчиво и серьезно.
– Йес, – подтвердил он, качнув головой, – Митчелл, не фсе ф парадке.
Не обращая внимания на смех и шутки, он поднялся и вышел из палатки. Зеленоватая звездная ночь истаивала над его головой. Он посмотрел на мохнатые колючки звезд и вдруг с пронзительной ясностью впервые ощутил, что над чуждыми и разбросанными по земле странами каждую ночь горят одни и те же звезды, тает зеленоватое, морозное, примиряющее и объединяющее небо. Это несложное открытие ошеломило его и усилило крушение, разыгравшееся в его смятенном сознании. Он долго простоял на снегу, подняв голову кверху и следя пути звезд.
Глухой отзвук пушечного выстрела докатился до него, – вероятно, где-нибудь лопнуло ледяное поле.
Он вздрогнул, повернулся и вошел в палатку.
Там уже укладывались спать. Семеро должны были завтра покинуть льдину навсегда. Пилот Мошалоу сидел у печки и исписывал страницы своей маленькой книжечки.
Пит направился к нему.
– Пайлот!
Пилот обернулся.
– Слушаю, Митчелл.
Пит замялся. То, что пришло ему в голову и что он решил сказать, стоя под звездами, было очень трудно выразить словами.
– Я хотел спросить у вас, пайлот, кто здесь главный начальник? Вы или профессор?
Пилот положил книжечку в карман. Он был удивлен. Едва заметная улыбка раздвинула его губы.
– Зачем это вам понадобилось знать, Митчелл?
– Мне это очень важно, – упрямо обронил Пит.
– Собственно говоря, формально тут нет никакого главного начальника. Все вопросы мы решаем сообща. Но если принять во внимание, что мы с вами прилетели в гости, то правила вежливости предписывают, чтобы гость подчинялся хозяину. С этой точки зрения, профессор, конечно, главнокомандующий нашей льдины.
– Тогда, значит, вы входите в команду профессора?
– Ну, предположим, что так, – еще больше удивляясь, согласился Мочалов.
– Тогда и я вхожу в состав команды?
– Да что с вами? – засмеялся пилот. – Ну, допустим, входите. Поскольку вы сейчас находитесь на советской службе, конечно, входите.
Пит смотрел на тусклый огонь фонаря и беззвучно шевелил губами, словно заранее складывая мысли, как дети складывают дома из кубиков.
– Очень хорошо, – произнес он серьезно, – это меня устраивает. Сегодня у команды было общее собрание. Я не мог принимать в нем участия, потому что не знал, имею ли я на это право, и потому, что я не понимал, о чем идет речь. Но сейчас я знаю… – Он опять замолчал.
– Так… Что же дальше? – спросил пилот.
– Команда обсуждала один вопрос и приняла по нему решение. Я знаю, что все были за это решение. Я не голосовал, но раз я в команде, я не хочу оставаться за бортом. Я тоже голосую за! Пусть президент собрания добавит к деньгам, которые внесла команда для сирот, мои семьдесят пять долларов.
Мочалов рывком встал. Они стояли друг против друга – Пит, сосредоточенный, хмурый, с упрямой складкой, легшей между белесыми бровями, и Мочалов, недоумевающий и обрадованный.
– Вы что это, в самом деле, Митчелл? – У пилота дрогнул голос.
– В самом деле, кэмрад Мошалоу.
Пилот повернулся, пошел в угол и дернул за ногу спящего человека в пегой кухлянке.
– А? Что? Что? Что случилось? – переполошенно поднялся тот.
– Экстренное происшествие, товарищ парторг. Кризис мелкобуржуазного сознания, – сказал Мочалов. – В срочном порядке прими в свою кассу недельный оклад товарища Митчелла. Он тоже за. Ну, ну, не хлопай глазами, доставай свой список и заноси в актив денежки!
И, обернувшись к Питу, тепло сказал:
– Вы замечательный парень, Митчелл. Я это предчувствовал. Недаром мы с вами с детства любим одну песню.
– Это глупая песня, – упрямо сдвинув губы, ответил Пит.
17
Мочалов вскочил, разбуженный неистовым криком.
В полутьме, у входа в палатку, стоял человек, возбужденно размахивая руками, и кричал:
– Самолет! Товарищи, самолет идет! Все наружу!
Палатка заполнилась гомоном вскакивающих людей. Мочалов сорвался с нар и без шапки выскочил наружу. Издавна знакомое и привычное тонкое пчелиное гудение коснулось его слуха. Он вскинул голову и, прищурившись, увидел слева над горизонтом крошечную, распластавшую крылья стрекозу. Она летела прямо на палатку. Один за другим выкарабкивались наружу палаточные жители.
Стрекоза увеличивалась, вырастала на лимонно-желтоватом небе. Тонкое гудение ее переходило в высокий визг. Мочалов, взглянув еще раз, впился пальцами в полость своей кухлянки. Он не поверил глазам.
«Что такое?.. Не может быть!» Но это «савэдж». Несомненно, «савэдж». Близнец его голубой птицы.
«Нет, нет!.. Не может быть! Блиц разбит так, что раньше месяца на самолет сесть не сможет. Доброславин не настолько владеет управлением, чтобы решиться на полет в одиночку. Нет! Вероятно, чужая машина. Мало ли этих самолетов в Америке. Но что могло его занести сюда, в эту гиблую пустыню?»
Голубая птица с тяжелым ревом вырастала у него над головой, и Мочалов вскрикнул.
На плоскостях он увидел отчетливый шифр «Т-142».
Это был номер самолета Блица. Возбужденно сорвавшись с места, Мочалов закричал:
– Все на посадочную площадку! Нужно оттаскивать мой самолет… Ему негде сесть.
Он побежал через ледовое поле, спотыкаясь и не разбирая дороги. За ним цепочкой бежали остальные. Он уже не хотел думать, как попал сюда самолет и кто его ведет. Нужно было скорее очистить место для посадки.
Только когда самолет был отведен вбок, в зализину между торосами, он снова поднял голову. «Т-142» шел теперь на посадку. Он приземлился с такой легкостью и так точно, словно не в первый раз бывал здесь, и у бежавшего к нему Мочалова шевельнулась хорошая зависть к пилоту. Он не успел еще добежать, как открылся люк кабины, летчик спрыгнул в снег, споткнулся, поднялся, и набежавший на него Мочалов остолбенело остановился, узнав тепло блеснувшие из-под шлема цыганские глаза Маркова. За ним из кабины выглядывал улыбающийся Доброславин.
– Что! Не узнаешь? – весело спросил Марков, подмигивая.
Тогда Мочалова сорвала с места неудержимая буйная радость. Он бросился к Маркову, схватил его, стиснул и закричал:
– Марков! Черт! Ты? Неужели ты? Инвалид? Вылетавшийся? Старый дуб? Вылечился? Ха-ха-ха… С ума сойти! Ты или не ты?
– Я, – ответил Марков, также тиская Мочалова, – я, собственной персоной.
– Как же ты так, в самом деле?
– Вот так просто. Посидел в одиночестве… Все больше у Блица в лазарете сиделкой. И вдруг все как рукой сняло. И сразу так меня защемило, что сорвался, как пес с цепи, и давай сюда. Есть еще порох в пороховнице! Жив Тарас!
– А я сейчас только собрался вывозить первую партию.
– Ну, за чем же дело стало? Часок отдохну, просмотрим моторы и двинем обратно без проволочек.
Мочалов повернулся к сбежавшимся лагерникам.
– Товарищи! Приготовиться к посадке. Вылет через час. Лагеря «Беринга» сегодня не станет. А пока пойдем в палатку, – он потянул за собой Маркова, – хлебнешь горячего чайку в нашем отеле.
На полдороге к палатке Марков остановился.
– Да, совсем забыл в горячке, – сказал он, роясь в карманах, – я тебе тут специально одну весточку привез.
«Неужели от Кати?» – подумал Мочалов, с нетерпением ожидая, пока Марков выволакивал из кармана разный хлам.
Но Марков подал ему сложенную газету.
– Что это? – спросил Мочалов.
– Погоди… Я сейчас разыщу… Я еще тут карандашом отчеркнул… Это о твоем японском собеседнике на банкете… О Сендзото… Помнишь? Ага, вот она. – Марков ткнул в подчеркнутую красным карандашом заметку.
Аляскинская газета сообщала в отделе международной хроники, что при попытке побить мировой рекорд высотного полета на истребителе в Хакодате погиб японский морской летчик принц Сендзото, рухнувший с высоты семи тысяч метров. Гибель приписывалась обмороку, происшедшему с пилотом от закупорки кислородного баллона.
Мочалов задумчиво опустил газету.
«Для японца опасна высота, – вспомнил он, – потолок выше тысячи метров уже большой риск для нас».
– Жалко парня! – искренне сказал Марков.
Он, как наяву, вспомнил хрупкое кукольное лицо с косой прорезью печальных глаз, похожие на стебельки пальцы, игрушечное изящество японца.
– Не мог найти настоящего дела. Он мне жаловался в тот вечер. Говорил, что хотел бы летать так, как мы, чтобы спасать людей, а не убивать. От тоски, видно, и полез на рекорды. В самом деле, жаль. Он меня тогда за душу тронул. Не придется, значит, больше с ним встретиться. Может быть, и к лучшему. Боялся он, что плохая встреча у нас может выйти.
Мочалов сунул газету в карман. Спросил будто равнодушно и вскользь:
– Из дому никаких вестей не было?
– Телеграмма от Экка была всем нам. Сообщает старик, что все благополучно. Ждет нас домой с победой.
– Ну, теперь будем. Я вот тут чуть не сел навеки.
– Знаю, – сказал Марков, – радио о твоей аварии приняли. Вот это, – добавил он, тепло взглянув на Мочалова, – меня и вылечило. Неловко за себя стало.
– А я за тебя как рад! Словно сам выздоровел… Ну, а механик твой что?
Марков махнул рукой.
– Что так? – спросил Мочалов.
– Бледная спирохета, – поморщился Марков. – Когда узнал о твоей аварии, на попятную хотел полезть. Стал проситься отпустить. Тетка, видишь ли, у него заболела. Я его к стенке припер. Говорю: «Ты мне раньше, голубчик, денежки выложи обратно, а потом поезжай тетке клизмы ставить». Ну, повертелся, повертелся и все-таки остался. Только ходит с кислой рожей, будто целую неделю одни лимоны жевал. Паскуда!
– Так, – сказал Мочалов, притворно нахмурясь, – ставлю вам на вид, товарищ командир самолета, неумение воспитывать вверенный вам личный состав.
– Это ты про что? – удивился Марков.
– Про твоего механика. Я вот своего воспитал. Еще недельку с нами побудет, он у меня вовсе человеком станет.
Когда летчики пошли к палатке, Пит приблизился к «Т-142» и заглянул в кабину.
– Девиль! Алло, старик! Как поживаете!
Возившийся внутри Девиль оторвался от мотора и кивнул Питу:
– А, Митчелл! Как живу?.. Не могу сказать, чтобы хорошо. Впрочем, вы, наверное, еще хуже.
– Я? Наоборот. Я превосходно себя чувствую. Почему вы впадаете в меланхолию?
Девиль высунулся из люка:
– Не знаю, как вы, а с меня хватит. К черту этих русских психопатов. Они у меня в горле сидят. Я хотел уйти на берегу, но с меня потребовали возврата денег. У меня их уже не было, но если бы я мог, я с удовольствием швырнул бы им в рожу эти доллары.
Пит подозрительно покосился на него.
– Почему вы так перессорились с русскими?
Девиль пожал плечами и зло усмехнулся.
– Мне они надоели.
– Но чем именно? – спросил Пит.
– Всем, – ответил Девиль, – не успев вылететь, они разбили один самолет, не успев долететь до места, разбили второй. Начали чинить первый, и я подумал, что этот, вероятно, расшибется окончательно. Такое изобилие приключений не по мне. Я предпочитаю тихую работу.
Пит помолчал, ковыряя ногой снег. Вскинул глаза на Девиля.
– А мне стали нравиться приключения. Вероятно, в моей жизни их было слишком мало, и оттого она была скучной. Русские – это сплошное приключение. И это самое поучительное и интересное приключение в моей жизни.
– Значит, вы довольны? – спросил Девиль.
– Да, – ответил Пит, – я хотел бы, чтобы мои приключения продолжались дальше. Они меня многому научили.
Девиль засмеялся:
– Поздравляю вас. Очевидно, от сидения на льдине вы простудили мозги. Что касается меня, я с радостью думаю, что через несколько часов, если мы благополучно сядем на берегу, для меня эти приключения кончатся навсегда.
– Мне жаль вас, – сказал Пит с иронической гримасой. – Вы могли извлечь из нашей работы с русскими много полезного и просветить ваш ограниченный кругозор. Но вы ничего не вынесли.
– Что вы читаете мне нравоучения, Митчелл? – огрызнулся Девиль. – Я доволен тем кругозором, который у меня есть. По крайней, мере, это кругозор нормального человека.
– Я же говорил, что вы стандартный и тупой американец, – сказал Пит.
– Вы, кажется, начинаете ругаться? – возмутился Девиль. – Я вижу, русские уроки действительно идут вам впрок.
Не ответив, Пит повернулся и пошел к палатке. Пройдя несколько шагов, он оглянулся и бросил Девилю:
– Вот вам, Девиль, никакие уроки не пойдут впрок. Мне скучно с вами разговаривать, и я буду очень рад, когда мы окончательно расстанемся.
18
Просидев около часа в палате у Блица, Марков и Мочалов простились с ним и вышли на улицу. Мокрый зернистый снег, начинающий уже поддаваться солнцу, влажно поблескивал. Лыжник в красном свитере, далеко выбрасывая вперед палки, легко бежал вдоль домов по отшлифованной, зеркально сияющей лыжне.
– Чуешь, весна идет, – Мочалов глубоко втянул влажный, пахнущий огуречной свежестью воздух, – дома, пожалуй, и фиалки скоро зацветут. Даже Блиц от весны разговорчивей стал. Если так дальше пойдет, придется, пожалуй, ему поручить доклад сделать о нашем полете.
Марков засмеялся.
– А что ты думаешь. И сделает.
– Чудеса в решете.
Они проходили мимо бревенчатого чистенького коттеджа почты. Позади них хлопнула дверь. Звонкий женский голос позвал:
– Мистер Мошалоу, вам телеграмма из России… Из Москвы. Мы только что хотели отправить вам в отель, но начальник увидел вас в окно.
Мочалов быстро взбежал на крыльцо. Он тяжело задышал, принимая из окошечка заклеенный оранжевый бланк телеграммы. Он знал, что это должен был быть ответ на его донесение в Москву, посланное вчера тем трем людям, которых никогда близко не видел Мочалов, но черты которых были знакомы ему по портретам больше, чем смутно сохранившееся в памяти лицо отца. Он написал в своей телеграмме: «Москва. Кремль. Доношу, что двадцать третьего апреля команда „Коммодора Беринга“ в полном составе вывезена с ледового поля на Аляску двумя самолетами. Все здоровы. Раненный при аварии самолета в Теллоре летчик Блиц поправляется. Личный состав звена: военлет Марков, штурманы Саженко и Доброславин и бортмеханик американский гражданин Митчелл проявили максимум доблести и энергии в выполнении задания правительства. Жду указаний. Командир звена военлет Мочалов».
Указания пришли. Они были здесь, в сложенном оранжевом клочке бумаги. Мочалов разорвал ленточку и развернул бланк. И от первых же букв кровь тяжелым толчком ударила ему в сердце, а текст задрожал и стал расплываться.
«Поздравляем блестящим делом, поднявшим на новые высоты имя советских летчиков. Входим в ЦИК с ходатайством о награждении вас и всего названного вами состава звена орденом Ленина и премией в размере годового оклада. Слава советским воздушным орлам. Команде „Беринга“ выехать сухим путем в Сан-Франциско для отправки пароходом на родину. Вам с самолетами срочно вылететь к месту службы».
И те же три подписи. Мочалов сдвинул шлем на затылок и вытер рукой лоб.
– Что? Здорово покрыли? – спросил Марков, участливо смотря на изменившееся лицо Мочалова.
– Читай! – дрожащим голосом пробормотал Мочалов и передал бланк.
Марков читал, складывая губы трубочкой.
– Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, – произнес он, отдавая телеграмму, – ей-ей, не ждал. Честное слово, думал, под суд отдадут за битые самолеты и аварии, а оказывается, мы с тобой воздушные орлы. А ну, повернись-ка, погляжу, где у тебя орлиные перья растут?
– А ну тебя, – сказал Мочалов. – Я серьезно. Что мы, собственно, сделали?
– А думаешь, я знаю? Давай, брат, поверим этим товарищам. Они лучше нас знают. Раз они так думают, – значит, нам нужно слушаться.
Марков иронически кривил губы, но, заглянув в глаза товарищу, Мочалов поймал в янтарной теплоте его зрачков искры не могущей спрятаться гордости. Они шли до отеля молча, занятые каждый своими мыслями, не обращая внимания на встречных, видя только далекие берега родины.
В холле их встретил капитан Смит. Старая трубка из того же корня, из которого было вырезано его угловатое пиратское лицо, по-прежнему торчала в углу губ. Он протянул руку Мочалову.
– Поздравляю вас, сэр. Вы заслужили награду.
– Откуда вы знаете, кептен? – удивился Мочалов.
Смит лукаво скосил глаза.
– Я старый шакал Аляски, сэр. Я топчу ее сорок пять лет. У шакалов хороший нюх. Я ждал вас здесь, чтобы поздравить. А теперь простите старика. Мне нужно идти. У меня нет жены, но метеорология ревнива, как баба.
Он сунул трубку в карман и ушел, помахав рукой.
Мочалов и Марков поднялись во второй этаж. Едва они вступили на площадку, до них донеслось из коридора невнятное пение. Мочалов остановился.
– Ты слышишь? В чем дело?
Марков прислушался.
Странно, – сказал он, пожав плечами, – похоже, будто поют нашу летную. Только голоса уж очень козлиные.
Они замолчали, вслушиваясь. Пение доносилось из номера, который занимал механик Митчелл. Пели три голоса. Можно было разобрать хрипловатый тенорок и низкий баритон, тянувшие песню.
Все выше, и выше, и выше
Стремим мы полет наших птиц.
И в каждом пропеллере дышит
Спокойствие наших границ…
К двум голосам примешивался третий, совсем не понятного тембра. Он вел мелодию без слов, глухо, словно кто-нибудь подыгрывал на гребенке.
– Что за чудеса? – сказал Мочалов. – А ну, давай поглядим.
Он подошел к двери номера и дернул за ручку. В номере плавала сизая муть табачного дыма, и в ее пелене Мочалов смутно разглядел двух штурманов и Митчелла. Они в обнимку сидели на диване. Штурманы без кителей, Митчелл в оранжевом клетчатом джемпере. Митчелл помещался в середине, Саженко и Доброславин нежно обнимали его с обеих сторон. Растрепавшиеся волосы Саженко сползли на лоб. В левой руке он держал бутылку и наливал в стакан Митчелла. На столе стояли еще две бутылки рома. Пряные – ромовый и табачный – запахи наполняли комнату.
– Крути, комсомол! Голос у тебя соловьиный, – лихо вскрикнул Саженко, ставя бутылку на стол, вскинул глаза и застыл, увидя на пороге Мочалова.
– Что здесь происходит, товарищи командиры? – окаменевшим голосом спросил Мочалов. На скулах у него кожа стянулась от сдерживаемого бешенства.
Саженко высвободил руку из-за шеи Митчелла и, качнувшись, встал.
– М-митя, – сказал он нетвердо, – прошу пожаловать! К нашему шалашу. П-просвещаем ам-мериканский комсомол. Садись, М-митя. Ты меня на льдине обидел, без м-ме-ня летал, но я не сержусь. Крути, Митчелл!
Он потянул Мочалова за рукав. Мочалов резко вырвал руку.
– Встать как следует, товарищ командир! Привести себя в приличный вид! Где ваш китель? – жестко рубил он.
Саженко протрезвел и вытянулся. Поднялся Доброславин, за ним встал растерянный Митчелл.
– Я вас предупреждал, товарищ Саженко, – резал Мочалов, и на щеках у него вздулись желваки, – пеняйте теперь на себя. Немедленно по возвращении в Союз пойдете под суд.
– Есть под суд, – хмуро повторил Саженко, надевая китель.
Мочалов, не слушая, взял со стола обе бутылки и сунул в карман.
– Отправиться сейчас же по своим номерам, и будете оба считаться под домашним арестом. Из номеров носа не показывать. Это преступление, товарищи командиры. В чужой стране, при иностранце, в тот день, когда правительство наградило нас величайшей наградой, напиться как свиньи и напоить подчиненного.
– Какая награда, товарищ командир? – тихо спросил Доброславин. Он не был пьян, а сейчас был взволнован и растерян.
– Прочтите. Может быть, после этого вам станет совершенно ясным безобразие вашего поведения, – презрительно кинул Мочалов, передавая штурману телеграмму.
Доброславин расправил ее на столе. Протрезвевший и унылый Саженко тоже нагнулся над бланком. Спустя минуту он поднял голову, и Мочалов увидел, что по щекам штурмана сбегают слезы.
– Митя, – сказал Саженко жалобно и беспомощно, – Митя, ты не сердись. Если б я знал, что мы герои, я бы капли в рот не взял, честное слово. Я считал, что с нас головы снимут за аварии. С горя и хватил. Думал: семь бед, один ответ.
– Прекратить разговоры, – оборвал Мочалов, – и марш по номерам! Не принимаю никаких оправданий, товарищи командиры.
Саженко опустил голову. Мочалов почувствовал сзади осторожное прикосновение к локтю. Он оглянулся и увидел, что Марков показывает ему глазами на дверь. Раздраженно повернувшись, он вышел.
Марков взял его под руку.
– Послушай-ка, Митя… конечно, ты прав. Надо было дать им хорошую встряску. Но… знаешь… не давай хода этому делу. Свинство и распущенность – двух мнений быть не может, но в конце концов никто из посторонних не видел. Разойдутся, выспятся и придут в себя.
– Да что ты заступаешься? – вспылил Мочалов. – Драить их надо, прохвостов, чтоб шерсть летела.
– Согласен. Но нагнал страху, и хватит. Не стоит губить ребят. Вспомни, что были тяжелые дни, а у Саженко выдержки не хватает. Да если б мы были не в Америке, а дома, я и сам на радостях дернул бы втихомолку.
Мочалов остановился у своей двери. Несколько секунд раздумывал.
Наконец пожал плечами и засмеялся:
– Ты знаешь, что мне пришло в голову? Что дома и я бы выпил. Вот сейчас понял… Ну, ладно! Черт с ними! Пусть проспятся, я их еще раз отчитаю, и на этом кончим. Будь здоров.
Он дописал страницу и, откинувшись на спинку стула, перечел написанное:
«Мне не стыдно сознаться, что я сейчас до краев переполнен гордостью. Гордостью за мою родину, за ее имя, ее славу, за то, что я сын этой родины. Я думаю, что это совсем новое чувство, и оно не имеет ничего общего с прежним патриотизмом. Мы любим нашу родину иначе. Мы видим ее недостатки, мы болеем ими и живем одной мыслью отдать нашу жизнь, все наше умение и знание, чтобы как можно скорей эти недостатки уничтожить, чтобы действительно по праву гордиться родиной перед всеми. Чтобы заставить любить нашу родину даже чужих. И это уже приходит. Пример этому – мой бортмеханик Митчелл. Он на моих глазах переломился, ибо его мышление среднего европейского мещанина, мелкого буржуа, раздавленного беспощадным прессом капитализма, обезличенного, обессиленного и смятенного, придя в столкновение с нашими людьми и нашими чувствами, проснулось и ожило от прилива свежей крови».
Мочалов подвинтил штифт карандаша и вывел заглавную букву новой фразы, но за спиной раздался осторожный стук в дверь.
– Кто там? – недовольно спросил Мочалов, не оборачиваясь.
– Это я, пайлот. Разрешите войти?
– Плиз! – Мочалов встал, закрывая дневник.
Вошел Митчелл, умытый, гладко причесанный. Белокурые пряди его волос блестели от воды.
– Садитесь, Митчелл. – Мочалов указал на диван.
Митчелл сел со смущенным и подавленным видом.
– Вы меня извините, товарищ Митчелл, – сказал Мочалов, – вероятно, на вас произвело неприятное впечатление мое появление в вашем номере и мой тон. Но это к вам не относится. Вы совершенно свободны в своих поступках и находитесь в своей стране. Мои замечания относились только к моим товарищам.








