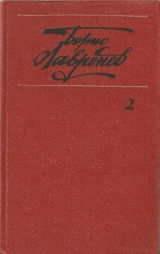
Текст книги "Собрание сочинений. т.2. Повести и рассказы"
Автор книги: Борис Лавренев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 42 страниц)
– Книжки тебе положить, Мочалов? – спросила Катя. – Может, скучно будет в дороге, захочешь почитать?
– Некогда скучать будет, – ответил Мочалов, – возьму только авиационный словарь и, пожалуй…
Он встал и подошел к книжной полке, перебегая взглядом по корешкам. Здесь, прижавшись друг к другу, стояли его лучшие друзья. С того дня, как он прочел «Гуттаперчевого мальчика», книги навсегда стали для него необходимыми, как воздух, и он приобретал их сколько мог.
Пальцы Мочалова перетрогали последовательно несколько корешков книг. Он выдвигал их наполовину и задвигал обратно, ища такую книгу, которая отвечала бы его настроению, его мыслям, его чувству.
И он нашел ее. Он вынул Диккенса, «Повесть о двух городах». Эта вещь некогда дала ему высокое опьянение трех бессонных ночей. И она была связана с Катей. Когда Мочалов впервые увидел Катю на шефском вечере в техникуме, он даже зажмурился – так показалась она ему схожей с обликом дочери несчастного доктора, обликом, который он сам выдумал.
Он подошел к Кате и бросил поверх уложенных вещей словарь и Диккенса. Катя захлопнула чемодан.
– Все!
Она поднялась и зябко повела плечами. Видимо, от волнения и оттого, что она была в одной рубашке, ей стало холодно.
Мочалов смотрел на нее, белую, легкую. В жизнь его она вошла как лучший подарок. В беспризорном прошлом женщина была для него источником темного страха. Первое ощущение женщины осталось в его памяти отвратительным пятном: в трубах московской канализации пьяная, растерзанная, догнивающая маруха ночью навалилась на него, двенадцатилетнего. Он едва вырвался, всадив изо всей силы крепкие волчьи зубы в ее вялый живот. После этого он с нервной дрожью убегал от каждой женщины, пытавшейся просто от жалости приласкать его. Позже это прошло. Во время учебы в летной школе, на юге, у него были связи, как и у других курсантов. Связи эти, чаще всего с курортницами, шалевшими от моря и солнца, были легки и бесследны. Мочалов относился к ним как к пустой забаве. Они проходили, как утренняя дымка над заливом, и даже лиц этих женщин, их голосов и жестов он никогда не помнил.
Катя пришла к нему иначе. И он впервые почувствовал то странное томление, над которым потешался он сам и его сверстники, как над пережитком разгромленных и уничтоженных чувств. С прежними женщинами он мало разговаривал. С Катей он мог говорить часами, ночами напролет, не прикасаясь к ней, не чувствуя усталости, все крепче связываясь общностью мыслей, желаний, порывов.
И когда он весь отдался этой непривычной, захватившей его близости, он бесстрашно стал выговаривать еретическое слово «любовь».
Катя была любовь. И этого нечего было стыдиться.
– Тебе надо хоть немного поспать, Мочалов, – сказала Катя, сладко потянувшись, и прыгнула в постель, натягивая одеяло.
– Нет смысла. Только раскисну.
Он присел на край ее постели. Катя завладела его рукой, перебирая пальцы.
– Ох, как много хочется сказать тебе, Мочалов. И не знаю что. Мысли скачут. Как ты думаешь, можно сейчас говорить только о своем, о личном? У наших писателей сознательные муж и жена перед разлукой обязательно говорят о смене руководства профкома или преимуществах многополья. Но мне не хочется говорить об этом, и, по-моему, они глупцы и лжецы, которые никогда не знали настоящей близости. Ты знаешь, что мне хочется сказать тебе, Мочалов, – она посмотрела на него ясными глазами, – что я жалею об одном. О том, что ты уходишь неожиданно, неизвестно куда и на сколько, а я остаюсь совсем одна. А мне хотелось бы сразу ждать двоих, тебя и сына… Видишь, какая я жадная. Ты не думай, что я не буду скучать о тебе, Мочалов. Я сейчас держусь, чтоб тебе было легче. Но когда тебя не будет, я буду много плакать, и мне вовсе не стыдно. Это тоже ложь, Мочалов, что комсомолке нельзя плакать. Ведь ты мой, Мочалов?
Мочалов осторожно сжал Катины пальцы. Он не слишком вникал в смысл ее слов, ему был приятен смятенный Катин лепет, дрожание ее руки. Катя клонилась к нему, и голос ее становился все тише.
– И зачем я стану говорить тебе какие-то торжественные слова, когда я знаю, что ты умней и опытней меня, Мочалов. Я знаю, что ты ведешь меня, что я уважаю твое дело, что я вместе с тобой всей кровью предана нашему общему делу. Я даже рада за тебя… Но все-таки мне страшно, если… если ты не вернешься. Я не хочу этого. Береги себя, Мочалов, милый!
Тоненький локоток ее трепетал у самого сердца Мочалова. Он обнял ее, потянулся и выключил свет.
Оставались последние, краткие минуты перед разлукой.
3
Бронзовая пепельница-дракон все время сползала на край стола. Старый японский стимер «Садао-Мару» валяло океанской волной, и Мочалову поминутно приходилось отодвигать пепельницу к середине. Это немного раздражало и отвлекало внимание.
Он сидел на койке каюты рядом с Блицем. Штурманы расселись в креслах, второй пилот Марков лежал на верхней койке.
Мочалов читал вслух названия частей самолета по авиационному словарю, летчики записывали, повторяя вслух.
– На сегодня хватит! – Мочалов захлопнул словарь и прикрыл им сползающую пепельницу.
– Считаю нужным предупредить, – продолжал он, обводя глазами лица товарищей, – через три часа мы придем в Хакодате. Надеюсь, все понимают, что из этого следует? Прошу всех быть чрезвычайно осторожными в каждом шаге и слове… Особенно, товарищи, насчет этого, – Мочалов усмехнулся и щелкнул себя по кадыку.
Летчики переглянулись. Саженко покраснел, закашлялся и заскреб ногтем пятнышко на брюках – знал за собой грех.
– Новые штаны не продери, – с насмешливой заботливостью обронил Мочалов, – других не выдадут. А насчет горячительного – потерпи до дома. Сообщаю как начальник, что малейшее злоупотребление напитками поведет к отстранению от полета, с высылкой назад и отдачей под суд.
Он придал голосу возможную сухость и жесткость.
– Да чего ты на меня уставился? – жалобно сказал Саженко. – Другие тоже пьют.
Пьют, да меру знают, а ты иной раз перехлестываешь.
– Вот честное слово, в рот не возьму, – вздохнул Саженко.
– Этого не требую. Возможно, придется быть на каких-нибудь банкетах – за границей это любят. От тоста не откажешься, но держи себя на поводу. Помните, что и кого мы будем представлять. Америка нас знает. Там были Громов, Леваневский, Слепнев. После них нам мордой в грязь ударить – смерть.
Летчики молчали, но в спокойных их чертах Мочалов прочел те же мысли, которые владели им в эту минуту.
С каждой минутой они все больше отделялись от родины и утрачивали непосредственную, живую связь с ней. Они становились крошечным островком в настороженно-враждебном мире. Тем крепче должна становиться внутренняя, незримая спайка с оставленным на родном берегу, за зеленой дорожкой, прорезаемой в море винтами «Садао-Мару». Эта спайка должна поддерживать их всех и каждого в отдельности в трудные минуты.
А трудные минуты скоро наступят. Все ближе чужой берег, берег притаившихся островов, с которых ежеминутно можно ждать удара.
Мочалов поглядел в иллюминатор. За круглым стеклом мерно раскачивалась вода цвета голубиного крыла. Над нею висел плотный, мокрый туман.
– Все-таки как же нам придется лететь? Курс, маршрут, места посадок? Тебе это известно? – спросил Доброславин, выколачивая пепел из трубки.
– Пока мне известна лишь основная задача. Подробности, очевидно, мы узнаем или в Сан-Франциско, или уже на Аляске. Считаю нужным, товарищи, условиться, что все вопросы, связанные с нашим перелетом, мы будем обсуждать по-товарищески, сообща. Но одновременно ставлю в известность, что правами командира я буду пользоваться в полном объеме и единолично. Есть у кого-либо замечания?
– Чего же замечать? – отозвался Саженко. – Зря трепаться не стоит. Пока не имеем всех деталей задания, можно лишь сказать: «Приказ приняли и выполним».
– Блиц, у тебя никаких вопросов? – Мочалов подтолкнул локтем соседа.
Блиц все время выписывал пальцем сложные узоры по коечному одеялу. Он медленно поднял голову, водянистые зеленоватые глаза его были затянуты мечтательной дымкой. Он секунду смотрел на Мочалова, неторопливо мотнул головой справа налево и опять заелозил пальцем по одеялу.
– Незаменимый оратор для торжественных заседаний, – засмеялся Саженко, – не человек, а радость аудитории. Никогда не выйдет из регламента и не обременит стенографисток.
– Марков, а ты ничего не имеешь сказать? – Мочалов запрокинул голову кверху. Над ним из-за рамы койки свешивалось цыганское лицо Маркова. По нему прошла гримаска иронического равнодушия. Он нарочно сладко зевнул.
– Укачиваюсь, – сказал он, не отвечая на вопрос Мочалова, – в воздухе никогда, а как на воду попаду, так и мутит.
Он достал из-под подушки стеклянную трубочку, высыпал на ладонь несколько белых крупинок, похожих на зернышки риса. Нагнувшись, поймал их губами и сунул трубочку под подушку.
– Гомеопаты советуют от морской болезни, – и, проглотив крупинки, нехотя, с некоторым раздражением, – только Мочалов, внимательно следивший за каждым движением беспокойного марковского лица, уловил это раздражение, – добавил – Присоединяюсь к мудрым речам Саженко. Зря трепаться не стоит. Раз приказали, расшибай лоб, и все тут.
– Ладно! Все свободны, товарищи. Рекомендую в предвидении Хакодате всем пересмотреть свои вещи и особенно карманы платья. Не должно быть никаких документов, кроме заграничных паспортов. Поэтому проглядите сейчас же, не завалялись ли какие-нибудь бумажки, вроде мопровских или осоавиахимовских билетов.
Летчики, за исключением Маркова, сожителя Мочалова по каюте, направились к двери. В ее пролете Блиц обернулся и, подумав секунду, спросил медленно, выдавливая из себя каждое слово:
– Книги… можно?
– Смотря какие. Что ты взял?
– «Коммунистический… манифест».
Мочалов вскочил с койки и взглянул на Маркова. Тот усмехнулся. Тогда Мочалов разъяренно надвинулся на Блица.
– Ты что же? Чем соображаешь? Ну, скажи, зачем тебе понадобилось совать в чемодан «Коммунистический манифест», выезжая за границу?
Блиц горько вздохнул. Нужно было объяснить – он не любил тратить слова. Покраснев от натуги и помогая себе жестами, он сказал:
– Я… просыпался… на… проработке… Думал… подчитать…
Он опять вздохнул и поник, устав от длинной речи.
– Жил индюк. Он много думал и издох от этого, – в негодовании сказал Мочалов, – ты ему не сродни часом? Вот что, пойди в каюту, возьми книгу и спусти за борт, через иллюминатор.
Блиц отступил. В мечтательной дымке его глаз вспыхнул испуг.
– «Коммунистический манифест»? – произнес он с недоверием.
– Да! «Коммунистический манифест», на проработке коего ты просыпался. По правде сказать, я с большим удовольствием выкинул бы за борт тебя. Одна буква манифеста умнее тебя всего с ботинками и фуражкой. Но, к сожалению, ты нужен мне в качестве запасного пилота, и придется тебя сохранить. Чем у тебя, в самом деле, башка набита, Блиц? Неужели не соображаешь, что этой книги в чемодане довольно, чтобы в Хакодате нас всех замели. Пойди выбрось.
Блиц не тронулся с места.
– Сам выкинь… Я не могу… я… беспартийный…
– Слушай, Блиц, – Мочалов озлился, – прекрати валять дурака! Я приказываю тебе немедленно выбросить книгу в Японское море. Принимаю на себя ответственность, но гарантирую, что по возвращении я устрою тебе такую проработку за дурость, что тебе небо с овчинку покажется. Исполнить приказание!
– Есть исполнить приказание. – Блиц вздохнул в третий раз, скорбно и долго, словно жизнь выходила из него со вздохом, и скрылся.
Мочалов захохотал:
– Вот балда! Хорошо, что успели предупредить. А то в прошлом году, в Кобе, на нашем лесовозе японские фараоны увидели у помощника на столе военные письма Энгельса. Только через полпредство на третьи сутки высвободили парня. Вообрази Блица в японской кутузке. Вот где заговорил бы!
Марков не поддержал смеха. Он лежал на спине с портсигаром в руках и то открывал, то захлопывал крышку. Лицо у него было безразличное.
Мочалов остановился у койки.
– Послушай, Марков, что с тобой? Ты нездоров или не в духе? У тебя был какой-то неприятный тон, когда ты ответил на мое предложение высказаться странной фразой: «Приказано – расшибай лоб». Ответ пахнет старой солдатчиной. В чем дело?
Марков резко щелкнул портсигаром и соскочил с койки.
– Ничего особенного, – он засунул руки в карманы и прислонился к стене, – неважное настроение, и ничего больше.
– Видишь ли, – после паузы сказал Мочалов, – я не люблю лезть в чужую душу. Там, дома, – он ткнул рукой в направлении кормы, – я больше не стал бы расспрашивать. Всякий имеет право на плохое настроение. У каждого свои печали. Мне, например, было очень печально расставаться с Катей. Но я оставил печаль на берегу. Сейчас я не имею на нее права потому, что в руках громадное дело, которое требует от меня ясной головы и полного самозабвения. И никто из нас сейчас не имеет права на плохое настроение. Если оно появляется, я, как начальник, должен знать его причину.
Марков пожал плечами. Левый глаз его внезапно и неприятно закосил. Мочалов знал, что это признак нервного возбуждения. Он спокойно ждал ответа.
– Спасибо за урок, – Марков насмешливо оскалил зубы, – ты хороший педагог-методист. Я это понял, когда ты только что читал нам наставления, как вести себя, когда это каждому ребенку известно.
Мочалов удивленно посмотрел на товарища.
– Почему ты злишься? Допустим, ты отлично понимаешь, как нужно себя вести за границей, ты был уже в Китае. А остальные впервые переступают рубеж. Саженко и дома не всегда умеет оставаться в границах, и я даже просил Экка заменить его Куракиным. Ему, Блицу, Доброславину небесполезно выслушать то, что я сам выслушал. Я же не обиделся. А ты сам видел, что Блиц уже наглупил.
Марков чиркнул спичку и поднес к папиросе. Пальцы у него дрожали.
– Знаешь, Мочалов, давай условимся. У меня нет никаких претензий, что ты мой начальник, хотя тебе двадцать четыре, а мне тридцать шесть. Экк был прав, назначив тебя командиром. Несмотря на молодость, у тебя есть воля и неспособность к долгим раздумьям. Я буду беспрекословно исполнять твои приказания в деле, но будь любезен мои личные переживания, не касающиеся службы и тебя, оставить только мне. Я в них разберусь лучше тебя.
– Наверное, – спокойно согласился Мочалов, – разберешься ты лучше. Но устранять вредные личные переживания удобнее вместе. Я до пятнадцати лет очень гордился одиночеством. А потом понял, что одиночество – самая мучительная поза. Я отвечаю не только за самолеты, но и за людей. И не считаю возможным, чтобы управление машиной было в руках человека с подавленной психикой.
– Что же? Ты угрожаешь не дать мне самолета? – повысив голос, спросил Марков.
– Брось, Марков! Грозить товарищам не в моих привычках, и я так вопроса не ставлю. Пока! Но если я буду видеть помеху для дела в дурных настроениях, я без всяких угроз сниму с полета любого, в том числе и тебя. А пока я просто хочу понять, что тебя раздражает.
– Похвальная настойчивость, – Марков досадливо скривился, – могу удовлетворить твое командирское любопытство.
Он сел в кресло, высоко подняв плечи.
– Я сказал, что ты не способен к долгим раздумьям. Это не в обиду, а в похвалу. Это свойство – преферанс твоего поколения. Я бы за него дорого дал. У вас ни одного корешка в прошлом и никакой раздвоенности. Вас посеяли прямо в плодоносную почву, добытую старшими, и вы пошли в рост с завидной быстротой. А мое поколение попало в эту почву, когда она была истощена и на ней произрастали только война и голодовка. Мы своими корнями первые угнездились в ней, и от нас отрезали много веток, чтобы привить вам, таким жизнеспособным, дичкам. Мы потеряли много ростков, чтобы обеспечить вам счастливый и уверенный рост под солнцем. Вероятно, старый дуб радуется, видя у своих засыхающих корней юный и здоровый дубняк. И мое поколение радуется вашему росту, но иногда у нас начинают болеть отрезанные ветви, и тогда нам становится горько, что мы поторопились родиться и для нас уже закрыты бесконечные возможности, которыми владеете вы. Ведь живут пока только раз, Мочалов! Ты понимаешь это?
– Понимаю, – кивнул Мочалов, – но не могу уяснить связь твоих слов с предыдущим нашим разговором.
Может быть, прямой связи и нет. Но ты вот счастлив, что тебя, двадцатичетырехлетнего, сегодняшнего, послали в полет, из которого семьдесят шансов – не вернуться. А я не испытываю никакого удовольствия, никакой гордости. Почему? Ты подумаешь, что я трушу. Да нет! Я летал на дровяных сараях, которые назывались по недоразумению самолетами, и не боялся. Я давно утратил эту способность. Но, видишь – у нашего предприятия могут быть два исхода: удача или гибель. И я трезво анализирую, что я получаю в том и другом случае. Удача для меня уже опоздала, года через два я прощаюсь навсегда с воздухом, и мне останется только переживать воспоминания. А гибель! Гибель для меня преждевременна, за мной большое прошлое, которого мне жаль. Ты еще не успел узнать вкуса жизни, и гибель не пугает тебя, у тебя нет биографии. Удача откроет тебе ее первую страницу, для меня она только подведет черту, конечную черту. Я не просил об этом полете потому, что мне будет крайне неприятно жить в сознании, что я уже не могу использовать свой успех. А гибнуть не хочу потому, что мне хочется еще пожить, хотя бы только созерцающим стариком. Но меня не спрашивают о моих желаниях. Меня зовут и говорят: «Завтра в полет». А мне он не нужен!
– Почему же ты прямо не сказал Экку, что не хочешь лететь?
– Почему? – Марков махнул рукой, точно удивляясь наивности Мочалова. – Экк не понял бы. Экк – дисциплина от каблуков до шлема. Он просто послал бы меня под арест и выгнал бы из школы.
Марков устало ссутулился в кресле.
– Я очень старался не только выслушать тебя, но и понять, – сказал Мочалов, – и никак не могу. Удача! Гибель! А я вот не думаю ни о том, ни о другом. Нужно спасти четырнадцать человек, и я знаю, что должен это сделать. И, вероятно, сделаю, если не помешают неодолимые препятствия или лед не раздавит людей раньше, нежели мы долетим к ним. Экк был бы прав, посадив тебя под арест. Кто должен считаться с нашими настроениями? Завтра придет война, тебе скажут: «Бери полный груз бомб и лети». Что же ты ответишь, что тебе это ничего не даст? Ты заблудился в собственных нервах. Твои мысли об удаче – это мысли Поста, Маттериа, оголтелых рекордсменов для славы и призов. В тридцать шесть лет человек считает свою биографию законченной, как кинозвезда! Тебе не стыдно? Посмотри вокруг! Хоть бы на людей, которые ведут нас, страну, в золотой век человечества. Им всем за полста. Позади стены тюрем, тундры, пытки. Что по сравнению с этим твоя «истощенная почва»? Однако у них температура, энергии которой хватит на три молодости. Они даже умирают по-молодому, за делом, во время доклада, не успев закончить подписи на новом декрете. Они не думают о биографии, а делают ее до последнего вздоха. А ты! Единственное, что может оправдать твою философию «созерцающего старца», – то, что тебя укачало. Пойди, потрави и успокойся. Иначе далеко не уедешь и действительно можешь не вернуться.
Марков вскочил. Глаз его совсем скосило, и он плясал в орбите. Землисто побледнев, он рванул дверь каюты.
– Ты сопляк! – грубо кинул он. Мочалову. – Можешь командовать, но советы оставь при себе. И вообще, пошел к черту!
Мочалов секунду смотрел на дрожащую от гулкого удара лакированную филенку двери. Потер ладонью ладонь, как от озноба, и сказал:
– Так! Если до Америки не успокоится, – придется списать.
4
Бритвенный нож шел по щеке с легким хрустом, скользя без задержки, как конек по хорошему твердому льду.
Мочалов улыбнулся сквозь сугробы мыльной пены.
– Хорошо, черти, ножи делают. Не то что наши жатвенные машины. Полрожи сорвешь, пока побреешься.
Он развинтил «Жиллет», промыл и уложил в коробочку. Намочил полотенце одеколоном и стер с лица остатки мыла. Посмотрел в зеркало – щеки сияли, как начищенные ботинки.
Из-под тугой белизны крахмального воротника шелковым змеем выползал синий, в коричневых крапинках, галстук. Галстук был куплен по дороге из порта в гостиницу, по выбору встречавшего летчиков консула. Консул категорически отверг вкус Мочалова, выбравшего подобие радуги.
– Что вы? На вас половина Хакодате сбежится смотреть.
Консул доставил Мочалова с товарищами в отель и уехал, обещав вернуться через час.
Мочалов ударил ногтем по воротничку. Воротничок издал такой звук, как будто стукнули по яичной скорлупе, и Мочалов засмеялся.
– Капиталист, черти тебя подери, – он подмигнул своему отражению в зеркале, – вот если бы Кит увидела.
Он надел пиджак и вынул из кармана свой старый бумажник. Порылся, достал слизанную, плохо отпечатанную любительскую карточку. Катя в шубе стояла на снегу аэродрома и улыбалась. Аппарат у снимавшего дрогнул – Катя была двойная.
– Полюбуйся, – сказал ей Мочалов, – муж-то у тебя – ферт!
Катя улыбалась двойной улыбкой. Мочалов вздохнул и положил Катю обратно к сердцу. Подошел к окну.
Гостиница стояла на высоком холме. Хакодате непривычным пейзажем лежал полукружием под ногами. Туманно дымился порт, и дымной синевой уходил вдаль океан. В отдельной бухте стояли строгие, четкие силуэты военных судов.
Мочалов смотрел на этот пейзаж с особенным чувством. У него создалась привычка всегда рассматривать землю с военной точки зрения. И сейчас он на глаз прикинул дистанции до какой-то высокой башни налево, до портовых крапов, до военных судов. Это могло пригодиться.
Сзади осторожно стукнули в дверь.
– Плиз, – обронил Мочалов, оборачиваясь.
Вошел консул, высокий, широкоплечий, с крупным лицом в рябинках. Из-за его спины в номер прополз ужом гибкий, извивающийся человечек. На носу у него сидели верхом толстые, шестигранной оправы очки, прикрывая такой знакомый Мочалову безвлажный блеск черных бисеринок. На плотной и чувственной верхней губе дыбом, как приклеенная, стояла черная щетинка.
Он закланялся, приседая.
Консул сделал жест в сторону японца.
– Господин Охаси, журналист. Газета «Хакодате-Симбун». Дайте интервью, товарищ Мочалов.
Японец протянул узкую, жесткую, как акулья кожа, ладонь, и одновременно левой рукой вытащил из бокового кармана блокнот и стило. С поразившей Мочалова ловкой быстротой развинтил стило и поставил вверху блокнотного листа несколько значков, похожих на следы птичьих лап в песке.
– Только помогите мне, – сказал Мочалов консулу, – боюсь, что я напутаю, выражая мысли по-английски.
Под приклеенной щетиной японца миндалинами сверкнули зубы.
– Мочаров-сан модзет выразить по-русски, – сказал он, не выговаривая, как все японцы, «л» и «ж» и по-птичьи присвистывая на «с», – я есть впорьне свободно понимать русски.
За исключением отсутствующих букв, он произносил слова совершенно правильно, с жесткой отчетливостью человека, желающего похвастать знанием чужого языка.
«Экая чертова кукла!» – подумал Мочалов, смотря в немигающие бисеринки японца, и придвинул кресло.
– Прошу садиться.
Господин Охаси сел, складываясь прямыми углами, как заводной. Мочалов взглянул на консула, стоявшего за спиной японца. Тот показал глазами на Охаси и приложил палец к губам. Мочалов, глазами же, дал знак, что понял.
– Моя газета, – заговорил Охаси, не сводя взгляда с Мочалова, – дзерает знать биография Мочаров-сан.
«Черт! Этот тоже с биографией», – вспомнил почему-то Мочалов разговор с Марковым. От этого воспоминания стало неприятно, и, нахмурясь, Мочалов спросил:
– Разве это необходимо?
– Расскажите коротко, – подсказал консул, – год, место рождения, образование.
Путаясь в словах, Мочалов с неудовольствием рассказывал.
Рука японца прыгала по блокноту, и Мочалов с любопытством наблюдал ее пляску. Движения пишущего были непривычны. Рука не шла по бумаге ровными строчками, а точно клевала блокнот, быстро и сердито.
– Моя газета дзерает знать, – опять повторил японец, – какая есть задача на порёт Мочаров-сан?
Мочалов удивился.
– Но ведь вам известно, наверное, что случилась катастрофа с нашим кораблем в полярных водах. Нужно спасти людей, и мы летим их спасти.
Господин Охаси закивал, записывая.
– Есть-ри Мочаров-сан уверен дорететь в Арктику и хорошо кончать экспедиция в дурная порярная погода?
Мочалов пожал плечами.
– Можете написать, господин Охаси, что мы не привыкли останавливаться перед дурной полярной погодой для спасения товарищей.
Японец записал. Потом, подумав, спросил:
– Какая есть порьза дря Мочаров-сан на такой опасни порёт?
Мочалов уставился на японца.
– Я не понимаю вопроса.
– Я хотерь знать, – терпеливо пояснил японец, – какая прата будет давать хозяин парохода Мочаров-сан на удача порёта?
И опять Мочалов нахмурился. Второй раз вопрос японца странно соприкоснулся с марковской философией удачи.
– У наших пароходов, господин Охаси, нет другого хозяина, кроме нашего государства. Принять участие в спасательной экспедиции – обязанность всякого советского летчика, и если бы мне предложили деньги за полет, я принял бы это как оскорбление.
– Я есть понярь, – кивнул Охаси, клюя блокнот, – русские имеют борьшая доброта. Я читарь романи писатерь Достоевски-сан. Русские имеют рюбовь дзертвовать себя на других.
– Достоевский устарел, господин Охаси. Русские перестали любить жертвовать собой. Я сам не хочу стать жертвой льдов и спасу товарищей от угрозы стать их жертвой.
– Почему Мочаров-сан так уверен на успех?
Мочалов начинал раздражаться от бездушного голоса японца и вопросов, казавшихся ему неимоверно глупыми.
– За мной и моими товарищами стоит родина, которая нам дорога, как никогда не была дорога родина прежним русским, о которых писал Достоевский-сан, – Мочалов с издевкой подчеркнул японскую концовку фамилии. – И для этой родины каждый из нас сделает все, что в пределах его возможностей. А наши возможности вдесятеро больше, чем прежде. Вы плохо знаете возможности нашей страны, – закончил он с усмешкой.
– Так… так… – Охаси быстро записал и вдруг, вскинув прищуренные бисеринки, в упор спросил: – Мочаров-сан есть ретчик военная срузба?
– А что? – Мочалов насторожился.
– Наши военные ретчики база Хакодате, – вежливо осклабился Охаси, – имеют борьшое увадзени на ваша авиация. Они дзерари би всегда встречаться со свои храбрие русские друзья и много огорчени есть иметь тому препятствие на дринная расстояния от Токио на Врядивосток.
Желтое лицо японца было по-прежнему сосредоточенно-вежливо, но в голосе прозвучал почти нескрываемый вызов, и Мочалов почувствовал, как кровь поднялась и тяжело плеснула ему в виски.
Он с трудом овладел собой.
– Я очень рад, – сказал он, низко поклонившись, – узнать такое лестное мнение о нас японских военных летчиков. Мы шлем свои дружеские пожелания вашей авиации и рады бы встречаться чаще, хотя бы для того, чтобы помогать развитию вашего молодого летного дела… Ведь ваши же летчики разбиваются каждый день, – пояснил Мочалов с издевательской предупредительностью в ответ на изумление, впервые мелькнувшее в бисеринках Охаси, – но отдаленность наших стран препятствует тесному сближению. Впрочем… расстояние от Владивостока до Токио значительно меньше, чем вам кажется.
Охаси, прищурясь, смотрел на Мочалова. Глаза стали снова замкнутыми, неразгаданными, но пальцы сжали стило, как рукоятку ножа. Медовым голосом он спросил:
– Как это есть модзет бить, Мочаров-сан? В ваших и наших географиях показана есть одинаковая дрина…
– Это может быть при условии попутного ветра с материка, – засмеялся Мочалов.
Японец поднял брови.
– А! Но попутии ветер модзет никогда не дуть.
Внутренне торжествуя, Мочалов развел руками:
– У советских самолетов, господин Охаси, всегда попутный ветер, куда бы они ни летели.
Японец помолчал. Потом с подчеркнутым интересом осведомился:
– Верно, Мочаров-сан знает, как модзно всегда иметь такой счастьриви ветер, и скадзет тайна наши бедни ретчик?
Мочалов поглядел прямо в неподвижные зрачки Охаси.
– У японских летчиков, Охаси-сан, к сожалению, никогда не может быть такого ветра. Это ветер большевизма. Он дует только для нас.
Японец молчал.
«Что? Съел, сукин кот?» – Мочалов закусил губу, чтобы не расхохотаться.
Но японец с прежней ловкой быстротой свинтил стило и встал. Он сложил губы и издал странный чмокающий звук, как бы выражая глубокое сожаление.
– О да, – сказал он, едва заметно оскаливая зубы под усиками, – бедние японские ретчики пока не имеют этого счастьривого ветра. Но они скоро узнают секрет задуть его обратно.
В последней фразе была прямая и наглая угроза, и Мочалов раскрыл рот, чтобы так же резко осадить Охаси, но тот мгновенно расплылся в сладчайшую улыбку и, приседая, кивая, нежно пробормотал:
– Я есть признатерыш. Мочаров-сан за интервью. Я имерь поручение просить Мочаров-сан, и других ретчиков-сан на чай в их честь вечером, в отерь «Фузи».
Он низко склонился. Поклонился и Мочалов.
– Если нам не помешает усталость, мы с удовольствием воспользуемся любезностью наших японских друзей, которые нас так любят.
Охаси-сан присел еще раз, чмокнул и быстрым змеиным извивом выполз из номера. Мочалов шумно вздохнул и с бешенством швырнул давно погашенную папиросу в пепельницу.
Он с размаху сел на постель, и хлипкие японские пружинки завизжали под ним.
– Как вы с ними справляетесь? – спросил он, взглянув на консула. – Я трижды взмок, как из бани вырвался.
– Ничего. Все в порядке. А вообще с ними чертовски трудно.
– Словно угорь. Так и вьется, – зло сплюнул Мочалов.
– Я два года здесь. До Японии в Польше был. Уж на что ясновельможное панство… но перед японцами – грудные младенцы. Но это только верхи – военщина, чинодралы, буржуа. Это уже полуяпонцы, полувсесветные мерзавцы, напичканные европейской дрянью. А на низах совсем другой народ. Ласковый, теплый, радушный, необыкновенно искренний, но замордованный вконец.
– Не пойду на чай! – фыркнул Мочалов.
– Нет! Это необходимо, – возразил консул, – иначе будет страшная обида. Кроме того – любопытно! Когда еще удастся попасть сюда. Пробудем у них недолго, а покамест хотите проехаться в парк за городом? Отличный парк – мастера они с деревьями возиться.
– А куда-нибудь в рабочий квартал нельзя? – спросил Мочалов.
Консул сделал отрицательный жест.
– Не стоит. Мы избегаем туда соваться. Возможна любая провокация со стороны шпиков и полицейщины.
– Ну что ж. В парк так в парк, – согласился Мочалов, – сейчас я схожу за остальными. Не мешает подышать свежим воздухом после этого Охаси.
5
Прогулка в парк не успокоила Мочалова.
Все было чудесно: и зеленовато-бирюзовое небо, и дорога, вдоль которой лежали сады, закипающие розовой пеной цветения, душистые и сказочные, и самый парк. Сосны с мощными зонтиками, громадные кедры и криптомерии, невиданные незнакомые растения. Крошечные искусственные деревья-карлики, рост которых насильно прекращался опытными садоводами, передающими тайны искусства по наследству в поколения, – все стоило внимания.








