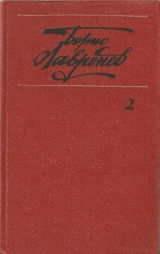
Текст книги "Собрание сочинений. т.2. Повести и рассказы"
Автор книги: Борис Лавренев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 42 страниц)
Но с самого выезда из гостиницы Мочалов обратил внимание, что за их машиной неотступно идет другая. Прибавит шофер ходу на склоне дороги, и те прибавляют и все держат одно расстояние.
Остановились у входа в парк, и вторая машина тоже стала. На корректной дистанции, метрах в двадцати.
Выходя из автомобиля, Мочалов взглянул назад и обомлел. Из той машины, один за другим, выскочили четверо Охаси-сан. Так по крайней мере показалось Мочалову. Такие же маленькие, гибкие, в очках оглоблями и с приклеенными усиками. Даже нехорошо стало на минуту.
Мочалов тихо подтолкнул консула под локоть.
– Что за черт? Тут питомник этих самых Охаси, что ли? И какого дьявола они за нами тащатся?
– Где вы Охаси увидели? – спросил консул.
– Да вот же. – И Мочалов ткнул пальцем в четверых.
Консул засмеялся.
– А! Ну, это не Охаси. Это просто шпики. А что они вам кажутся похожими на вашего интервьюера, так с непривычки все японцы как будто на одно лицо. Только когда поживешь, начинаешь разбираться в их лицах и понимать, что разница есть.
– Нельзя ли их как-нибудь того… к чертовой матери?
– Зачем? Они совершенно безвредны. Мы к ним привыкли, вроде как к личной охране. Иной раз заедешь куда-нибудь по делам, заговоришься, на улице ливень льет, а этот персонаж торчит у крыльца, весь промокнет, как песик. Я иногда от жалости им даже на чай даю.
– И берут? – неожиданно спросил у консула молчальник Блиц, видимо крайне заинтересовавшись.
– Отчего не брать? Платят им шиши, голодны они как волки.
– Все-таки неприятно, что они за нами увязались, – сказал Мочалов, – какая к черту природа, когда за тобой по пятам ходят.
Четверо Охаси в парке разделились. Двое проползли за деревьями и очутились впереди, двое чинно шествовали сзади. Так они не отставали от летчиков все время.
К концу прогулки консул предложил зайти в пагоду. В пагоде было полутемно и душно и пьяно пахло курениями. В полумраке скользкими металлическими отсветами поблескивал громадный бронзовый идол, сидевший на поджатых ногах, со свившейся змеей в правой руке, улыбаясь странной колдовской улыбкой.
Толстый, весь в тройных складках и жирных припухлостях, сторож-монах, получив от консула иену, приседая, вручил посетителям освященные цветы.
У выхода из пагоды под террасой блеснули спицы и обода десятка прислоненных к ней велосипедов. Владельцы велосипедов, частью в европейских костюмах, частью в кимоно, сидели кружком на корточках и закусывали. Закуски были разложены на развернутой газете.
– Экскурсия, верно? Японское ОПТЭ, – сказал штурман Доброславин, – у них это дело здорово раскрутить можно. Страна маленькая, а красоты много.
Консул мельком взглянул на закусывающих японцев.
– Нет! Это тоже шпики. Резервные. Послали из города на подмогу тем, которые в машине ехали. На всякий случай – все-таки шесть русских за город поехали.
Японцы, увидя выходящих летчиков, вскочили и закланялись, умильно улыбаясь, как будто встретили лучших друзей, которых давно ожидали.
Мочалов затрясся от злости и смачно сплюнул в траву.
– Тьфу! Никогда больше сюда не поеду.
Он приехал на званый чай в отель «Фузи» мрачный, неразговорчивый, замкнувшийся. Все виденное и слышанное – от Охаси до экскурсии шпиков – привело его в состояние с трудом сдерживаемого бешенства.
За чаем, приготовленным по-европейски, на обычном столе, его посадили между Охаси-сан, встретившим его как старого и хорошего знакомого, и очень красивым – посмотрев на него, Мочалов понял, что это лицо обладает непривычной, но своеобразной и тонкой привлекательностью, – изящным, как куколка, молодым японцем в форме морского летчика.
Остальных тоже рассадили между японцами. Против Мочалова уселся Саженко. Рядом с ним сидел коренастый широкоплечий человек с седой головой. Он положил на стол блокнот, вынул из кармана флакончик туши, кисточку и, взбрасывая изредка глаза на Мочалова, водил кисточкой по бумаге.
– Что он делает? – спросил Мочалов через стол у Саженко: он видел только заднюю сторону блокнота.
– Тебя рисует. Очень здорово выходит, – ответил Саженко.
– Это наш знаменитый художник Токугава-сан, – пояснил Охаси.
Токугава вырвал лист из блокнота и, встав, с поклоном подал его Мочалову.
Мочалов, иногда сам баловавшийся рисованием, – он делал обычно карикатуры для аэродромной газеты, – с любопытством взглянул на рисунок. Его поразила необычайная, почти волшебная легкость и верность линий, своеобразных, непохожих на привычные рисунки. Он вежливо поблагодарил художника.
Но все же мрачное настроение не покидало его. Он односложно отвечал на непрекращающуюся птичью болтовню Охаси-сан. Японский чай, поданный в тончайших, как папиросная бумага, чашечках, показался ему жидким и пресным (он любил пить чай крепкий, как деготь). Водка саке – кислой и царапающей горло.
Странных на вид закусок, подававшихся к чаю, он не захотел и пробовать.
Консул, заметивший его безрадостный вид, встал со своего места и из-за спинки стула сказал ему на ухо:
– Что вы в меланхолию ударились? Привыкайте. Советую обратить внимание на соседа справа. Имеет репутацию одного из лучших летчиков гидроавиации и, кроме того, вообще занятная фигура. Принц императорской крови, двоюродный племянник императора. Думали вы когда-нибудь, что придется сидеть рядом с ним в качестве почетного гостя?
– Мне-то что, – улыбнулся Мочалов, – а вот под ним, верно, стул горит.
Консул отошел. Мочалов искоса посмотрел на летчика-принца. Тот сидел, тоненький, прямой, держа чашку пальцами, похожими на желтые стебельки растения.
Мочалов повернулся к Охаси.
– Как зовут моего соседа, Охаси-сан?
– Сендзото-сан.
– Он тоже, может быть, говорит по-русски?
Господин Охаси отрицательно покачал головой.
– Нет! Он не модзет. Он модзет на английский.
Тогда Мочалов, немного робея за свое английское произношение, обратился к летчику:
– Скажите, Сендзото-сан, вы давно летаете?
Сендзото-сан вскинул длинные ресницы и улыбнулся.
– Двенадцать лет.
– Как? – Мочалов не поверил. У японца было настолько молодое лицо, что, прикидывая его возраст, Мочалов определил его года в двадцать два.
– Сколько же вам лет?
Японец опять улыбнулся и пошевелил на скатерти желтые стебельки пальцев.
– Мне тридцать лет. Я сел на самолет, когда мне было восемнадцать.
– Вот странно, – с искренним изумлением сказал Мочалов, – я был уверен, что вы моложе даже меня, а мне двадцать четыре.
– Японцы вообще медленно стареют, – Сендзото-сан опять опустил ресницы, – и всегда выглядят моложе европейцев. Вот уважаемый Токугава-сан, который нарисовал ваш портрет, – ему почти восемьдесят лет.
Мочалов с еще большим изумлением перевел взгляд на Токугава. Он никак не согласился бы дать художнику более пятидесяти.
– Трудно поверить, – в раздумье выговорил он, – отчего это?
– Климат нашей страны сходен с климатом Англии, но гораздо здоровее. А англичане тоже выглядят всегда моложе своих лет.
– Англичане?
Мочалов вспыхнул. После окончания школы он, перед отъездом на восток, заехал в Ленинград. В доме Красной Армии принимали делегацию английских горняков. Среди них был человек, поразивший Мочалова старческим и истощенным видом. Мочалов спросил его, как он решился в таком возрасте на далекое зимнее путешествие. Горняк скорбно усмехнулся и сказал: «Мне тридцать четыре года, кэмрад, но шахты и безработица делают свое дело».
Мочалов еще раз взглянул на нежное, словно замшевое лицо Сендзото-сан и подумал, что в Японии тоже не все, вероятно, выглядят моложе своих лет. Но сказать об этом собеседнику было неудобно и ненужно.
Он промолчал. Первым заговорил снова японец.
– Вы, наверное, очень знамениты в вашей стране? – спросил он, поворачиваясь к Мочалову.
– Почему? – удивился Мочалов.
– Вы так молоды, а вам дали командование такой почетной экспедицией. Надо было совершить много подвигов, чтобы получить право на это. Я заслужил за двенадцать лет хорошее авиаторское имя, и я родственник нашего повелителя, да сохранят его времена, – Сендзото-сан закрыл глаза и склонил голову, – но я не мог бы рассчитывать на такое блестящее назначение.
Мочалов покраснел. У него не было никаких подвигов, и он никогда не думал о них. Он был мальчишески горд в минуту, когда узнал от Экка о своем назначении, но теперь легшая на его плечи ответственность иногда даже смущала его. Он не чувствовал за собой никаких особых данных, кроме большой любви к своему делу, кроме инстинктивной, жившей в каждой его кровинке, преданности и верности родине. Но сказать об этом японцу не хотелось.
– В нашей авиации основной принцип – выдвижение молодых, – отделался он дипломатической фразой.
Сендзото-сан вздохнул.
– Тогда вы очень счастливые люди. Я бы много дал за право участия в таком замечательном полете. Но, к сожалению, у нас они редки, и мы чаще летаем, чтобы убивать людей, а не спасать.
Голос японца был тих и почти печален, и это еще больше удивило Мочалова. Но продолжать разговор на такую отвлеченно этическую тему показалось Мочалову опасным, и он спросил о другом.
– Если это вас не обидит, Сендзото-сан, я хотел бы знать, в чем причина таких частых катастроф с вашими самолетами? Мы очень внимательно следим за развитием вашей авиации и несколько удивлены постоянными несчастьями. Чем можно их объяснить, если это не секрет?
– Я не нахожу нужным быть неискренним с вами, мистер Мочалов, – ответил летчик после короткого молчания, – мы люди одной профессии, хотя завтра можем стать врагами, – таков закон неизбежности. Причин несколько. Одна из них та, что наша авиация стремится как можно скорей стать первой в мире. Мы летаем днем и ночью, и обилие полетов вызывает обилие несчастных случаев. Это первое. Второе, я думаю, – это мое личное мнение, – что мы первые в мире моряки, но никогда не станем первыми летчиками. Воздух – не наша стихия. Наши летчики боятся высоты. Высотные полеты – это камень, о который мы спотыкаемся. Потолок выше тысячи метров уже опасен для японца, он теряет уверенность, хладнокровие, чувство пространства и близок к катастрофе. А мы с японской настойчивостью стараемся преодолеть этот дефект. Япония вообще слишком много хочет, мистер Мочалов. Это и хорошее и опасное качество. Мы жили лучше и спокойнее, когда Япония была иной. Сейчас она живет на нервах, а это долго длиться не может.
– Я очень благодарен вам за откровенность, Сендзото-сан, – искренне поблагодарил Мочалов, почувствовав некоторую симпатию к тихому и скромному голосу Сендзото, так непохожему на змеиный свист Охаси-сан, ко всему его тонкому и печальному облику.
Вечер закапчивался. Нужно было прощаться, заехать в отель за вещами и направиться в порт для посадки на американским пароход.
Встали из-за стола. Подошел консул. Мочалов протянул руку Сендзото.
Крошечная кисть японца утонула в его здоровой мальчишеской ладони.
– До свиданья, мистер Мочалов. Сердечно желаю вам счастливого пути и успеха. Я очень хотел бы с вами встретиться опять, но так же, как сегодня. Я хотел бы избежать необходимости встречи с оружием в руках.
– Я тоже. – Мочалов стиснул пальцы Сендзото.
– Ну, как вам понравился сосед? – спросил консул, усаживаясь в автомобиль.
– Очень странный. Он несколько обелил в моих глазах японцев. Не все кошки, оказывается, серые.
– Я и обратил на него ваше внимание. У него очень своеобразные взгляды, он весь корнями в старой японской аристократии и сейчас несколько в опале у фашистской военщины. Поэтому его загнали сюда в глушь и держат под негласным наблюдением.
– Тоже, значит, шпики бегают?
– Нет, не так явно, но все же присматривают. Он пацифист, а это в Японии смертный грех.
В порт автомобиль спускался узкими уличками. Уже вечерело, зажглись огни. Бумажные стены нижних этажей насквозь просвечивали желтизной. По ним, как по экранам, блуждали тени. Женщина тонкими руками поправляла прическу, человек мешал шестом в бадье, видимо, месил тесто. Внешне открытая постороннему глазу, шла японская жизнь, скрытная и неразгадываемая. По улице брели люди в соломенных шляпах конусами, таща на плечах корзины, бежали рикши, волоча колясочки. Бумажные фонарики раскачивались от сырого теплого ветра.
Автомобиль со пшиками вежливо следовал сзади.
Свернули к пристани. Шофер повернул машину и сладко осклабился.
– Рюсски-сан, риехара.
«И этот по-русски, – подумал Мочалов, – а много ли насчитаешь у нас людей, которые знают два слова по-японски? Видно, крепко хочет Япония большой земли. И не пришлось бы встретиться с Сендзото-сан так, как нам не хочется».
Он поднялся, открывая дверцу.
Вдруг в толпе носильщиков и любопытных, ожидающих отхода парохода, произошла внезапная сумятица. Люди обернулись. Японец в синей холстинковой куртке отшвырнул стоящих у автомобиля носильщиков и вскочил на подножку. Землисто-желтое худое лицо его с неестественно блестящими глазами вплотную надвинулось на Мочалова, и он инстинктивно вскинул руку, чтобы защититься от удара. Но японец ткнул ему в руку букет и хрипло крикнул:
– Банзай Ренин! Банзай Совет!
Мочалов не успел он опомниться, а уже два полисмена, гладких и крепких, схватили человека, с необыкновенной ловкостью вывернув ему руки назад. Секунда – и они исчезли вместе с арестованным в толпе. Мочалов сделал невольное движение броситься вслед, но консул цепко ухватил его за руку.
– Стойте! Ничего особенного… Это нередко бывает в Японии. Все в порядке.
Мочалов растерянно смотрел в сторону, куда полисмены уволокли человека в синей холстинке. Кто-то тронул его за плечо. Мочалов обернулся.
– Напрасно… утопили… книгу, – медленно выговорил с усмешкой Блиц, – могла… пригодиться.
– Да! Вот этого я не ждал, – ответил Мочалов, приходя в себя.
Консул попрощался с ними у сходен. Носильщики поволокли чемоданы наверх.
– Блиц, – сказал Мочалов, – на этом пароходе в моей каюте будешь ты. По некоторым соображениям я нашел нужным переместить Маркова на твое место к Саженко и Доброславину.
– Мне… все… равно, – ответил невозмутимый Блиц, даже не пытаясь спросить, какие соображения у командира.
В каюте Мочалов сел за дневник. Он записал со всеми подробностями день в Хакодате, разговоры с Охаси и Сендзото, случай на пристани. Когда он кончил писать, пароход уже вышел в океан. Было за полночь. Блиц сладко спал.
В каюте резко пахло риполином. Мочалову захотелось подышать воздухом. Он вышел на палубу. Притихший океан голубовато мерцал со всех сторон. Вода с гулом бежала вдоль бортов. Мочалов прошелся по пустой палубе. У вентиляторного гриба темнела человеческая фигура. Мочалов приблизился.
– Марков! Ты?
– Я.
Марков обернулся. В отсвете из палубного люка лицо его показалось Мочалову осунувшимся, сразу постаревшим, бесконечно усталым. Было похоже, что он скоротечно и неизлечимо заболел.
Чтобы не взволновать его прямым вопросом, Мочалов сказал шутливо:
– Ну, как? Кончил психовать? Набушевал, как тайфун, а чего ради? Сопляком меня обложил.
Марков ответил не сразу. И когда ответил, Мочалов поразился его голосу, тяжелому и такому же больному, как его лицо.
– Я очень прошу тебя простить мне грубость. Я сам не знаю, что со мной делается. Стараюсь понять и найти корни. Но я хочу предупредить тебя – не удивляйся, если в некий час я выйду из игры.
– Да что же, собственно, с тобой творится? – спросил пораженный Мочалов.
– Я тебе говорю – не знаю. Ты извини, если я на этом прекращу разговор. Мне нужно сейчас быть совершенно одному.
Он повернулся и пошел по палубе. Удаляющаяся фигура его странно и пугающе сутулилась. Как будто шел раздавленный годами старик.
6
Утренний сон сладок. Он обволакивающе пушист, мягок и тепел, как заячий мех. В утренний сон можно укутаться, как в одеяло.
Посторонние звуки, которые врываются в утренний сон, раздражают, как раздражает струя холодного воздуха, проходящая под неплотно подвернутое одеяло.
Пит Митчелл поднял с подушки белобрысую голову и прислушался. Звонок.
Настойчивый, нахальный и требовательный.
Пит чертыхнулся, спустил ноги с постели, нашарил туфли, влез в брюки и пошел в переднюю. Проходя столовой, увидел востроносое, морщинистое лицо матери, выглянувшее в щелку двери ее спальни. Она тоже услыхала звонок, но Пит опередил ее.
Он открыл дверь. У двери стоял мальчишка в кофейной униформе с поблекшими бронзовыми пуговками – сын привратника.
– В чем дело? – раздраженно спросил Пит. – Почему вы не даете спать людям? За квартиру, кажется, заплачено!
– Извините, мистер Митчелл. Принесли почту, и мисс разносчица сказала, что вам, то есть вашей матушке, письмо-экспресс из Питсбурга. Отец приказал сейчас же отнести вам вместе с газетой. Отец говорит, что Митчелл исправный жилец и ему нужно доставлять почту вовремя.
Пит взял номер «Californian Tribune» и толстый пакет.
– Убирайтесь к дьяволу вместе с вашим почтенным отцом, – напутствовал он мальчишку, захлопывая дверь, – ваш отец чересчур исправный привратник.
Он вернулся в столовую.
– Что такое? – спросила мать, снова высовывая голову в папильотках.
– Письмо от Фэй. Готовьте кофе, ма, – сказал Пит, – все равно больше не засну.
Он сунул матери письмо, повалился в кресло у окна и развернул газету.
«С чего это Фэй взбрело в голову посылать письма экспрессом?» – подумал он с некоторым раздражением.
Фэй, сестра, жила в Питсбурге с мужем, старшим монтером городской электрической станции. Она вышла замуж три года назад, у нее уже было двое хороших близнят.
Из немногого, что любил Пит на земле, Фэй была самым любимым. Они выросли вместе, связанные крепкой детской дружбой, которая не распалась во взрослые годы. Пит был страшно огорчен, что Фэй вышла замуж в другой город. У него как будто отняли половину жизни.
Пит, пробегая глазами последние новости «Californian Tribune», старался представить себе живое лицо сестры. Она была платиновая блондинка и пробовала даже сниматься в Голливуде, но провалилась на конкурсе соискательниц кинокарьеры – у нее оказались ноги на полтора сантиметра короче установленной железными законами Голливуда пропорции красоты.
Пит усмехнулся, вспомнив эту наивную попытку Фэй прорваться в заколдованный мир кинозвезд, и вдруг испуганно вскочил.
В комнате матери что-то грохнулось с дребезгом и звоном. Раздался крик, сорвавшийся сразу в рыдания. Потеряв на бегу туфлю, Пит ворвался в комнату.
Преддиванный столик валялся на полу среди осколков стеклянной вазы. Мать лежала на диване ничком. Ее острые лопатки сходились и расходились. Захлебывающиеся придушенные стоны пробивались сквозь пальцы, сжимавшие лицо.
Пит подбежал к ней и неистово затряс за плечи. Он читал где-то, не то в романе, не то в домашнем лечебнике, что женщин для прекращения истерики нужно трясти за плечи. Это было первое, что пришло ему в голову.
Подействовало, вероятно, не самое средство, а экспрессия его применения. Мать вскрикнула уже от боли и затихла.
– Что случилось, ма? – спросил переполошенный Пит.
Мать протянула руку и показала на валявшееся на полу развернутое письмо.
– Что? – вторично спросил Пит, не понимая.
– Фэй… Фэй… Фэй, – трижды повторила мать шепотом и вдруг снова залилась рыданиями.
Пит со страхом коснулся письма. Что с Фэй? Больна? Или умерла? Не может быть. Фэй молода и здорова и пока не голодает. Электричество еще горит в городах, и безработица среди станционных механиков невелика. А может быть, Джемса в самом деле уволили? Но зачем же так реветь оттого, что человек лишился работы?
Пит пробежал первые строчки и почувствовал неприятную слабость в коленках.
Он машинально сел, дочитывая.
Фэй писала, что Джемс в пятницу, как всегда, пошел в распределительную будку проконтролировать вводы рубильников. Он взял с собой плоскогубцы с изолированными ручками, но не надел резиновых перчаток, они куда-то затерялись. Осматривая вводы, Джемс заметил на одном проводе повисший обрывок пакли и решил потихоньку смахнуть его рукавом. Но едва рукав коснулся провода, как вспыхнул, будучи пропитан смазочным маслом. Джемс сделал невольный взмах, чтобы погасить пламя, и ударил ладонью по проводу. Его отбросило к стене будки, и так он оставался, с рукой, прилипшей к проводу, пока не выключили ток. Ему насквозь прожгло череп, и сейчас он лежит при смерти. Чтобы его спасти, нужна трепанация и пересадка кости на прожженное место. Но операция требует больших денег, которых в доме нет, а дирекция станции отказывается уплатить, так как Джемс пострадал по собственной неосторожности, войдя в будку без перчаток.
Фэй просила помощи у Пита и матери.
Пит растерянно выронил письмо и замигал белесыми ресницами.
«Вот проклятое несчастье. Жаль Джемса – хороший парень. Но что делать? Откуда достать столько денег на операцию?»
Больше не осталось никаких сбережений – все проедено и отдано за квартиру.
Надежда на новогодние наградные лопнула: небывалое сокращение количества пассажиров с осени заставило компанию законсервировать в ангарах половину самолетов. Где тут думать о наградных, когда начинают поговаривать, что к лету выбросят за ворота пятьдесят процентов обслуживающего персонала. Да и чем помогли бы сто долларов, когда Фэй пишет, что за операцию и длительное лечение в клинике нужно заплатить около шестисот.
Пит погладил по голове рыдающую мать. Стало смутно.
– Ma! – позвал on растерянно. – Ma, перестаньте поливать подушку. Этим ничему не поможешь. Нужны деньги, а не слезы.
Мать всхлипнула еще два-три раза и села. Щеки у нее были красны и мокры.
– Деньги, – она страдальчески сложила руки, – это легко сказать, Пит. Где мы можем достать деньги?
– Вот и я то же говорю, – меланхолически согласился Пит, – где мы их достанем. Продать мебель?
– Вы не в своем уме, – мать удивленно посмотрела на Пита, – мы еще не выплатили за нее магазину и половины. И потом, кто купит мебель в такое время? За всю нашу обстановку, если и найдешь охотника, можно выручить не больше полутораста.
– Вот и я то же говорю, – опять подтвердил Пит, – я бы и полтораста не дал.
Он прошелся несколько раз по комнате из угла в угол, остановился.
– Все-таки, ма, готовьте кофе. Я пойду одеваться. Я буду думать, пока буду одеваться, вы думайте, пока будет вариться кофе. Потом мы за завтраком изложим друг другу то, что придумали. Боюсь только, что я ничего не придумаю. Может быть, вам посчастливится.
Он ушел в свою комнату и долго стоял у кровати, бессмысленно смотря на распяленный на спинке стула пиджак.
Фэй! Фэй! Милая беленькая сестренка. Еще три месяца назад она прислала семейную фотографию – она, Джемс и близнята. Джемс на этой фотографии такой веселый. У него большой, выпуклый, такой хороший лоб. Значит, ему прожгло лоб насквозь электричеством. Боже мой, но ведь это, наверное, дьявольская боль.
Пита передернуло от одной мысли о такой боли. Он сел и стал медленно зашнуровывать ботинки.
И почему на людей валятся несчастья! И чаще всего на хороших людей! Джемс хороший, и Фэй тоже. Оба молодые, честные, любящие. А всякой сволочи везет.
Бандит Том Сэнджер ухлопал при грабежах больше полусотни людей и спокойно разъезжает в своем автомобиле по улицам на глазах полиции, бывает ежедневно в доме у главного судьи и объявлен женихом его дочери, и никто его не трогает. За деньги врачи сделали ему пересадку кожи на кончиках всех пальцев с рук какого-то бедняка, и хотя все знают об этой операции, но Том Сэнджер перестал быть Томом Сэнджером потому, что оттиски его пальцев не сходятся с оттисками дактилоскопического бюро.
Говорят, он заплатил парию, который уступил ему свою кожу, пять тысяч долларов… Черт возьми, нет ли в сегодняшней газете объявления какого-нибудь бандита, предлагающего обменяться кожей? Пит охотно отдал бы сейчас за пять тысяч долларов кожу не только с пальцев, но и с седалища. Для спасения Фэй он не пожалел бы всей шкуры.
Но, увы, за шкуру рядового бортмеханика никто не даст и пяти долларов.
– Что же делать? – злобно спросил Пит.
Если бы был жив отец! Но что вспоминать старое? Отец не воскреснет.
Пит выпустил из пальцев шнурки ботинка и задумчиво уставился на стену, на большой портрет отца.
При отце жилось иначе. Отец не был ни бандитом, ни автомобильным или нефтяным королем, но он был главным уполномоченным крупной фирмы и зарабатывал достаточно, чтобы жить безбедно и заботиться о детях. У Фэй была учительница музыки, учительница немецкая, учительница французская, учительница рисования. Фэй проявляла большие дарования и в музыке и в живописи. Отец мечтал, что Фэй поедет учиться в Париж и забьет Падеревского и Гогена.
Пит десяти лет поступил в одну из лучших школ военного типа, возникших после большой войны и именовавшихся громким титулом «Military Academia». Этого хотел отец. Он считал, что двадцатый век будет веком беспрерывных войн и военный конструктор никогда не останется без работы. Плата за ученье в «Military Academia» была высока, но отец отказывал себе во многом, чтобы Пит умел проектировать пушки, танки и субмарины.
Но однажды все это благополучие развалилось вдребезги. Мать вызвали телеграммой на одну из маленьких станций великого пути Сан-Франциско – Нью-Йорк, где потерпел крушение трансокеанский экспресс, и по прибытии предъявили ей небольшой ящик, наполненный сырым мясом. Только приколотая к ящику табличка с нелепой надписью «почтенный мистер Уильям-Перси Митчелл» свидетельствовала, что страшная смесь ломаных костей и рваных мускулов представляет собой отца семейства Митчелл.
Когда отца похоронили, Митчеллы узнали, что дела его последнее время шли по наклону. Открылись долги. Пришлось бросить большой дом и продать коттедж в приморском курорте.
Пита взяли из «Military Academia», где его успели только выучить ружейным приемам, шагистике и верховой езде, элементарной алгебре и геометрии. К Фэй перестали ходить учительницы, а через год она сама стала ходить по соседям обучать девчонок бренчать на пианино песенки вроде: «Если б господь дал мне крылышки, я была бы красивой птичкой». Фэй хотела поступить в джаз, потому что там хорошо платили, но мать гневно воспротивилась этому. Она считала, что джаз – это нечто сродни Содому и Гоморре и девушке с порядочным именем нельзя служить в таком страшном приюте порока.
По счастью, Фэй не долго пришлось шататься по урокам. Спустя два года она встретила в доме одной из учениц Джемса, приехавшего в отпуск, и без замедления отдала ему свое сердце.
Пит пять лет прокоптел маленьким клерком в банке и, отказывая себе во всем, дьявольски скреб гроши, пока не скопил достаточно, чтобы заплатить за год обучения в летной школе. Но пять лет в темном углу банка, над расчетными книгами, сыграли с ним плохую шутку. У него ослабело зрение, и в летную школу он не попал. Но расстаться с авиацией совсем ему не хотелось, летное дело развивалось с каждым годом, в то время как остальные профессии неизменно чахли.
И Пит, с горечью плюнув на пилотаж, пошел в школу бортмехаников.
Когда он вышел из нее, ему стукнуло двадцать два года. У него, как и у всего его поколения, не было ничего позади и никаких перспектив в будущем.
Он быстро нашел работу. Его ценили. Он был аккуратен, невзыскателен, терпелив, никогда ни от чего не отказывался. Первый год он работал на линии Аляска – Канада. Он нарочно пошел на эту отдаленную линию, куда неохотно шли и летчики и бортмеханики, которых пугала дикость страны и холод. Но на этой линии можно было быстрее выдвинуться и приобрести хороший опыт.
Север понравился ему. Белая тишина, сосредоточенное молчание суровой природы, не оскверненные человеком леса были, сродни его спокойному и молчаливому нраву. Даже в снежных метелях, затмевавших небо и землю и крутивших, как пушинку, самолет, он находил свою прелесть.
Но через год он перешел в Сан-Франциско. Старела мать. У Фэй не было свободного угла для нее, да и мать предпочитала не обременять Джемса. Нужно было устроить ей спокойную старость. Пит нашел квартирку в три комнаты вблизи аэродрома и поселился со старухой.
Он был доволен судьбой. У него не было никаких требований к жизни и никаких мечтаний. Он был тих, белобрыс, некрасив, не любил пить и не ухаживал за девушками. Это только отняло бы у него время и деньги.
Бескорыстно девушки любили только развязных самоуверенных красавчиков в костюмах с модной картинки, с твердыми подбородками и томным взглядом Рудольфа Валентино. Швыряться же деньгами, чтобы привлечь их благосклонность, Пит не мог и не хотел.
Он несколько побаивался жизни. Выбитый однажды из колеи смертью отца и семейной катастрофой, он со страхом наблюдал, как все разваливалось вокруг. Особенно это стало заметно с девятьсот тридцатого года. В Америке все катилось под гору. Летела валюта, лопались и трещали банки, банкротились предприятия, которые, казалось, нельзя было подорвать взрывом всего запаса динамита, имевшегося в мире. Какая-то необъяснимая сила с ничего не разъясняющим названием «кризис» валила самые крупные репутации и самые мощные капиталы, как детские кегли. По газетам Пит знал, что эта страшная сила бушует и озорничает во всем мире. Газеты писали, что во всей этой непонятной карусели бед виноваты русские большевики.
Пит не мог этого понять. Он знал еще из школьных уроков, что Россия – это второстепенная, почти дикая страна, которая после войны и революции окончательно превратилась в разрушенную пустыню, совершенно сброшенную со счетов большой политики мира. Правда, левые газеты писали, что Россия начинает оправляться, что у нее хорошо вооруженная и многочисленная армия, называющаяся «красной», что в ней возрождаются фабрики и заводы и даже, по замыслу русского правительства, большевики надеются в одно десятилетие «догнать и перегнать» Америку. Это было настолько смешно, что юмористические журналы долгое время жили карикатурами и остротами о России, догоняющей Америку.
Но старания России создать свою промышленность никак не объясняли Питу сокрушительного тайфуна разорения и обнищания, крутившего Америку.
Русские сидели у себя, никуда не совались, не посылали армии и флота и, видимо, были глубоко равнодушны ко всему остальному миру.
Они верили в своего президента Ленина и делали свою собственную жизнь по его учению, не путаясь в жизнь других.
Учение Ленина казалось Питу чем-то вроде доктрины Монро или четырнадцати пунктов президента Вильсона. Пит даже заинтересовался этим учением, думая, что в нем можно найти объяснение катастрофам, обрушившимся на Новый Свет.
Однажды, возвращаясь с аэродрома, он увидел в окне книжного магазина на окраине красный коленкоровый томик с надписью «Избранные сочинения Ленина».
Он зашел и с некоторой робостью купил книгу. Но чтение разочаровало его. Он понимал только отдельные места, все остальное было необычайно сложно, трудно, переполнено незнакомыми Питу терминами и социальными формулировками и не имело никакого, как показалось, отношения к Америке и американским несчастьям. Из прочитанного Пит понял только, что президент Ленин был очень умный человек, знавший кучу таких вещей, о которых ни Пит, ни его знакомые не имели никакого представления. Он поставил книжку на полку, но имя Ленина осталось в его сознании окруженным инстинктивным уважением к учености президента.








