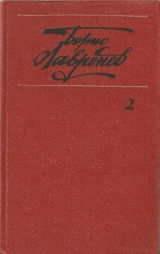
Текст книги "Собрание сочинений. т.2. Повести и рассказы"
Автор книги: Борис Лавренев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 42 страниц)
– Нет, – произнес Кудрин, – валяйте дальше. Начинаю разбираться.
– Да? Ну, хорошо. Мастер повторял почти без изменений полотно своего учителя, доводя живопись до непревосходимого блеска. Так вырабатывалась школа. Теперь не только отвергли этот принцип совершенствования по одной линии, но его стали считать чуть не преступлением. Каждый фигляр, каждый безграмотный олух стремится поразить мир, открыть свою технику, создать свою школу, исходя при этом не из принципов искусства, а из голой самовлюбленности и нахальства. Повторить сюжет и технику гениального мастера считается преступлением. За это травят и доводят людей до могилы. Вспомните недавнюю еще историю гибели Крыжицкого[8]8
Известный русский художник Константин Яковлевич Крыжицкий (1858–1911) в 1911 г. был несправедливо обвинен в плагиате. И хотя третейский суд установил ложность обвинения, вся эта история так потрясла Крыжицкого, что он покончил с собой.
[Закрыть]. Вспомните: Франс Гальс, оба Тенирса и еще десяток голландцев писали в центре своих пирушек одно и то же хохочущее лицо. И ведь тип этого лица, наконец доведенный до совершенства, стал почти нарицательным. И никто не боялся, что невежественный недоросль, думающий, что в искусстве обязательно нужно выдумывать небывалые откровения, обвинит Тенирса в плагиате у Гальса или наоборот. Они вместе создавали и совершенствовали школу. Почему до сих пор еще высоко держится наше сценическое мастерство? Да потому, что мы считаем не грехом, а доблестью повторять приемы и технику наших великих актеров, не оригинальничая ради пустого оригинальничанья… Право, не знаю, поняли ли вы меня? Александр всегда говорит, что я умею думать, но лишена возможности связно выражать свои мысли.
– Ничего, – усмехнулся Кудрин, – хоть и путано, но главное я понял. Это любопытно и, пожалуй, имеет смысл… Но, кроме всего, я спрошу вас о личном деле. А вы отвечайте напрямик.
– Пожалуйста, – просто сказала Бем.
– Я очень растревожился за эти дни. Вот оглянулся кругом, посмотрел, проверил и понял и свое и общее наше бескультурье. Хозяйство строим, а про культуру хозяйства забываем. Что толку в том, что построим небесной красоты дворцы, если в этих дворцах на наборный паркет сморкаются. Кто-то сказал, что раньше нужно потолки построить, а потом уже придумывать, какие узоры на них разводить. Чепуха! Нужно одновременно. И потолок и узор придумать, чтоб не опоздать. Фреска сырой штукатурки требует, по сухому потолку не напишешь… Ну вот. И потянуло меня к моей старой работе, к кистям. Только сомнение мучает. Не поздно ли вернуться? Сорок два года…
Маргарита Алексеевна внимательно взглянула на Кудрина и без улыбки сказала:
– Поздно? Малодушие вам не к лицу, Кудрин. Вспомните Гогена. Если вы серьезно…
– Совершенно серьезно.
– Тогда в добрый час. Поверьте, что это говорит друг… А теперь мне пора на спектакль.
– Я выйду с вами, – сказал Кудрин.
– Выйдете? Но вы же нездоровы.
– Пустяки. Мне на воздухе станет лучше.
Кудрин помог артистке одеться, и вместе они вышли на вечереющую улицу.
13
Проводив Маргариту Алексеевну до театра, Кудрин простился с ней и подозвал извозчика. У него созрело решение отправиться к Никитичу и поговорить с ним. Он любил и уважал этого старого, ясного человека, отдавшего партии сорок лет своей жизни и бывшего для Кудрина как бы партийной совестью.
Он застал Никитича дома, в маленьком чуланчике за станком. Старик, руководивший работой крупного оптического предприятия, помимо административной работы находил время для кропотливой возни с проектированием и сборкой фотообъективов и часами возился, прилаживая и пригоняя линзы в десятках комбинаций.
Никитич, не отнимая ноги от педали станка, кивнул гостю:
– Здравствуй, милый! Ну, как дела? Поуспокоился или нет?
– Почти успокоился, – сказал Кудрин, – вернее нашел способ успокоиться. Ты мне можешь уделить полчаса, Никитич?
– Ух, как шикарно! Прямо как в посольстве. «Не можешь ли уделить», – передразнил он Кудрина. – Чего там уделять. Садись вот на табурет и вываливай.
– Ладно, – отвечал Кудрин, садясь, – дело вот какое, Никитич. Бросить я хочу директорство к чертовой матери.
Никитич повернул голову, прищурился и опять стал чем-то неуловимо похож на Ленина.
– Ой ли? – протянул он. – Что так загорелось? Или тоскуешь по поэзии?
– Нет, – твердо сказал Кудрин, – не тоскую. Работа в тресте мне по душе была, и сейчас мог бы работать и честно и крепко, не скучая и не томясь. Вопрос в степени полезности. Где лучше? На какой работе больше толка?
– А разве толка мало?
– Да нет. И толк есть, и охота есть. Но есть еще большая охота. Помнишь, как я у тебя ночевал – о чем говорили.
– Помню, – не спеша ответил Никитич, смотря линзу на свет, – помню.
– Ну вот. Раз помнишь – напоминать не стану. Вот мы тогда с тобой еще утром о культуре нашей говорили, о том, что ее строить чистыми и своими руками надо. Так кажется мне, что руки мои к этому делу пригоднее, чем к тресту.
– Подумал как следует? – спросил Никитич, как будто вскользь, но в вопросе Кудрин уловил острое внимание, и это обрадовало его.
– Подумал. Много думал. Боялся, что действительно у меня уклончик какой-то такой гниловатый начался. А теперь, подумавши, знаю ясно, что иду по-правильному. Тянет к прежней работе, к профессии, к художеству. Натолкнули кой-какие случайности, кой-какие наблюдения.
– Думаешь, на художестве больше пользы принесешь?
– Больше! Твердо знаю, что больше. Пришлось вспомнить и понять, что есть у меня профессия, специальность.
Раньше как-то невдомек и ни к чему было. Когда варились в котле с семнадцатого по двадцать первый – у всех нас исчезли профессии. Это законно было – иначе нельзя было. В разрушении нужен был только пафос и энергия. Так с этим обезличением и вошли в мирную жизнь. Стали легкомысленно думать, что на постройке нового нужен только пафос да энергия. И пошли сажать людей. Маляра в издательство, швейника в кино, художника в трест. Не боги горшки обжигают. Справимся авось. За авось и расплачиваемся. Недаром уже поняли, что нужно свои кадры специалистов создавать для промышленности, потому что чужие или предают, или не понимают. В промышленности это осознали, а на культурном участке еще нет. И каждый свой человек там на вес золота. Вот я и решил.
Никитич положил линзу и покачал головой.
– Говоришь дельно, ну, а подумай, кем тебя в тресте заменить? Там мало, говоришь? Да и тут одинаково мало.
– Я знаю. Но в тресте может справиться любой партиец, который знает четыре действия, таблицу умножения и имеет сметку в голове. А я могу создавать культурные ценности и обязан их создавать.
– Ну что же. Если веришь в свою силу и знаешь, что пользу партии дашь и урона не принесешь, тогда иди. У нас того… с художествами худо. Выпускают мастеров малярного цеха, которые не знают, куда ткнуться и как в жизни свое малярство применить. Что ж, иди в какой-нибудь художественный вуз ректором – дела много, организующая, умелая рука нужна.
Кудрин отрицательно покачал головой.
– Нет. Ни на какие посты в этом деле не пойду. Я тут сам ученик. Мне и работать и одновременно учиться надо. Засяду в мастерскую, возьмусь за уголь, за кисти, за черновую работу, может не на год, на много лет, прежде чем первые плоды созреют.
– Ну, это ты вздор понес, миляга. Вздор! А партработа, а общественность?
Кудрин ответил не опуская глаз под пристальным взглядом Никитича:
– Партработа? Общественность? Партия освобождает своих писателей от будничной партийной нагрузки, считая, что их партийная работа в том, что они пишут. Партийная работа художника в его полотнах. Отрываться от общественной жизни не стану, но работа моя в полотне.
– А с массами как? С низами? Что же, в нору от них уйдешь?
Кудрин засмеялся.
– Нет, Никитич, на этом не поймаешь. Не только не оторвусь – ближе подойду. С карандашом, с альбомчиком туда, в мастерские, в цеха, в самую гущину, в самый центр. Каждый штрих, каждый замысел на их проверку, с ними вместе. Это я продумал. У меня на заводе старик есть, изобретатель Королев. Возился последнее время с механической глиномешалкой. Так вот, если мне удастся за всю мою жизнь его одного лицо написать в ту минуту, когда он об этой самой мешалке своей говорит и думает, так написать, чтоб люди почуяли, что это наш Королев, что всю жизнь, все чаяния свои, все торжество свое он в эту мешалку вложил, – вся моя задача выполнена. А если я научу десяток молодых ребят моими глазами видеть, тогда и совсем уходить спокойно можно.
Никитич стоял, ссутулясь, хмуря мохнатую вылинявшую бровь, но Кудрин видел, что под этой хмуростью процветает теплая, ободряющая ласка.
Внезапно, вскинув на Кудрина светлые зрачки, Никитич ворчливо сказал:
– В одиночку все же хочешь работать. Жертва! Подвижничество! Как бы не сорвался. Наше дело миллионное – тем и сильны. В одиночку камня не сдвинешь, а гуртом землю повернуть можно.
Кудрин ответил спокойно:
– Я и об этом думал. Казалось самому – интеллигентская замашечка. А потом вспомнил историю. Верно! Наше дело миллионное. А почему таким стало? Потому что к миллионам, корпевшим в рабстве и темноте, пришли одиночки. Пришли жертвенно, безоглядно – будить и звать. И разбудили и скрепили, спаяли в массив, равного которому не было. То же и сейчас, и я знаю, что от партийной линии я не отхожу. Иду будить и звать на постройку культуры.
Хмурая бровь Никитича подпрыгнула, и рот дрогнул под усами.
– Ухватился, мошенник, – сказал он смешливо, – поймал жар-птицу за хвост. Ну, добре. Валяй. Видать, идешь с ясным сердцем. Ну и иди. Одобряю.
Кудрин пожал руку старика.
– Спасибо, Никитич. Мне очень важно было, что ты скажешь. Твое слово – точка. Ты меня мальчишкой знал, и без твоего одобрения мне было бы трудно решиться. Спасибо.
Он ушел от Никитича облегченный, спокойный, уверенный.
Легко и широко шагал по мосту через Неву. Голубовато-зеленое трепетанье июньской ночи колыхалось над сонной рекой. Под настилом глухо шелестела вода. Маленький черный жук-буксир тянул по сиреневому шелку, надрываясь и плюя струей воды с левого борта, караван мариинок.
На середине моста Кудрин остановился и долго смотрел за реку, в легкий опаловый туман. С особой четкой зоркостью он видел эту привычную, сотни раз виденную картину и с необычным волнением понял, что опять смотрит взглядом художника, творчески запоминающим взглядом.
Свое, настоящее, дающее смысл жизни, говорило внутри него все ощутительнее и властнее.
Он усмехнулся и опять зашагал по мосту.
Дома он сел за стол, вынул лист бумаги и уж взялся за перо, как вдруг зазвонил телефон. С неудовольствием взявшись за трубку, Кудрин услыхал голос Половцева.
– Федор Артемьевич, простите, что так поздно, – но я только что узнал от Маргариты Алексеевны потрясающее известие. Она говорит, что вы уходите из треста. Что это – шутка?
– Почему шутка? – сухо спросил Кудрин.
– Да не в самом же деле. Мне Маргарита сказала мотивы, и я иначе как шутку воспринять не могу. Бросить прекрасное положение, крупную работу и идти, – куда? Вы же не маленький, чтобы вам рассказывать, как живут в наше время художники. Хлеб, вода и кислый квас на сладкое. А потом, вы думаете, мне приятно? С вами я сжился, сработался, а теперь черт знает кто у меня хозяином будет. Ну, взбрело вам заняться искусством, – неужели нельзя совместить это с трестовской работой? Нет, я не могу к вашему номеру серьезно отнестись, как ни хотите.
Кудрин злорадно засмеялся в трубку.
– А… Вот когда я вас поймал, уважаемый гражданин! Вот когда я докопался до вашей сердцевинки-то. Все вы таковы, товарищи специалисты, товарищи интеллигенты высокой квалификации. Когда со стороны говорить о бескультурье, о нехватке работников на культурном участке, о нашей неграмотности, о нашем духовном нищенстве – вы соловьями разливаетесь. А когда нужно идти в бой против бескультурья, – вмиг хвост набок и наутек, потому что в драке за культуру поголодать приходится. Потому что тут ни спецставок, ни тантьем, ни заграничных командировок, а хлеб, вода и кислый квас на сладкое.
– Позвольте, Федор Артемьевич! – услыхал он обиженный вскрик Половцева.
– И позволять не хочу. Все вы за лишнюю копейку с потрохами продадитесь. Черная работка не по вас, не сладка. Шкурники, уважаемые товарищи!
– Я вижу – вы не в духе, Федор Артемьевич. Лучше поговорим после.
– И после разговаривать не хочу. Много я от вас наслушался умных слов, сладких слов. Больше слушать не хочу. А Маргарите Алексеевне скажите, что я ей крепко кланяюсь за дружбу да за честный совет. Баста!
Половцев забормотал что-то, но Кудрин, не слушая, бросил трубку на рычажки и, откинувшись на спинку стула, захохотал.
Ему ясно представилась долговязая фигура технического директора, в костюме в калифорнийскую клетку, с капитанской бородкой заборчиком вокруг подбородка, недоуменно оставшаяся у телефона. Он ощутил мстительное удовлетворение, отплатив профессору за ядовитые и бередившие разговоры.
Нахохотавшись вдоволь, он снова взялся за перо, придвинул стул и стал писать заявление об уходе из треста.
Ленинград, февраль – сентябрь 1928 г.
РАДИО-ЗАЯЦ
1
К Нефеду Карпычу Антон попал случаем.
После недельной тряски в жестком ящике под вагоном, после второй недели, убитой на слоньбу по питерским рынкам, и ночевок в подвале разрушенного дома на Фонтанке Антон ослабел, ссохся и стал прозрачен, как желтый восковой сот.
А деваться некуда было. В деревню возврат был закрыт, – мачеха не примет, у самой пятеро голодных ртов.
И Антон продолжал бродить по улицам шатающейся тенью, ни о чем уже не думая, и ждал только, без всякого страха, с тупым безразличием, когда подогнутся наконец ослабевшие ноги и можно будет лечь на тротуар, на пыльный асфальт, чтобы ничего больше не видеть.
В этот миг и натолкнулся он на Нефеда Карпыча.
Проходил между ларьками, на широких досках которых громоздились груды снеди, и от них уже даже не тошнило, как прежде, и казалось странным, что люди едят эту снедь. У Антона уже не было желания есть.
Он остановился и прижался спиной к стенке ларька, чувствуя тяжелый звон в голове, сознавая, что еще секунда – и все придет к концу, простому и нестрашному.
Но вдруг услышал над собой трубный голос:
– Эй, ты, оголец, подпорка тебе тут, что ли? Проваливай!
Зрачки еще смогли повернуться на голос, и Антон увидел в ларьке, за горой колбас, человечью занятную морду, широкую и рябую, как яичная-глазунья, а в ней две зорких оловянных пуговицы.
Хотел было оттолкнуться от досок ларька, но поскользнулся и поехал боком на мостовую. Падая, почувствовал смутно, что поднят на воздух, как краном.
– Эй, паренек, сомлел, что ли?
Антон шевельнул белыми высохшими губами, но не мог выдавить звука.
Тогда человек с мордой-яичницей втащил его в ларек и, как комара, плюхнул на табуретку. Заворчал что-то – и о зубы Антона застучала кружка, в рот полился горячий чай, который мальчик глотал с отвращением и жадностью вместе.
– На, вот хлеба с салом, сшамай, – сказал человек-яичница, подсовывая к носу Антона ломоть.
Антон зажевал, вяло двигая челюстями, и в голове начало быстро, толчками воскресать сознание. Он попытался встать, но трехпудовая рука опять пришпилила его к табурету.
– Сиди! Разговор есть. Ты скажи вот, откедова ты такой?
– Голодный… самарский.
– Деревенский? То-то, гляжу, обличье у тебя не шкетово. Опять же голодный. Наш голодать не будет, сам стырит… Ты что ж, и своровать-то не смог?
– Я, дяденька, не можу красть, – слабо сказал Антон.
– Вона какой!.. Годов тебе сколько?
– Тринадцатый.
Яичница ухмыльнулся и задумался. Вдруг опять тяжеленная ручища легла на костлявую Антонову спину.
– Звать как?
– Тошка…
– Ну, слышь, Тошка. Твое, значит, счастье, вроде фортуна. Требовается мне малец по торговлишке помогать, куда-туда сбегать. Городского брать не хотел. Обворует, ракалья, да еще прирежет сонного. А ты, видать, вовсе еще святая халда. Так вот, хошь – оставайся. Кормежка, одежонку справлю. Только работа у меня без баловства… а ежели надумаешь слямзить что – пополам разорву… Согласен?
Антон только закрыл глаза.
2
С того дня утекло два года. Жилось Антону у Нефеда Карпыча не слишком плохо. Кормил сытно, одевать – одевал, под пьяную руку, случалось, тузил, но случалось это не часто.
А втрезве даже хвастался Антоном перед соседями-ларечниками.
– Мой-то – поискать! Два года живет – хоть бы пуговицу стянул. Ничегошеньки!
И особенно ценил Антона за уменье бегло считать на счетах и писать грамотно. Прошел Антон сельскую школу с прилежанием, а Нефед Карпыч хоть и ловок был торговать, зато подпись по полчаса выводил и взмокал, как в бане на полке.
Так и жили вдвоем, пока не нагрянула беда.
Были у Антона две причуды с точки зрения хозяина: жадность несытая к чтению и страсть к механике.
Нефед Карпыч две газеты выписывал, чтобы считали его за благонамеренного и сознательного гражданина, а не за паразитный элемент. И хоть читать вовсе не мог, но в ларьке под рукой всегда держал «Правду» и, как только видел, что идет милицейский, или фининспектор, или другая власть, распластывал перед собой газету и делал вид, что читает.
А к вечеру газета попадала к Антону и тут уж прочитывалась от доски до доски. Иногда и Нефед Карпыч просил прочесть вслух про драки в церкви или про загадочное убийство.
Антон же больше всего напирал на новости науки и техники, а особенно на радио, с тех пор как пошли писать о приемниках, громкоговорителях, антеннах.
А еще любил в промежутках между побегушками заходить в железные ряды, где в лавках лежали груды всякого ржавого лома. Валялись часовые, игрушечные механизмы, изломанные, мертвые.
В эти минуты разгорались у Антона глаза. Иногда перепадали ему чаевые от покупателей, которым таскал он покупки на дом, иногда Нефед Карпыч в праздники, после хороших оборотов, раздобрев, совал Антону рваные бумажки, которые не хотели брать покупатели.
На эти гроши и покупал Антон ломаные механизмы и все недолгое время отдыха копался в них, чистил, свинчивал, маслил, и не было для него больше радости, как услышать тиканье и потрескиванье оживших колесиков и пружин.
Нефед Карпыч потешался над его страстью, но не мешал.
– Чистый клад у меня дуралей мой. Пятнадцать годов ведь. Другой в это время цигарку в зубы, клеш на полпанели распустит и с любой гуляет, а он все в хламе роется, – говорил он довольно соседу.
Но от механики и стряслась Антонова беда.
Однажды, вернувшись вечером, принес Нефед Карпыч под мышкой большую лакированную шкатулку черного дерева, а по крышке врезаны на ней искусным художником из цветных кусочков дерева и камней цветущая вишневая ветка и на ней воробьи.
– Лафовая работа! – щелкнул пальцем Нефед Карпыч, – японца делал. А главное – в ей секрет. Верхняя крышка попросту открывается, на защелке, а под ей железная, внутренняя, и тут секрет и есть. Пока до секрета не дойдешь, хоть топором бей, не откроешь – железо толщины в полпальца. Купил у генеральши за рупь на барахолке.
Антон взглянул на красивую шкатулку мельком и рассеянно и опять погрузился в чтение книжки. Книжку он выпросил у знакомого студента. Книжка была про радио, и Антон мучительно хмурил брови, стараясь понять, как делать приемник. Уже больше месяца как приемник не давал ему спать. Он ходил и грезил маленькой коробкой, из которой звучат человеческие голоса и чудная музыка. Но книжка, взятая у студента, была написана по-ученому, мудрено, и Антон с досадой захлопнул ее.
Он встал, чтоб отнести ее студенту, и увидел, как Нефед Карпыч клал шкатулку на верх печи, где были вынуты кирпичи.
«Чего это он шкатулку туда попер?» – подумал Антон, выходя.
Вернувшись, он прибрал комнату, вымыл стаканы и залег спать. Завтра было воскресенье – свободный день, и ему хотелось отоспаться.
Проснулся он утром, когда Нефед Карпыч ушел к обедне отмаливать торговые грехи. Взялся было за какую-то машину, но вдруг остановился.
Случайно вспомнилась вчерашняя шкатулка с секретом.
«Вот досада! Читал про радио и не спросил хозяина, какой секрет», – подумал он. Постоял минуточку раздумывая, взял табурет и полез на печь. Доставая шкатулку, повернул ее боком, что-то внутри затарахтело и покатилось.
– Должно, чего положил хозяин.
Решил поставить шкатулку на место, но вдруг желание посмотреть секрет пересилило.
– Ничего ж ей не сделается. Погляжу и поставлю, пока хозяин у обедни.
Верхняя деревянная крышка отошла легко от нажима защелки. Под ней открылся плотный стальной пласт, весь в прорезах, выступах и пуговках.
Антон нагнулся заинтересованный. Долго пыхтел, возился, вертел и дергал каждый выступ и неожиданно нажал в одном углу, потянул в другом, крышка отпрыгнула с лязгом и звоном, шкатулка от неожиданности вывалилась из рук, и на пол посыпались сокровища Нефеда Карпыча – колечки, браслеты, серьги, часы, под которые он давал ссуды проевшимся гражданам интеллигентного звания.
Антон стоял, остолбенев, и с ужасом глядел на рассыпавшиеся вещи. Опомнился, поспешно нагнулся, схватил браслетку, но вдруг дверь открылась, и на пороге показался хозяин.
Антон открыл рот, чтобы объяснить, что это вышло нечаянно, но не успел.
Молотовый кулачище Нефеда Карпыча сбил его с ног.
Через неделю Антона судили в комиссии для несовершеннолетних.
Нефед Карпыч, дворник и милицейский показали в один голос, что видели вскрытую шкатулку и золотые вещи на полу, а милицейский добавил, что, когда он пришел в квартиру, в руке у мальчика была браслетка.
На вопрос члена комиссии, сознается ли он в совершенном, Антон ответил, что шкатулку брал, но не знал, что в ней, вещами не интересовался, а только хотел посмотреть секрет.
– А зачем в руке у тебя была браслетка?
Антон хотел объяснить, что он намеревался собрать вещи обратно, но подумал, что ему не поверят, и смущенно промолчал.
Председатель комиссии объявил решение. Дело о побоях, нанесенных хозяином Антону, и пользовании его трудом без оплаты передавалось инспектору труда, но Антона за кражу со взломом определили отдать на исправление в детский дом «для правонарушителей».
3
«Исправляемые» встретили Антона сурово и неприветливо.
Когда надзиратель вышел, к нему подошел высокий парнишка с жестокими синими глазами, прищурился в упор и спросил:
– За бока или за коку?[9]9
За часы или за кокаин.
[Закрыть]
Антон вытаращил на него глаза.
– Чего? Я не понимаю.
– А может, в трамвае чехлы чистил?
– Я по ошибке, – тихо сказал Антон.
Судков прищурился еще больше, хохотнул и сделал ладонью Антону вселенскую смазь, от которой защемило щеки и нос едкой болью, бросил с презрением:
– По ошибке? Вша! Труперда деревенская!
Кругом сидел бывалый городской народ. Говорили на своем, непонятном языке, ругались, хвастались подвигами: кражами, драками. Один двенадцатилетний даже за убийство отсиживал.
Антону было страшно и смутно с ними.
Несмотря на то, что хорошо кормили, ласково обращались, учили в школе и в мастерских, большинство обитателей ненавидели работу и ученье.
И в разговорах мечтали об одном: бежать или скорее вернуться к легкому труду, к вольной бесшабашной жизни.
Она шла где-то там, за толстыми каменными стенами реформаториума, шумная, живая, буйная, и сюда, в камеры, как в склеп, долетали только ее слабые отголоски из рассказов вновь прибывающих.
Антону казалось, что все сидящие здесь уже умерли и больше никогда не услышат настоящего голоса жизни.
Его соседом по койке оказался четырнадцатилетний мальчик болезненного вида. По вечерам его трепала лихорадка, и он лежал молча, поблескивая воспаленными глазами. Звали его все «монтером».
В конце второй недели Антон как-то разговорился с ним.
– Гляжу я на тебя, – надломленным голосом сказал монтер, теребя худыми пальцами одеяло, – и дивлюсь. Какой тебя леший сюда занес? Попал, должно, от дурости. Как тебя с такой головой угораздило шкатулку ломать? А?
Антон вспыхнул.
– Да говорю ж тебе, что и не думал я красть. Только в секрете все и дело. А хозяина и принеси в самую минуту. Ну, известное дело, – испужался. Разве его уверишь, что мне его золото ни к чему. Два года ведь жил, мог дотла обчистить, а я копейки не взял. Все дело в штукатулкином секрете.
Антон заволновался и, размахивая руками, стал рассказывать монтеру, как он возился с машинками. Монтер слушал внимательно, впалые щеки порозовели.
– Вон как! – сказал он, – я тоже по этой части шел, при дядьке работал, электромонтерствовал. Хорошо жилось, да компания подкузьмила. То конфеты, то в кину. Так и начал понемножку по квартирам, где с дядькой работали, тырить что придется. А сорвался на часах, что у одного доктора со стола угреб.
– Ты что ж, значит, электричество проводил?
– Всяко бывало. Последнее время мы больше радио устанавливали, – мечтательно ответил монтер.
Антон быстрым движением вцепился ему в руку.
– Радио? – закричал он, – ты радио умеешь делать?
– А что? Ты спятил, что ли? – вырвал руку с недоумением монтер.
Антон смотрел на него, дрожа от волнения и неожиданности.
– Ты и приемники умеешь делать? Настоящие, чтоб слышно было?
– Вот хазина соломенна! – сказал монтер усмехаясь, – а что ж ты думал, все такие святые дурачки, как ты? Я, брат, с усилителями умею работать, – закончил он с гордостью.
– А что для него нужно… для приемника? – почти задохнувшись восторгом, спросил Антон.
Монтер посмотрел на него пристально.
– Да ты никак и вправду рехнулся? Зарядил, как попка… приемник… приемник. Может, здесь хочешь поставить приемник, с Лиговки от шпаны каблограммы с поздравлением получать? Вот стоеросовый! Иди к черту! Я спать буду, – он отвернулся к стене и натянул на нос одеяло.
4
Но на следующее утро Антон снова взялся за соседа.
– Монтер, а монтер!.. А ты слыхал, как оно разговаривает?
– Кто?
– Ну радио.
– Опять ты с радио!.. Ясное дело, слыхал. Москва поет, а тут тебе в трубке как рядом. И пение и музыка. Балалайка здорово шпарит.
Антон шагнул к приятелю. Лицо у него налилось румянцем, и он тихо сказал:
– Монтер… давай делать приемник.
– Здесь? Да ты поди к доктору. Вот орясина! – рассмеялся монтер, но глаза его тоже зажглись странными искрами. – Как ты его сделаешь? Матерьял нужен, деньги нужны.
– Сколько?
– Рублей восемь. Приемник – он чепуху стоит, а трубки сам не сделаешь, покупать надо. Если б на воле, с телефона бы срезал где, а тут не возьмешь.
Антон задумался.
– А хорошо бы сделать. Сидим мы тут как дохлые, только и жизни, что в сад на прогулку. Очертел он, сад этот. От скуки пропадаем. Всего и дела, что воровством хвастают ребята да похабное несут, аж тошнит. А тут бы тебе каждый вечер музыка, поют тоже вот хорошо. У нас в деревне учительша в школе пела, просто как иволга.
– Да что ты прилип, как банный лист. Я сделать не прочь. Достань деньги, сделаю, – и монтер раздраженно отошел.
Эту ночь Антон не спал. Вертелся на койке и томительно думал. Под утро уже лукаво улыбнулся и уснул.
Перед обедом, по выходе из мастерской, он торжественно показал монтеру пустую консервную коробку, привязанную на веревке к короткой палке. На коробку была наклеена бумага, а по ней крупно выведено: «Граждане, положите сколько можете, для заключенных детей на радиоприемник».
– Что ж ты с этим делать хочешь? С луны деньги удить? – засмеялся монтер.
Антон молча подтащил его к окну, выходившему на улицу.
– Буду спускать в форточку, как кто идет. Двое обругаются, третий даст.
– Вот черт, – хмыкнул монтер, – и придумал же! Орясина орясиной, а обмозговал. Пробуй!
Коробка скользнула в форточку и сползла вниз к носу какого-то прохожего. Наступила тишина, шаги оборвались, и вдруг послышалась крепкая ругань.
– Не выйдет, – сказал монтер, сразу угаснув, – брось!
– Говорю, выйдет! Вот еще кто-то идет.
Снова закачалась коробка. После тишины с улицы донесся женский смех и голос: тащите.
Коробка взвилась. На дне ее лежал двугривенный.
– Я тебе говорил, что есть люди на свете, – убежденно сказал Антон.
Пять дней Антон и монтер проводили свободное от занятий время у окна, вылавливая пожертвования. Дело шло с переменным успехом.
Опять многие ругались, какой-то прохожий даже оборвал коробку и пришлось привязывать другую, но все же под конец собралось четыре рубля тридцать копеек.
Мало-помалу другие обитатели реформаториума тоже ввязались в Антонову затею, сперва с насмешками и руганью, но понемногу интерес к говорящей музыке, о которой многие слыхали впервые, затянул их всерьез.
У коробки установились дежурства.
Вечерами ребята собирались у койки монтера и, сопя от напряжения, слушали спутанные объяснения мальчика и разглядывали неуклюжие чертежики схем, нахимиченные карандашом на лоскутах бумаги.
Жесткоглазый парнишка Судков, привыкший главенствовать над всеми, хотел было отобрать собранные деньги, но ребята подняли бузу и пригрозили, что накроют всем гуртом и забьют до смерти.
Затея Антона привлекала все новых и новых сторонников.
– Конечно, здорово! – говорили ребята, – все одно вечером слоны слоняем, сами себе надоели, а тут такая штука – и поет тебе, и играет.
– Вот семь целковых наберем, тогда попрошу заведующего, чтоб купили все нужное, и в мастерской сработаем как игрушечку, – разъяснял монтер.
На следующее утро коробка, спущенная дежурным в третий раз, очень долго висела неподвижно. Дежурный решил, что прохожий не заметил, и потянул, но услыхал окрик:
– Погоди. – Немного спустя он услышал: – Подымай!
В поднятой коробке оказалась записка. Все сбежались и стали разворачивать листок, затаив дыхание.
«Мальчата! Я инженер, работаю по радио. Рад счастливой встрече. Вы умеете сделать приемник? Может, нужно помочь? Пишите».
– Стой, братишки! Давай карандаш, сейчас я ему все досконально насчет техники, – засуетился монтер.
Он быстро начиркал ответ: «Товарищ енжинер. Приемник умеем делать, толька нет дениг штоб усилитель, без его плоха слышный. Памагите».
Коробка вернулась с запиской: «Ждите завтра оклика».
– Вот это подвезло, – сказал довольно монтер, – инженер, – он собаку съел, он во что сделать может.
Но наутро все стояли у окошка, ждали, а оклика не дождались. На занятия пошли мрачные и подавленные. Сообразили, что инженер надул, и проклинали его на все лады.
Среди работы дверь мастерской открылась и на пороге появился заведующий, а за ним какой-то неизвестный рыжеватый высокий человек в сером пальто.
Заведующий оглядел мастерскую и сказал:
– Антон Заровняев, Василий Ключарев, подойдите сюда!
Антон и монтер подошли, недоумевая.
– Вы почему ничего не сказали мне, что затеяли делать радиоприемник? Почему вы занимаетесь попрошайничеством? – строго спросил заведующий, но под усами его забегала лукаво-добрая усмешка.
Антон и монтер стояли повеся головы. Было ясно, что инженер не только надул их, но еще и нажаловался.
– Нужно было сказать сразу, – продолжал заведующий, – я бы разрешил вам и дал бы материал.
Антон и монтер молчали.
– Ну, ничего. Не вешайте головы. Вот товарищ Татаринов решил заняться с вами.
Человек в сером пальто поздоровался с мальчиками за руку.








