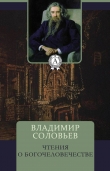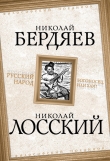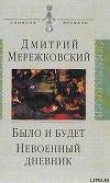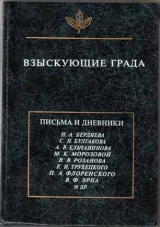
Текст книги "Взыскующие града. Хроника русской религиозно-философской и общественной жизни первой четверти ХХ века в письмах и дневниках современников"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 49 страниц)
«Исход русского социализма – Церковь <… /> Мы верим в возрождение Церкви, мы его страстно желаем и жаждем и к нему-то и ведет ход русских событий. Душа начатой с хоругвями, под пение „Отче наш“ революции русской – в грядущем возрождении Церкви. Это возрождение вберет в себя всю правду освободительного движения, примет всю многовековую культуру всего человечества, в жизни <… /> осуществит больше, чем даже намечается в самых смелых мечтах социализма, и явит миру лик истинной и полной Христовой Правды»[27]27
В.Свенцицкий, В.Эрн. Взыскующим Града. №1, М.1906.
[Закрыть]
Христианско-общественное движение объявило "непримиримую войну черносотенству и шовинизму. Поддерживая прогрессивно-демократические партии, оно будет бороться с теми философско-реигиозными атеистическими идеями, с которыми обычно связывается проповедь этих партий"[28]28
С.Н.Булгаков. Неотложная задача. М., 1906, с.35—36.
[Закрыть].
В кругах радикально настроенной интеллигенции идеи "Христианского Братства Борьбы" и булгаковского неосуществленного "Союза христианской политики" были восприняты враждебно: Церковь, поддерживавшая ненавистное им самодержавие, была для них оплотом консерватизма и реакции. Так, например, марксистская газета "Новости" в ряде статей призывала радикалов встать в оппозицию к предполагаемым церковным реформам, ибо всякий "свободомыслящий" желал бы видеть Церковь подчиненной государству, а не свободной и, следовательно – активной и влиятельной.
В 1905 году С.Булгаков при участии А.Глинки (Волжского), В.Эрна, В.Свенцицкого, В.Зеньковского и издателя В.Лашнюкова основал в Киеве независимую религиозно-общественную газету "Народ", просуществовавшую всего две недели. В программе "Народа" утверждалось, что это "орган не только местный, киевский, но прежде всего, всероссийский[29]29
Народ. 1906, №1, с.1.
[Закрыть]. Из перечня сотрудников было видно, что газета было попыткой продолжения «Вопросов жизни», но с более ярко выаженной общественной направленностью. В церковной области газета выступала за реформу института иерархического управления и свободу совести, в области политической выдвигала конституционно-демократическую программу, выступая за широкое народное представительство, поддерживала только что возникшее профсоюзное движение.
В следующем 1906 году С.Булгаков, В.Свенцицкий и В.Эрн делают очередную попытку издания собственного религиозно-общественного журнала "Свобода и религия" В нем предполагаось сотрудничество как представителей "левых" кругов освободительного движения, так церковных деятелей, оппозиционно настроенных Синоду: священников Г.Петрова и К.Аггеева, архимандрита Михаила (Семенова), А.В.Карташева. И на этот раз проект терпит неудачу из-за отказа в финансовой поддержке. Одако энергичным "христианским социалистам" в том же году удается начать издание "Религиозно-общественной библиотеки", состоящей из трех серий популярных брошюр: для интеллигенции, для народа и переводы работ иностранных авторов по вопросам взимоотношений церкви и общества. Кроме того, в течение двух последующих лет вышли в свет два религиозно-общественных сборника "Вопросы ре /17/
лигии, где, в частности, опубликованы работы В.Эрна «Церковное возрождение», «О жизненной правде».
В конце 1907 года при книжном магазине "Братство", через который распространялись брошюры "Религиозно-общественной библиотеки" начал выходить журнал "Живая жизнь"[30]30
Живая жизнь. Орган критического осмысления настоящего. Редактор В.Д.Гукович. №1 вышел 27.11.1907, №4 (последний) – 30.01.1908. В.Эрн опубликовал здесь следующие статьи: Христианство и мир, №1, с.15—46; Старообрядцы и современные религиозные вопросы, № 1, с. 9—14; Социализм и проблема свободы, №2, с.40—87. См. Колеров М.А. Издания «Христианского Братства Борьбы» (1906—1908). Новое Литературное обозрение. 1993, № 5.
[Закрыть], который закрылся на 4-ом номере. С ноября 1906 по июль 1907 г. Петербурге издавался еженедельник «Век»[31]31
Век. Еженедельник религиозно-общественной жизни и политики. Редактор В.А.Никольский. При участии А.Карташева, архим. Михаила Семенова, свящ. К.Аггеева, В.Свенцицкого, В.Эрна, А.Ельчанинова, П.Флоренского, С.Булгакова, Н.Бердяева, С.Аскольдова, Д.Философова, В.Розанова. Выходил с 12.11.1906 по 8.07.1907.
[Закрыть] и приложение к нему «Церковное обновление»[32]32
Церковное обновление. – двухнедельное приложение к «Веку», выходившее с ноября 1906 по март 1907 г.
[Закрыть], на страницах которых Свенцицкий и Эрн вели острую полемику с петербуржскими сторонниками «нового религиозного сознания»: Мережковским, Гиппиус, Розановым, Философовым, Карташевым. Однако и этому изданию не суждена была долгая жизнь. На смену ему появился журнал «Религия и жизнь»[33]33
Религия и жизнь. Редактор-издатель В.А.Говоров. В.Адлер <В.Эрн />. Из диалогов о современности. О смирении и свободе.№1, 1908, с.37—41; М.Каблуков, свящ., В.Эрн. К вопросу о современном значении старообрядчества (из газетной переписки), №1, с.75—82;Г.Векилов <В.Эрн />, с.3—5;В.Адлер <В.Эрн />. Храм или биржа, №1, с.11—13.
[Закрыть], просуществовавший еще меньше. Этот журнал был последней попыткой организации самостоятельного органа интелигенции христианско-либерального направления. Его редакция распалась вследствие скандала, возникшего вокруг самого активного проповедника «христианского социализма», одного из основателей ХББ Валентина Свенцицкого. В 1908 году он выпустил в том же издательстве Ефимова, где под его редакцией печатались брошюры «Религиозно-общественной библиотеки», свой роман «Антихрист», где весьма гротескно описал себя и своих друзей «христианских-социалистов».
По свидетельству современников нравственная репутация Свенцицкого в тот период действительно была сомнительна, о чем свидетельствует плохо поддающаяся интерпретации истерическая сцена, описанная в письме Эрна Ельчанинову (61) [Здесь и далее цифры в круглых скобках отсылают к порядковым номерам документов, публ. в наст. изд.]. Выход в свет романа и по меньшей мере двусмысленное поведение Свенцицкого стало причиной раскола в составе редакции «Живой жизни», повлекшего закрытие журнала и самороспуска ХББ, которое фактически к концу 1907 года уже сошло с российской политической сцены. После этого московские «социал-христиане» отказались от дальнейших попыток издания собственного печатного органа и разбрелись по изданиям либерально-демократического направления. Их философские статьи печатались в «Вопросах философии и психологии», общественно-публицистические и критические в «Русской мысли», редакторами которого с 1907 г. стали Кизеветтер и П.Б.Струве. Последний с 1910 г. уже полновластно руководил журналом. Сочувственно относился к участникам ХББ и редактор выходившего с 1906 по 1910 г. «Московского еженедельника» кн. Е.Н.Трубецкой[34]34
М.Меерсон-Аксенов. Книгоиздательство «Путь». Машинопись.
[Закрыть].
С самого начала своего возникновения ХББ находилась под сильным влиянием идей С.Н.Булгакова, который в тот же период, в попытке осуществить мечты В.С.Соловьева выступил с программной статьей "О Союзе христианской политики"[35]35
С.Булгаков. О Союзе христианской политики", Вопросы жизни, №.8,1905.
[Закрыть], где сформулировал проект и программу христианско-социалистического движения, укорененного в церкви, которому так и не суждено было осуществиться. Как признавал впоследствии сам автор, для основания такого движения "у меня самым очевидным образом не хватало ни воли, ни уменья, ни даже желания, это предпринято было, в сущности, для отписки, /18
ради самообмана ut aliquid fiori videatur [и чтобы что-то сделать. – лат.]. Сам я очень скоро разочаровался и отказался от этой затеи"[36]36
Прот. Сергий Булгаков. Автобиографические заметки (посмертное издание). ЫМЦА-ПРЕСС. Париж, 1946, с.79.
[Закрыть]. Это отношение, впрочем, было высказано много лет спустя, незадолго до смерти, когда отец Сергий решительно пересмотрел свою жизнь. Во времена же описываемых событий он вполне серьезно и сочувственно относился к основателям Братства, особенно к В.Эрну, что не мешало ему, однако, как профессионалу в области политической экономии критиковать вопиющий утопизм их программных построений в этой области на фоне эсхатологических ожиданий, выраженных в преамбуле. Политико-экономическая часть программы ХББ была фактическим сколком с программ левых партий. Она включала в себя требования демократической республики, в которой каждому гражданину были бы гарантированы основные права и свободы.
Московское Религиозно-философское общество
памяти Вл.Соловьева
На грани веков в обеих столицах и в губернских городах одно за другим стали возникать литературные, философские, религиозные и мистические кружки, общества и собрания. Здесь по словам Андрея Белого встречались "люди нового сознания", услышавшие подземный гул, "звук грядущей эпохи". Одни из них обратили свои взоры к Церкви, другие, оттолкнувшись от нее,—углубились в самостоятельные религиозно-мистические поиски. Некоторые из этих кружков выросли в признаные религиозно-философские общества со своими издательствами, оставившими нам труды деятелей русского религиозного возрождения. Между обществами сразу же возникли связи и взаимовлияния. Особенно глубоким это взаимопроникновение было между кругами религиозной общественности обеих столиц. Москвичи Эрн и Свенцицкий будучи сотрудниками "Вопросов Жизни" часто бывали в северной столице. Там они вошли в "Братство ревнителей церковного обновления", основанное клириками и представителями церковной интеллигенции. Основанное ими чуть позже ХББ в свою очередь оказало влияние на петербургское движение за церковное обновление. Эрн и Свенцицкий принимали участие в петербургских Религиозно-философских собраниях и имели там значительное вияние. Одновременно в Москве они посещали "среды" на квартире П.И.Астрова, юриста по профессии, где регулярно собирались люди разных поколений с непохожими взглядами и интересами: поэты-символисты Андрей Белый, Сергей Соловьев, Эллис; философы: Николай Бердяев, Федор Степун, священник Григорий Петров; теософы, журналисты, либеральные политические деятели.
Продолжались занятия в секции Истории религии при Московском Университете, на одном из заседаний которой присутствовал Александр Блок. Еще большее значение имели такие же собрания, проходившие с 1905 года в доме Маргариты Кирилловны Морозовой, состоятельной вдовы промышленника-мецената Михаила Абрамовича Морозова и дочери другого разорившегося мецената /19/
Кирилла Мамонтова. Смерть мужа, по словам Андрея Белого, была для нее началом новой эры; до этого она—"дама с тоской по жизни", а после—"активная деятельница музыкальной, философской и издательской деятельности Москвы", хозяйка салона, ставшего одним из интелектуальных центров первой столицы. Она обладала редким даром примирять самые крайние мнения, делать возможными встречи и дискуссии между идейными противниками, занимавшими крайне противоположные общественно-политические позиции, «мирить и приучать друг к другу вне ее салона непримиримых и неприручимых людей»[37]37
Андрей Белый. Начало века, с.461.
[Закрыть] М.К.Морозова занималась широкой культурно-благотворительной деятельностью. Регулярные дотации получало от нее Московское психологическое общество при Московском Университете, издававшее журнал «Вопросы философии и психологии», она была председательницей Москомского музыкального общества. Ученица А.Н.Скрябина, она на протяжении ряда лет материально поддерживала композитора, а после его неожиданной кончины учредила фонд помощи его семье. Без ее материальной поддержки не смог бы выходить орган либеральной московской профессуры «Московский еженедельник», редактируемый кн. Е.Н.Трубецким.
С весны 1905 года дом М. Морозовой (на Смоленском бульваре, позже – на Воздвиженке, затем в Мертвом переулке в районе Пречистенки) стал местом политических собраний. Здесь встречались и спорили будущие кадеты с бундовцами и социал-демократами, неокантианцы с марксистами, ницшеанцы со сторонниками христианской общественности. Здесь излагал политическую программу русского либерализма лидер будущей партии Народной Свободы П.Н.Милюков, недавно вернувшийся из эмиграции. Приведем его воспоминания.
«После дворянского особняка и студенческой мансарды я получил приглашение сделать доклад в купеческом дворце на Зубовском бульваре[38]38
Поправка: в этот период М.К. жила в особняке, расположенном на углу Смоленского бульвара и Глазовского переулка.
[Закрыть] для гостей хозяйки, вдовы Михаила Морозова, рано умершего дилетанта истории, Маргариты Кирилловны. Это уже было подтверждением достигнутого в Москве успеха. Обстановка здесь была совсем иная, нежели в особняке Новосильцевых. Великолепный зал, отделанный в классическом стиле, эффектная эстрада, нарядные костюмы дам на раззолоченных креслах, краски, линии – все это просилось на историческую картину. Картина и была задумана, не знаю, хозяйкой или художником. Пастернак принялся зарисовывать эскизы и порядочно измучил меня для фигуры говорящего оратора на эстраде. Ниже эстрады, на первом плане, должны были разместиться портретные фигуры гостей хозяйки вместе с нею самой. Однако картина не была написана: вероятно, большое для тех дней событие сократилось в размерах перед другими историческими картинами и новизна моды прошла.
Очаровательная хозяйка дома сама представляла интерес для знакомства тем более, что со своей стороны проявила некоторый интерес к личности оратора. Несколько дней спустя я получил визит ее компаньонки, которая принесла пожертвование в несколько тысяч на организацию политической партии. Именно этому вопросу я посвятил свою лекцию в ее дворце: эта тема была обновлена новым материалом после наших программных апрельских работ и "освобожденческих" влияний. Меня просили также руководить ориентацией хозяйки в чуждом ей лабиринте политических споров. От времени до времени я начал замечать присутствие Маргариты Кирилловны на наших политических собраниях. /20/
Наконец она опригласила меня побеседовать с ней лично. Беседы начались и вышли далеко за пределы политики, в неожиданном для меня направлении. Я был тут поставлен лицом к лицу с новыми веяниями в литературе и искусстве, с Москвой купеческих меценатов. Это был своего рода экзамен на современность в духе последнего поколения.
Маргарита Кирилловна, <… /> молодая, по купеческому выражению, "взятая за красоту", скоро овдовевшая, жаждущая впечатлений и увлекающаяся последними криками моды, она очень верно отражала настроения молодежи, выросшей без меня и мне чуждой. В наших беседах, очень для меня поучительных, мы постепенно затронули все области новых веяний, и везде мне приходилось не только пасовать, но и становиться к ним оппозицию. Началось, конечно, с общего философского "мировоззрения". Немецкое слово Щелтансцчауунг давно сделалось традиционным в наших интеллигентских салонах. Но оно принимало разный смысл, смотря по господствующей философской системе. Мой "позитивизм" и даже мой "критицизм" остались теперь далеко позади. Молодые последователи Владимира Соловьева развивали его этические и религиозные взгляды. Я еще пытался оградиться от метафизики при помощи Фр. Ланге. А моя собеседница прямо начинала со ссылок на Шопенгауэра. Ее интересовал особенно мистический элемент в метафизике, который меня особенно отталкивал.
На философии, впрочем, мы недолго задержались, перейдя отсюда в область новейших литературных веяний. В центре восторженного поклонения М.К. находился Андрей Белый. В нем особенно интересовал мою собеседницу элемент нарочитого священнодействия. Белый не просто ходил, а порхал в воздухе неземным созданием, едва прикасаясь к полу, производя руками какие-то волнообразные движения, вроде крыльев, которые умиленно воспроизводила М.К. Он не просто говорил: он вещал, и слова его были загадочны, как изречения Сивиллы. В них крылась тайна, недоступная профанам. Я видел Белого только ребенком в его семье, и все это фальшивое ломанье, наблюдавшееся и другими – только без поклонения, – вызывало во мне крайне неприятное чувство.
От литературы наши беседы переходили к музыке. Я былообрадовался, узнав, что М.К. – пианистка, и в простоте душевной предложил ей свои услуги скрипача, знакомого с камерной литературой. Я понял свою наивность, узнав, что интерес М.К. сосредотачивается на уроках музыки, которые она берет у Скрябина. Я не имел тогда понятия о женском окружении Скрябина, так вредно повлиявшем на последнее направление его творчества и выразившемся в бессильных попытках выразить в музыке какую-то мистически-эротическую космогонию. Тут тоже привлекал М.К., очевидно мистический элемент и очарование недоступной профанам тайны.
Об изобразительных искусствах мы не говорили. Широкий коридор морозовского дворца представлял целую картинную галерею, и я с завистью на ней задерживался. Но не помню, чтобы модернизм преобладал в выборе картин. Кажется, увлечение московских меценатов новейшими течениями началось несколькими годами позже.
Был один предмет, которого мы не затрагивали вовсе: это была политика, к которой новые течения относились или нейтрально, или отрицательно. И у меня отнюдь не было повода почувствовать себя в роли ментора. Скорее я был в роли испытуемого – и притом провалившегося на испытании. Вероятно поэтому и интерес к беседам ослабевал у моей собеседницы по мере выяснения противоположности нащих идейных интересов. В результате увлекательные tеt-a-tet’ы в египетской зале дворца прекратились также внезапно, как и начались»[39]39
Милюков П.Н. Воспоминания. М., 1991, с. 190, 191.
[Закрыть].
Как показывают письма П.Милюкова к М.К., увлечение этого человека с большими политическими амбициями растерянной, но по-московски щедрой хозяйкой салона, было не столь поверхностно-светским, как это вспоминает /21/
ся ему через десятилетия. На самом деле лишь встреча М.К. с кн. Е.Н.Трубецким не дала осуществиться их наметившемуся сближению[40]40
Ср. письмо П.Н.Милюкова М.К.Морозовой // ОР РГБ, ф. 171.2.1.л. 7-8:
П.Н.Милюков – М.К.Морозовой
<октябрь 1905 ? />
Милый друг, третий день я с утра до вечера провожу в Петербурге в хлопотах по газете и домой возвращаюсь после полуночи, с последним поездом. Политическое положение складывается с каждым днем все мрачнее. Витте, по-видимому, решил, что все равно, хуже не будет, и что надо испробовать твердую руку. На совещании с министрами общественные деятели (Гучков, еIacute;ипов, Стахович, Кузьмин-Караваев, Муромцев) все высказались за "всеобщее" – последний и за прямое, – а министры молчали. Дурново был был за минимальные прибавки к избирательному закону 6 августа; от "всеобщего" по-видимому, за исключением двух-трех министров, все остальные готовы отказаться. Все это упрощает положение: о "поддержке" при таких условиях уже и речи быть не может. Сегодня депутация от бюро сеszlig;езда, по желанию Витте представила резолюцию с обеszlig;яснительной запиской, очень хорошо и решительно написанной. Витте, по-видимому, этого не ожидал, намекая, что сеszlig;езд находится под влиянием не-земских элементов – например… М.М.Ковалевского – и заявил, что ответит письменно и опубликует ответ вместе с запиской. Это еще не так плохо: теперь сеszlig;езд очень выиграет в общественном мнении, после ответа Витте.
У нас газета еще не началась – начнется 1-го декабря, – но начались уже некоторые внутренние трения. Друг мой, – между идеей – даже не отвлеченной, платоновской, а конкретной – политической, – и ее осуеществлением – какое огромное расстояние! Сколько разнородных элементов надо сеszlig;юзить, ассимилировать, чтобы машина делала именно то, что Вам хочется, чтобы она работала. А при общем остром питерском настроении, которое совершенно не то, что среднее настроение в Москве и в провинции – страшно трудно, почти невозможно. Я хотел было, помятуя наш разговор, назвать газету «Миром». Куда тут! «Борьбой» еще можно бы, а «Мир» – это измена, предательство! Ну, вот Вам сколько деловых сообщений.
Переходя к отделу "неофициальному", чувствую некоторое затруднение, которое в первые дни по возвращении не чувствовал вовсе. Опять закрадывается сомнение, опять кажется, что все мое настроение висит в воздухе, и там, за 600 верст, не встретит отклика, окажется совсем не нужным, никчемным. Не сердитесь, голубчик, – или нет, пожалуйста, рассердитесь и разбраните меня хорошенько, как Вы умеете бранить, за эти тени и облака. Но как Вы разбраните, как узнаете? Ведь письмо неизвестно когда дойдет – и тогда будет какое-нибудь совсем новое настроение. Не грешно ли, право, что мы даем пройти этому времени, котрое могли бы превратить в чистое золото личных отношений.
Меня прервали на полуслове, и только день спустя могу вернуться к письму.Целые дни вожусь с газетой: чем ближе подходишь, тем виднее, какая это огромная и сложная машина. Нервы сильно треплятся, а на душе в то же время сумятица. От той "логической ясности", которая Вам так не нравилась, не осталось и следа, и только Вы могли бы ее вернуть. Мне страшно нужно Вас видеть, Вас чувствовать близко: я уверяю себя, что Вы ведь скоро приедете, двухнедельный срок подходит к концу, и сам себе не верю, что это было: сон или действительность? Порыв доброты или внутренняя потребность? Может быть, Вы жалеете, что обещали? Может быть, это будет милостыня. Я и жду Вас и боюсь смертельно этого свидания. Оно столько должно дать, столько выяснить; и вдруг, что если со спокойным тактом светской женщины Вы мне скажете, что я думаю и чувствую, как мальчик! Ведь может быть, это и правда, но мне-то от этого не легче. Скажите мне, что я на Вас клевещу, что я неблагодарен, обрушьте на меня новую бурю: Вы не поверите, как мне это страшно нужно.
Опять перерыв в целый день – день полный неопределенных переговоров по поводу газеты. Издатель «Биржевых ведомостей» – Проппер, выражаясь деликатно, человек очень практический, что называется жила-человек. Отдав газетку нам, он в тоже время старается сохранить в ней достаточно простора для себя и для своего жакторума, юркого полячка из типа таких, которые «без мыла пролезут». Отпор приходится давать главным образом мне: мой приятель утверждает, что я «держу его за горло». Но несмотря на моюадамантову твердость, он выскальзывает увертывается и в ближайший момент ищет нового пути к прежней цели с какой-нибудь неожиданной стороны. Это неприятно, утомительно, да и главное, рисует очень неприятные перспективы столкновений самого низменного свойства в будущем. Начинаю понимать правильность Ваших осторожных предостережений. Сегодня отправил ему довольно резкий отказ на одну из его финансовых атак, – и мечтаю, просто-таки мечтаю, чтобы вся комбинация разрушится, и я буду свободен!
На душе стало немножко спокойнее, какой-то отлив, затишье после бури. Перечитал в этом настроении все письмо, и стало немножко стыдно. Почему стыдно в точности не сумею сказать. Может быть, потому, что писал его, как будто 16-летний, а не 40-летний субеszlig;ект; может быть потому, что как-то уж бледно легло на бумагу все, что терзало и мучило в последние дни; может быть, и самый предмет, или лучше – повод, – терзаний и мучений как будто, не такой уже реальный, как тогда казался; может быть, все это как-то чересчур по-детски прочувствовано. Но пусть все идет к Вам; Вы уж там разберете и, должно быть, поставите три с минусом, если не меньше. А ведь хотелось бы, знаете, какую-нибудь богатейшую натуру в себе ощутить, чтобы все это перед Вами рассыпать: на бери!
Странно, написал это, и, как в лабиринте, чувствую, что нечаянно вышел неведомыми путями опять на прежнее место, знакомое место, бойкое место.Леитмотиввсе тот же: «полюби нас серенькими»… Почему я люблю Ваше лицо? Ведь не потому, что оно – абсолютный образец красоты. Я люблю не одну его красоту, но и его недостатки; и может быть даже недостатки в нем люблю больше его красоты, потому что эти недостатки делают это лицо – индивидуальным, милым, дают ему характер. Мне эта живая связь дорога.
Ну, нет, не буду писать, что в нем лучше и что хуже, а то, пожалуй, опять зарапортуюсь. Я хотел олько сказать то, что когда-то сказал Вам в первые дни знакомства. Страшно больно и тяжело делается на душе, когда Вы чувствуете, что в Вас интересуются не Вами самими, а какой-нибудь частностью в Вас, чем-нибудь показным, что всегда видно, – тем, что блестит, а не тем, в чем корень Вашей жизни. А уж если кто и этим заинтересовался, подошел поближе, разобрал внимательно, поморщился и пошел мимо: угадайте сами, каково это вынести. Да и не "кто-нибудь", а тот один человек в мiре, которого (по Платону) Вы признаете своей "половинкой".
ОР РГБ, ф.171.2.1, л. 7—8.
[Закрыть].
Позже в том же доме выступали с лекциями либеральные профессора Фортунатов и Кизеветтер, князь Г.Львов, Мережковский и братья С.Н. и Е.Н. Трубецкие. Выручка от продажи билетов шла на помощь политическим заключенным. В эти бурные революционные дни, писал Андрей Белый, особняк Морозовой «стал местом сбора либерально настроенных партий и даже бундовцев, сражавшихся с меньшевиками. Я был на одном из таких побоищ, окончившихся крупным скандалом (едва ли не с приподниманием в воздух стульев), скоро московские власти запретили ей устраивать домашние политические митинги с продажей билетов». Однако, несмотря на запреты полиции в доме продолжались нелегальные собрания, на которых читались лекции для функционеров московской организации РСДРП(б)[41]41
Думова Н. Московские меценаты. М., 1992.
[Закрыть]. М.К. сочувствовала и помогала всякому инакомыслию.
В ноябре 1905 г. в том же было зарегестрировано "Московское религионо-философское общество памяти Владимира Соловьева" (МРФО). В числе членов-учредителей помимо М.К.Морозовой были С.Н.Булгаков, кн. Е.Н.Трубецкой, Н.А.Бердяев, С.А.Котляревский, Л.М.Лопатин, священник Н.Поспелов, Г.А.Рачинский, А.В.Ельчанинов, В.П.Свенцицкий, П.А.Флоренский и В.Ф.Эрн. На открытии МРФО В.Свенцицкий прочел реферат "Христианское братство борьбы и его программа", вызвавший оживленную дискуссию. Через месяц число членов Общества достигло 150 человек. Однако еще через месяц Отделение чрезвычайной охраны приостановило заседания МРФО. Их удалось возобновить лишь 4 ноября 1906 года[42]42
Сообщение о повторной регистрации МРФО //Русские ведомости. 3.08.1906, с. 3.
[Закрыть]. МРФО просуществовало до весны 1918 г., когда было распущено по приказу новой власти[43]43
Параллельно с МРФО в доме М.К.Морозовой время от времени собирался Философско-юридический кружок под председательством кн. Е.Н.Трубецкого, темы некоторых докладов которого публикуются в Приложении 3.
[Закрыть]. Не даром МРФО было основано в память Вл. Соловьева: философские поиски его участников зиждились на высказанном им убеждении, что полнота истины открывается человеку не как отвлеченно мыслящему субъекту, а как целостной, то есть религиозно-живущей личности. Если в Петербургском РФО на первый план выдвигалось выявление точек зрения религиозных мыслителей, то в Московском делались попытки изучить феномены религиозного сознания и с философских позиций описать их исторические и социальные проекции. Здесь в первую очередь обсуждалось собственно религиозное значение этих феноменов, а не их художественно-эстетическая ценность. Хотя отдельные попытки такого рода не выходии за пределы мистических фантазий их авторов, были доклады, увлекавшие слушателей, дававшие ответы на мучительные вопросы их личного религиозного опыта. Результаты этих религиозно-философских поисков, как пишет активный участник этих дискуссий Ф.А.Степун, предвосхитили более позднюю формулировку Карла Ясперса: «То, что мы в мифических терминах называем душою и Богом, именуется на философском языке экзистенциальностью и трансцендентностью»[44]44
Цит. по: Ф. Степун. Бывшее и несбывшееся., с. 367.
[Закрыть]. /22/
В марте 1907 г. при МРФО открылся «Вольный богословский университет», где читали лекции Андреев, Аскольдов, Андрей Белый, Бердяев, С.Булгаков, В.Зеньковский, Г.Рачинский, В.Свенцицкий, С.Соловьев, Тареев, Е.Трубецкой, П.Флоренский и др. Один из слушателей так впоследствии описывал атмосферу этих заседаний: «Это была религиозность, но в значительной степени (хотя и не исключительно) вне-церковная или, вернее, не-церковная, рядом с церковной, а главное, вливалась сюда порой и пряная струя „символического“ оргиазма, буйно-оргиастического, чувственно-возбужденного (иногда даже сексуального) подхода к религии и релииозному опыту. Христианство втягивалось в море буйно-оргиастических, чувственно-гностических переживаний».[45]45
Арсеньев Н.С. Дары и встречи жизненного пути. Франкфурт-на-Майне, 1974. С. 61-63, цит. по: Половинкин С.М. Философские и религиозно-философские общества. //Русская философия. Словарь. М., 1995. С. 579.
[Закрыть]
Состав МРФО был весьма разнороден: на его заседаниях бывали члены православно-консервативного «Братства взыскующих христианского просвещения» (Новоселовского кружка), поэты и публицисты символистского лагеря, христианские социалисты, теософы и штейнерианцы. Тем не менее в целом ближайшие участники Соловьевского общества тяготели к православию и не желали разрыва с церковной традицией. К сожалению МРФО не имело своего печатного органа и не издавало протоколов своих заседаний, лишь часть из них по инициативе самих докладчиков были потом опубликованы в периодических изданиях («Вопросы философии и психологии», «Русская мысль», «Век», «Московский еженедельник», «Русское слово», «Утро России») или в сборниках статей этих авторов ("Два града" С.Н.Булгакова, "Борьба за Логос" и "Меч и Крест" В.Ф.Эрна и др.) Краткие сообщения, о заседаниях МРФО, разбросанные по страницам периодических изданий, обладают обычными недостатками газетной хроники: неполнотой, неточностью, произвольностью оценок. Исследователям деятельности московской религиозной общественности еще предстоит путем полного просмотра периодических изданий и архивов, чтобы составить полный список участников заседаний, перечень докладов и рефератов, сделанных за тринадцать лет существования общества. На последнем (закрытом) заседании МРФО 3 июня 1918 г. С.Н.Булгаков накануне своего рукоположения в священный сан выступил с докладом «На пиру богов. Современные диалоги»[46]46
Булгаков С. На пиру богов. Про и цонтра. Современные диалоги. // Из глубины. Сборник статей о русской революции. М., 1918. См. также в настоящей публикации п. № 635.
[Закрыть]
Книгоиздательство «Путь»
В феврале-марте 1910 г. после нескольких предварительных совещаний, проходивших в особняке М.К.Морозовой, было основано религиозно-философское книгоиздательство "Путь". Его редакционный комитет составили члены правления МРФО: М.Морозова, Евг.Трубецкой, С.Булгаков, Н.Бердяев, В.Эрн, Г.Рачинский. Финансирование, как всегда, взяла на себя М.Морозова. Деятельность книгоиздательства помимо духовного просветительства, предполагала, и коммерческую выгоду для его нуждающихся сотрудников. В идейном же плане издания "Пути" должны были проводить в философии "русскую идею", стать орудием борьбы с материализмом, позитивизмом, кантианством. Идейная позиция и издательская программа "Пути" в самых общих чертах была сформулирована в издательском предисловии[47]47
Текст предисловия опубликован в Приложении 4 настоящего издания.
[Закрыть] к первому сборнику статей «О Владимире Соловьеве». Однако уже на первом этапе формирования положительной философской и общественной программы среди учредителей обнаружились острые идейные противоречия в попытках выделить и обозначить национальную составляющую «русской религиозной мысли». «Путейцы» обращались к читателям с предложением «пересмотреть свое духовное наследие» обратившись к забытым трудам В.Одоевского, П.Чаадаева, И.Киреевского и еще не опубликованным по-русски работам Вл. Соловьева, которые впоследствии были изданы «Путем». Кроме того были анонсированы монографии о В.Печерине, А.Козлове, А.Хомякове, Г.Сковороде, Л.Толстом, Вл.Соловьеве, Н.Новикове, А.Бухареве, Н.Гоголе, К.Леонтьеве, М.Сперанском, о. Серапионе Машкине, Ф.Тютчеве, Н.Федорове, Ф.Достоевском, И.Киреевском, С.Трубецком, П.Чаадаеве, Б.Чичерине.[48]48
При написании обзора изданий «Пути» я с благодарностью использовал неопубликованную работу М.Меерсона-Аксенова "Книгоиздательство «Путь». – В.К. Подробно десятилетняя история становления и деятельности книгоиздательства «Путь» изложена в работе Е.Голлербаха «Религиозно-философское издательство „Путь“. 1910—1919», там же опубликован и полный каталог его изданий.
[Закрыть]
Соловьевская тема в истории русской мысли была выдвинута на передний план уже в первом издании "Пути". В сборнике "О Вл. Соловьеве" была помещена блестящая по оценке А.Лосева[49]49
Лосев А.Ф. Вл. Соловьев. Мысль. М. 1983. С. 80.
[Закрыть] статья В.Эрна «Гносеология В.С.Соловьева», в которой он сформулировал исходный принцип философии своего учителя – «софийность мира»: «Первый после Платона, Соловьев делает новое громадное открытие в метафизике. В море умопостигаемого света, который безеoacute;бразно открылся Платону, Соловьев с величайшей силою прозрения открывает определенные ослепительные черты Вечной Женствености». По мнению автора гносеология Соловьева «должна занять почетное место в сокровищнице философских прозрений всех времен и эпох». Характеризуя ее как антикантианскую Эрн утверждает: «Соловьев, употребляя его терминологию, постиг в Египте живую и существенно личную идею мира, идею вселенной, и только этим постижением обосновывается все философское творчество Соловьева, которое есть не что иное, как воплощение в грубом и косном материале новой философии – его основной интуиции, в живой идее и живом смысле всего существующего».
Далее Эрн отмечает перелом, произошедший к концу жизни Соловьева, когда он "вдруг ощутил дурную схематичность прежних своих философем. В этом огне самопроверки сгорела схема теокртическая, схема вышнего соединения церквей, схема планомерного и эволюционного развития Добра в мире, и Соловьев почувствовал трагизм и катастрофичность истории".
Рассматривая связь и преемственность философской позиции "Пути", нельзя не заметить ее славянофильских корней, что дало современникам повод назвать "путейцев", в первую очередь Эрна, Булгакова, Бердяева "московскими неославянофилами", "православными философами" (хотя последний решительно отказывался от этого титула).
Отношение "путейцев" к славянофильству Бердяев изложил в монографии о А.Хомякове, где он, выделяя проблему "Хомяков и мы", ставит вопрос: "В чем мы кровно связаны с Хомяковым и в чем расходимся с ним? Это и значит рассмотреть судьбу славянофильства, лежащую между нами и Хомяковым". Ведь по общему признанию "путейцев" "русское самосознание находится в периоде затяжного кризиса"[50]50
Предисловие. См. Приложение 4.
[Закрыть] и для его творческого преодоления необходимо, по мнению Бердяева, исследовать историю русского самосознания ХIХ в., чтобы углубить «образы наших национальных религиозных мыслителей». По его мнению борьба славянофилов с западниками обессилила общественное движение и духовное развитие интеллигенции. Потому сейчас «перед русским самосознанием стоит задача преодоления славянофильства и западничества. Эпоха распри славянофильства и западничества закнчивается и наступает новая эпоха зрелого национального самосознания».
В центральной для славянофилов проблеме отношения Востока и Запада (в связи с ролью и местом России в мировой истории) Бердяеву чрезвычайно импонирует идея Хомякова о том, что вера является движущей силой исторической жизни народо. Он сочувственно относится к стремлению Хомякова историософски обосновать русский мессианизм, но критикует его за то, что он делает это с позиции этнографии, истории, лингвистики, т. е. позитивистски. По мнению Бердяева нельзя ставить в прямую зависимость дух и призвание русского народа от общественных и экономических причин, ввиду их эмпиричности. Подобное обоснование возможно лишь на религиозно-пророческом, мистичеком уровне. "дух народа воспринимается лишь мистической или художественной интуицией <… /> Славянофилы же впали почти что в экономический материализм. Они так дорожат русской общиной, так связывают с ней все будущее России, весь духовный облик русского народа, что кажется будто без общины не может существовать дух России, и не может осуществиться призвание России. Но ведь община есть лишь известная общественно-экономическая форма, исторически текучая <… /> Но можно ли ставить русский мессианизм, веру в дух народный и призвание народное в зависимости от столь зыбких вещей!"
"Славянофильская история России научно ниспровергнута, – пишет далее Бердяев, – но нимало не может это поколебать русский мессианизм <… /> Можно по-марксистски смотреть на общину и религиозно верить в призвание России". Автор решительно не согласен и с государственно-политической концепцией славянофилов: "С самодержавием, как преходящей исторической формой, так же мало можно связывать русский мессианизм, как и с общиной". Бердяевская критика славянофильства была обращена не только к прошлому, но к его сотрудникам по издательству, к Булгакову и Эрну, переживавшим в этот период отход вправо, как реакцию на социальный радикализм в прошлом.
Коренной недостаток русской философии истории Хомякова и всего славянофильства Бердяев видит в том, что его позиций невозможно "объяснить русский империализм, агрессивный, наступательно-насильственный характер русской исторической власти. Славянофильская психология русского народа не в силах объяснить и тот факт, что русская историческая власть становилась все более и более ненародной, все блее отдавалась идолу государственности, языческому империализму. Коренной же недостаток всей философии истории Хомякова тот, что в ней отсутствует идея религиозно-церковного развития".
В построении собственной философии истории "путейцы" основывались на концепциях Соловьева и Чаадаева, поскольку, по мнению Бердяева, у последнего меньше притязаний на научное обоснование религиозного смысла истории. "Католический уклон Чаадаева помог ему утверждать религиозную философию истории. В православии не было того активного отношения к истории, которое было в католичестве". В этом отношении он, по Бердяеву, имея определенный провиденциальный план истории в духе католичества, более церковен, чем Хомяков, который философско-историческую проблему Востока и Запада "решает на риск собственного разума, а не разума церковного, и в его решении религиозный момент незаметно смешивается с научным и позитивно-бытовым".
Творчески развил и преодолел славянофильство по его мнению "Вл.Соловьев – славянофил по своим истокам, от славянофилов получил он свои темы, свое религиозное направление, свою веру в призвание России". Однако в нем соединились два антипода – Хомяков и Чаадаев, ибо он признает и правду католичества, жаждет соединения церквей и приобщения России к западной культуре.
Тем не менее культурная антитеза Запада и Востока близка и тем, кто решил творчески развивать "русскую идею", объединившись вокруг нового книгоиздательства. "Во времена Хомякова творческая мысль стояла перед задачей преодоления Канта и Гегеля. Нынне творческая мысль стала перед задачей преодоления нео-кантианства и нео-гегельянства, богов меньшей величины, но не менее властных. Весь круг германского идеализма вновь проходится в модернизированной форме, с прибавлением "нео". Хомякову и славянофилам приходилось бороться с идеализмом классическим. Ныне приходится бороться с идеализмом эпигонским. То вооружение, которое выковывалось в борьбе с классическим германским идеализмом, с вершинами западной философии, может пригодиться и для борьбы с идеализмом модернизированным". С целью приобщения русского читателя к нацинальной философской классике был издан главный труд В.Одоевского "Русские ночи" и полное собрание сочинений философа-славянофила И.Киреевского.
Издавались в "Пути" и книги, расчитанные на философски мало подготовленного читателя, не претендующего на религиозно-философские построения, а лишь стремящегося соприкоснуться с народной духовной культурой: "В обители преподобного Серафима" А.Волжского, "Сказание о граде Китеже" С.Дурылина. Небольшая книжечка "Около Церкви" о. С. Щукина, содержит мысли православного священника о насущных церковных проблемах.
Стремление осмыслить национальное философское наследие требовало выявить связи и противостояния русской мысли с западно-европейскими течениями. В первую очередь это проявлялось в самостоятельном философском творчестве "путейцев". Сюда в первую очередь относится шедевр русской религиозной мысли ХХ века "Столп и утверждение истины" П.Флоренского. Книги "Философия свободы" Бердяева, "Борьба за Логос" Эрна, и "Метафизические предположения сознания" Е.Трубецкого, защищая религиозное мироощущение, были направлены против неокантианских теорий познания и рационалистических систем в западной философии. Сборник статей Л.Лопатина подводил итог трудов одного из ветеранов русской философии. Сборник статей Булгакова "Два града" развенчивал социалистический миф русского "освободительного движения". Альтернативу марксизму выдвигает "Философия хозяйства", где Булгаков исследовал проблему духовного смысла труда как созидательной деятельности человека. Наиболее в то время полное и аналитически-критическое изложение философии Вл.Соловьева было дано в двухтомном труде Евг.Трубецкого. Годовщина со дня смерти Л.Толстого была отмечена выходом сборника статей "Религия Л.Толстого".