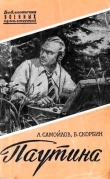Текст книги "Учебка. Армейский роман (СИ)"
Автор книги: Андрей Геращенко
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 48 страниц)
Идти в казарму и в самом деле не хотелось. Солнечный, погожий вечер, легкий прикосновения ветра, шум листвы старых яблонь, в тени которых сидели курсанты – весь этот мир был слишком восхитительным для того, чтобы его захотелось поменять на затхлую, мрачную казарму. Хотелось растянуться прямо в парадке на мягкой траве, закрыть глаза и так уснуть. Но этого нельзя было делать. Стоило только курсанту попасться спящим на глаза офицеру, а того хуже – сержанту, как он сразу же угодил бы в какой-нибудь наряд или на работу. В казарму Тищенко и Лупьяненко пошли лишь перед самым ужином.
На этот раз у Игоря осталось почти все, что привезла ему мать. Но у всех всего было предостаточно, и у Тищенко взяли только яблоки. Из всего взвода только к Коршуну не приехали родители, но и он, уже успевший насытиться гостинцами других, почти ничего не взял ни у Игоря, ни у Антона.
После ужина Игорь узнал, почему Каменев и Байраков не пошли в увольнение. Оказалось, что пришел приказ не отпускать в увольнения. Естественно, что тех, кто успел уйти, вернуть было нельзя, а вот задержавшихся оставили в части.
– И как только Коха успел уйти? Он же самым последним начал собираться! – удивленно сказал Игорь Антону.
– Он, наверное, чувствовал. А если серьезно, то Кохановский просто боялся, что Гришневич может передумать. А Каменев и Байраков были уверены, как слоны, вот и прощелкали свое увольнение, – пояснил Лупьяненко.
К вечеру стали возвращаться из увольнений. Первым пришел Кохановский, неся в руках два больших пакета. Почти сразу же за ним пришел Гришневич.
– Эй, Кохановский, почему меня не подождал. Вместе бы пришли, – окликнул его сержант.
– Я вас не видел, товарищ сержант.
– Плохо смотришь. А что это у тебя в пакетах?
– Тут яблоки, печенье… Разная еда, – смущенно ответил Кохановский.
– Что? Целых два пакета с пайкой?! – Гришневич театрально широко раскрыл глаза, изображая страшное удивление.
Курсанты уже сообразили, что он хочет подшутить над Кохановским, и подошли поближе, стараясь не пропустить предстоящее представление. Гришневич был в хорошем настроении и, вместо того, чтобы разогнать взвод, воодушевился присутствием курсантов и продолжал плести сети вокруг простодушного и ничего не подозревающего Кохановского:
– Слушай, Кохановский, а ты знаешь, что пайку нельзя на ночь оставлять?
– Так точно.
– И куда же ты все это денешь?
– Дык я съем, товарищ сержант.
– Дык, а вдруг ты лопнешь? – передразнил Гришневич, и взвод взорвался оглушительным смехом.
Заслышав шум, из своего угла пришел Шорох, но не стал вмешиваться в разговор, а встал чуть в стороне, облокотившись на колонну.
– Так лопнешь ты или нет?
– Никак нет.
– Что – желудок слишком большой?
– Никак нет. Ведь я не один есть буду, а вместе со взводом.
– А нас с младшим сержантом Шорохом угостишь?
– Так точно.
– Хорошо, что угостишь. Ну, как, хорошо в увольнении? Баб красивых видел?
– Не. Мы все с мамой и батькой ходили, не до баб было, – серьезно ответил Кохановский и этим еще больше рассмешил взвод.
– Иди, раз не видел.
Кохановский уже собрался уходить, но Гришневич его остановил и уже серьезно спросил:
– Замечания были?
– Никак нет.
– Докладывать надо, Кохановский.
– Виноват.
– А как же ты честь отдавал, если у тебя обе руки были заняты.
– А я в одну оба пакета брал.
– Молодец – находчивый солдат. Ладно, иди и разбирайся со своими пакетами, – отпустил Кохановского сержант.
Тищенко с завистью смотрел на возвратившихся из увольнения и вновь начал жалеть о том, что не смог сходить в город. За этими мыслями его застали пришедшие в гости Мухсинов и Хусаинов.
– Что, мат к тэбе приезжаль? – спросил Мухсинов.
– Приезжала. И брат младший тоже был.
– Скоро в армия?
– Ему? Да нет – еще шесть с половиной лет.
– А у меня брат следующий год пойдет.
Тищенко еще некоторое время поболтал с казахами, а потом сообразил, что они пришли не совсем просто так. «Ну и тормоз же я!» – разозлился на себя Игорь и предложил им яблоки и конфеты:
– Бери, Кенджибек, угощайся. И ты, Хусаинов, тоже бери – не стесняйся.
– Спасибо, – дружно поблагодарили казахи и без лишних разговоров взяли угощение.
Немного посидев, они собрались уходить.
– Мы уже пойдем. Пора – скоро проверка, – пояснил Мухсинов.
– Пока, приходите еще.
Казахи ушли, а Игорь подумал, что у него очень странные отношения с Хусаиновым. Тищенко почти никогда с ним не разговаривал, но Хусаинов, как тень, всегда приходил вместе с Мухсиновым. То ли Хусаинов был просто неразговорчивым, то ли плохо говорил по-русски, но в любом случае из него почти невозможно было вытянуть больше двух-трех слов. Мухсинов и Хусаинов были из одного колхоза, поэтому очень сдружились в учебке. К тому же казахов в роте больше не было. Игорю было приятно, что он угостил своих товарищей. «Родители у них за тысячи километров – кто им что привезет? А так они хоть яблоки и конфеты попробуют». Правда, конфеты можно было купить и в магазине, но это было бы уже совсем не то.
В этот вечер Игорь ложился спать уже совершенно другим человеком – человеком, принявшим военную присягу. Присяга должна была многое изменить в жизни Тищенко, и он уснул с надеждой на лучшее.
Глава двадцатая
Утренний осмотр
Тищенко не любит утренние осмотры. И не зря, потому что получил подворотничком по морде. Как едва не подрались курсант Абилов и прапорщик Атосевич. Лупьяненко неожиданно узнал кличку Гришневича. Улан – снова лучший, а у Тищенко проблемы с печатанием. Байраков лишается должности «секретчика». Тищенко обнуляет шифр. Что такое «ДЛБ» на языке ЗАС-телеграфистов.
Утренний осмотр. С этими словами у каждого, кто прошел учебку, связаны самые неприятные воспоминания. Осмотр, словно нарочно, проходит так, чтобы еще раз унизить курсанта и еще раз максимально нивелировать его личность (если она, конечно, еще сохранилась к этому времени). Взрослые восемнадцатилетние парни специально ставятся в положение нашкодивших детей, ожидающих решающего слова своего воспитателя. Причем воспитатель – почти ровесник, но через пару недель службы уже никто не обращает на это внимания. Кажется, что сержант старше тебя не на год, а на добрый десяток. Да и сержант не против лишний раз продемонстрировать себя в качестве полубога. На утреннем осмотре проверяется почти все. При желании сержант может проверить даже нижнее белье.
Тищенко с большой неприязнью относился к утренним осмотрам и теперь, стоя в строю на территории спортивного городка, мучительно вспоминал, не забыл ли он чего-нибудь: «Сапоги вроде бы блестят, хэбэ – чистое. Что еще? Нитки в пилотке? Вроде бы есть, а может, и нет. Пряжка немного тускловатая… Но это еще полбеды – только бы подворотничок не заметил! Главное – не волноваться и не раскрывать его слишком широко. Хорошо, если бы Гришневич еще у кого-нибудь воротничок забраковал…». Эгоизм помыслов Игоря объяснялся тем, что сержант обычно отводил душу на уже попавшемся ему курсанте, и остальным приходилось легче. Но сегодня Гришневич был явно не в духе, и курсанты ожидали «репрессий».
– Бляхи к осмотру! – скомандовал сержант и вместе с Шорохом пошел вдоль двух стоящих напротив друг друга шеренг взвода.
Держа в правой руке ремни пряжками кверху, курсанты ожидали своей участи. Тищенко лишь перед самым осмотром раздобыл пидорку (кусочек шинели) и немного темно-зеленой пасты Гоя, поэтому не успел привести свою пряжку в надлежащий вид. Но Игорю повезло – Гришневич проверял пряжки у курсантов противоположной шеренги, а к Тищенко подошел Шорох. Недовольно повертев пряжку в руках, младший сержант презрительно спросил у Игоря:
– Што, Тищенка, здаровья не была бляху пачыстить?!
– Виноват. Я вчера в наряде по столовой был, а бляха там очень сильно потемнела.
– Чаго это она патемнела?
– Окислилась.
– Ты мне тут сказки не рассказывай! Устранить замечание!
– Есть.
Игорь вытащил из кармана пидорку и лихорадочно принялся тереть ею пряжку, демонстрируя чрезвычайное старание.
– Раньше нада было это делать! – буркнул Шорох и пошел дальше.
– Головные уборы к осмотру!
Игорь снял пилотку, отвернул ее правый край и увидел, что у него только одна иголка с белой ниткой. А положено было иметь приколотой еще одну с черной. Вчера вечером Игорь одолжил ее Гутиковскому, а тот забыл вернуть. «Вот козел, Гутиковский! Теперь еще попадет из-за него. А сам, может, мою иголку на свою пилотку приколол и теперь стоит, как ни в чем не бывало!» – со злостью подумал Игорь о своем соседе по койке. Нитки опять проверял Шорох:
– Где твая чорная нитка?
– Вчера кто-то взял и не отдал.
– Все у тебя не слава богу. После асмотра прыкалоть!
– Есть.
И с иголкой все завершилось вполне благополучно.
– Содержимое карманов к осмотру!
С «содержимым» у Игоря все было в порядке.
– Подворотнички к осмотру!
Начиналось самое опасное. Тищенко дрожащими от волнения руками расстегнул верхнюю пуговицу хэбэ и, взявшись пальцами за кончики воротника, развел их в стороны. Сильнее всего грязь была видна возле шеи, а края обычно оставались чистыми. Если не очень сильно разводить руки, то иногда можно было и скрыть загрязненные места. Именно на это, а точнее на невнимание сержанта надеялся сейчас Игорь. Как назло, сегодня Гришневич внимательно разглядывал подворотнички и заставлял курсантов как можно шире раздвигать их в стороны. На этот раз Шорох проверял противоположную шеренгу, а Гришневич неотвратимо приближался к Игорю. Наконец сержант подошел к нему вплотную и пристально посмотрел на подворотничок.
– Курсант Тищенко, – Игорь постарался представиться максимально спокойно и уверенно.
Представляться Гришневичу было, конечно, полным идиотизмом, но так надо было поступать при каждом подходе сержанта во время утреннего осмотра.
– А ну раздвинь подворотничок шире!
Игорь едва заметно развел руки.
– Шире, боец! – рявкнул Гришневич.
«Все, заметил», – подумал Тищенко и раздвинул подворотничок.
– Что такое, Тищенко? Что – подшиться не успел? – грозно спросил сержант.
– Виноват. Вчера вечером мне показалось, что он чистый. Может быть, просто так показалось в электрическом свете…
Гришневич резко сорвал подворотничок и наотмашь ударил им Игоря по лицу:
– Показалось, говоришь? Это тебе, чтобы больше не казалось, душара паршивый!
Игорь растерянно смотрел на Гришневича. Сержант еще раз отвел руку с подворотничком для удара и Тищенко, не выдержав, отклонил голову в сторону и зажмурился.
– Была команда смирно! – заорал Гришневич.
Игорь усилием воли вернул голову в прежнее положение. Сержант принялся хлестать Тищенко подворотничком по лицу, приговаривая при этом одну и ту же фразу:
– Надо подшиваться! Надо подшиваться!
Каждый удар приносил не столько боль, сколько стыд за свое публичное унижение. Игоря еще никогда никто не бил перед строем по лицу, и он испытал самый настоящий шок. Тищенко казалось, что он неожиданно попал в какой-то царский полк и его хлещет по лицу отвратительный унтер. Хотелось защититься, нагрубить Гришневичу, но Тищенко был слишком ошеломлен для этого и лишь тихо бормотал со слезами на глазах:
– Виноват, товарищ сержант. Виноват…
Гришневич, увидев в глазах Тищенко слезы, перестал его бить и, бросив на плечо курсанту подворотничок, зло крикнул:
– Даю тебе две минуты, чтобы подшиться заново! Время пошло – улетел!
Готовый зарыдать от обиды и унижения, Игорь бросился в казарму. Дрожащими от волнения руками Игорь вытащил из своей тумбочки катушку белых ниток и иголку. Долго не мог продеть нитку сквозь ушко. Чтобы сэкономить время, Игорь не стал пришивать подворотничок полностью, а лишь приметал его по краям разреза воротника. Середина была полностью свободной, но, опираясь на шею, смотрелась так, словно она была пришита. Закончив, Игорь бросился вниз. Как не обидно и не унизительно была выходка сержанта, приказ надо было выполнять. Тищенко прибежал ровно через четыре минуты:
– Товарищ сержант, ваше приказание выполнено.
Гришневич не обратил внимания на просрочку времени. Оглядев криво приметанный подворотничок, сержант зло процедил:
– Встать в строй!
– Есть, – ответил Игорь.
Больше всего Тищенко хотелось сейчас заехать сапогом в рожу своему сержанту, причем обязательно грязным сапогом. Пока Игорь бегал в казарму, проверили наличие нижнего белья, и Тищенко мог утешить себя хотя бы тем, что эта процедура обошла его стороной.
– Кругом! Правую ногу на носок… ставь!
Взвод дружно выставил каблуки. Гришневич шел вдоль строя и рассматривал сапоги подчиненных. Несмотря на то, что курсанты служили еще меньше двух месяцев, их сапоги от интенсивной муштры и беготни успели порядком поизноситься. Самая большая нагрузка выпадала на каблуки, и они стирались в первую очередь. Пара сапог выдавалась на восемь месяцев и, учитывая, что это была ежедневная и почти единственная обувь курсанта, выдержать положенный срок было сложно. «Деды» и «черпаки» прибивали на свои каблуки специальные металлические подковки, да и они не всегда были нужны – ходить и бегать старослужащим приходилось гораздо меньше. «Духам» подковки были не положены, и молодым приходилось тяжелее. Чтобы сапоги раньше времени не развалились, сержанты ежедневно осматривали каблуки и приказывали курсантам при необходимости починить обувь. Но всегда почему-то приказывали отставить назад правую ногу, а Игорь значительно сильнее стоптал левую.
– Починить каблук! – Тищенко услышал за спиной голос Гришневича и получил несильный удар по сапогу.
«Интересно, что бы сказал сержант, если бы увидел, что у меня с другим каблуком твориться?» – подумал Игорь.
Конечно, Тищенко и сам мог бы без приказа починить обувь, но… Во-первых, это надо было делать урывками, а после приказа время выделяли специально. А, во-вторых, после приказа собиралась целая компания, и вместе было гораздо веселее работать. В-третьих же, Тищенко никогда не отличался большими способностями в сапожном деле и боялся испортить сапоги. А вместе надежнее – кто-нибудь подскажет или поправит. В-четвертых, и это самое важное, Тищенко было просто лень это делать, пока каблуки были еще в приличном состоянии.
– Чтобы к… понедельнику починил сапоги! – приказал Гришневич.
– Фу, черт – я думал, что этот идиот скажет к утру починить. Опять пришлось бы часа два не спать, – облегченно шепнул Игорь стоящему рядом Коршуну.
В четвертом взводе послышались какие-то крики, и все повернули головы в ту сторону. Вместе с сержантом осмотр проводил и Атосевич. Сейчас он что-то разгоряченно говорил Абилову, а тот грубо и бесцеремонно огрызался. Миневский и Бульков изобразили какую-то немую сцену и растерянно смотрели на обоих. Атосевич, явно выведенный из равновесия, сжал кулаки и зло крикнул:
– Я сказал – стань по стойке «смирно»!
– Нэ буду! – упрямо ответил Абилов.
Атосевич выругался и ударил Абилова кулаком в грудь. Абилов пошатнулся, но все же устоял на ногах:
– Я нэ понял! Зачэм дерешься, а?!
Атосевич замахнулся еще раз, но Абилов отскочил в сторону и встал в боксерскую стойку:
– Зачэм дерешься? Я ведь тоже могу бить!
Роту сковала гробовая тишина. Забыв об осмотре, все пять взводов смотрели на Абилова. Курсант грозился ударить старшину роты, да еще не кого-нибудь, а бывшего морского пехотинца прапорщика Атосевича, известного мастера рукопашного боя. Такого в учебке еще не видели. Правда и Абилов был мастером спорта по боксу, но в любом случае дерзость его казалась чудовищной. Атосевич посмотрел Абилову в глаза и понял, что азербайджанец решил драться всерьез, используя свое знание бокса и кавказский темперамент. Надо было что-то решать. Рота смотрела на Атосевича, и прапорщик это хорошо чувствовал. Рота ждала решения. Атосевич горел желанием тут же на месте раскроить Абилову череп и едва себя сдерживал. Но драться с курсантом на виду у подчиненных было глупо, и авторитета явно не добавило бы. После некоторого раздумья Атосевич уже почти спокойно сказал азербайджанцу:
– Что, горный орел, кулаками захотелось помахать? Сейчас я это тебе устрою. Пойдем за мной – поговорим в каптерке.
Абилов криво улыбнулся и пошел вслед за прапорщиком. «Интересно – что будет, если Абилов побьет Атосевича? Пожалуй, его тогда в дисбате сгноят. В любом случае Абилову не позавидуешь», – Тищенко недолюбливал слишком надменного азербайджанца и не испытывал к тому ни капли сочувствия. Ему было просто интересно, чем закончится вся эта история.
Гришневич некоторое время смотрел вслед Атосевичу, но потом, опомнившись, скомандовал:
– Сомкнись! Кругом! Левая шеренга – два шага вперед! Шагом марш! Кругом!
Взвод вновь слился воедино.
– Направо! В казарму шагом марш!
Сержант отпустил взвод, и к Игорю сразу же подошли Туй и Лупьяненко.
– Ну что – получил от сержанта поощрение?! – спросил Антон.
Тищенко хотел пошутить в ответ, но на глаза вновь навернулись слезы, и Игорь так ничего и не сказал.
– И что это с ним сегодня?! Досталось тебе…, – сочувственно заметил Туй.
– Подшиться вчера не мог, что ли?! – с укором спросил Лупьяненко.
– Мог. Но вчера вроде бы подворотничок чистый был. Я даже на свету смотрел, – наконец выдавил Игорь.
– Лучше надо было смотреть. Теперь еще один наряд тебе влепит. Но все-таки он порядочная сволочь: одно слово – Говнище! – подытожил Антон.
– Кто, кто? – переспросил Туй.
Тищенко тоже удивленно взглянул на товарища. Такое слово он слышал впервые.
– Говнище, – бесстрастно повторил Лупьяненко и пояснил – я вчера катушки для телеграфного аппарата вместе с Шорохом получал, помните?
– Ну! – в один голос ответил Туй и Тищенко.
– Так вот: на складе их не было, и нам сказали сходить в бригаду и попросить там. Шорох выпросил три штуки у какого-то младшего сержанта и отправил с ним меня. По дороге этот сержант и спрашивает: «Как вы там с Шорохом и Гришневичем живете?» Я ведь не такой дурак, чтобы правду говорить – вдруг он Гришневичу или Шороху заложит! Но отвечать-то что-то надо. Вот я и говорю: «Так себе. Шорох ничего, а Гришневич слишком строгий». Сержант засмеялся и сказал, что служил в одном взводе с Шорохом, а командиром отделения у них был Гришневич. Сказал, что Шорох – так себе, простачок был, но хорошо в технике соображал. Шорох ведь земляк Гришневича. Гришневич попросил Мищенко, вот ему и оставили Шороха в помощники – знание аппаратов тоже учли. А сам Гришневич очень говнистым был, его за это так и прозвали – Говнище. Даже сказал, что, вроде бы, не они прозвали, а его сослуживцы еще тогда, когда Гришневич духом был. Так что Говнище и есть Говнище! Сегодня мы еще раз в этом убедились. Вы когда-нибудь видели, чтобы Петраускас или Бульков, к примеру, били по морде подворотничком? Вот то-то и оно!
– Может и так. Но помните, Гришневич как-то в классе сказал, что у него никогда никаких кличек не было – ни в школе, ни в армии, ни в техникуме? – засомневался Туй.
– А зачем тому младшему сержанту мне лапшу на уши вешать? Раз говорит – значит, так оно и было, – уверенно сказал Лупьяненко.
– Я тоже думаю, что это правда. К тому же нельзя исключать и того, что Гришневича могли прозвать и за глаза. Вначале те, кто его во взводе не любил, а потом как-то передали кличку его курсантам. Ну а те – нам, – поддержал Антона Тищенко.
– А чего же ты раньше молчал? – спросил Туй.
– Заколебался вчера сильно – не до этого было. А когда он стал Тищенко по морде хлестать, я сразу же и вспомнил, – объяснил Антон.
– О чем базарите? – спросил подошедший Каменев.
– Ты знаешь, какая у нашего сержанта кличка? – вопросом на вопрос ответил Лупьяненко.
– Нет.
– Говнище.
– ???
Увидев недоуменное выражение лица у Каменева, курсанты заулыбались, а Лупьяненко вновь повторил свой рассказ от начала до конца. Каменев довольно расхохотался и тут же пошел обо всем рассказывать Байракову. Вскоре о кличке сержанта знал почти весь взвод. Тищенко был благодарен Лупьяненко, что хоть таким образом он был отомщен за случившееся на утреннем осмотре.
После завтрака взвод отправился в учебный центр. Уже прошло несколько занятий, и почти все курсанты могли довольно сносно печатать. Но интенсивность тренировок не снижалась – Гришневич хотел добиться большего. К концу учебки каждый курсант должен был печатать не меньше семисот групп, но сержант хотел не меньше восьмисот. Тогда и взводного поощрят, да и самого Гришневича не забудут. Может быть, отправит в отпуск. «Надо будет сегодня проверить, кто сколько групп дает. Вроде бы все печатают, но может кто-нибудь и отстает», – подумал сержант и объявил:
– Сегодня будет что-то похожее на контрольную работу. Ваша задача – за сорок пять минут напечатать как можно больше. Норму вы знаете – семьсот групп. Кто напечатает больше всех, тот будет занесен первым в очередь увольняемых. А тот, кто меньше всего – во-первых, попадет в самый конец этой очереди, а, во-вторых, станет кандидатом номер один в наряд. Понятно? Еще раз объясняю – вначале печатаете номер карточки и свою фамилию и только потом группы. Албанов!
– Я!
– Раздай задания, – Гришневич протянул стопку карточек.
– Есть.
Албанов взял карточки и принялся неторопливо разносить их по рядам. Гришневичу это не понравилось, и он недовольно заметил:
– Я не понял, Албанов, ты что, плохо сегодня спал, а?!
– Никак нет – хорошо, – не понял сержанта Албанов.
– Если хорошо, то шевелиться надо быстрее! Или ты хочешь, чтобы я тебе приказал бегом раздавать?
Албанов ничего не ответил, но заметно ускорил шаг. Второпях он нечаянно задел телеграфный аппарат, который, как всегда, чинил Шорох.
– Што ты, как варона? Глаза пратры, Албанав! – недовольно крикнул младший сержант.
– Виноват, – пробормотал Албанов и поспешно побежал дальше.
Наконец, карточки были розданы, и взвод вопросительно посмотрел на сержанта, ожидая сигнала к началу работы. Гришневич это понял и удивленно спросил:
– А чего это вы на меня уставились? Или забыли, что урок длится ровно сорок пять минут? По звонку и начнете.
Воцарилась напряженная тишина. Резкий звонок, словно электрический разряд, потряс класс, и курсанты застучали клавишами. «Только бы не мало, только бы не меньше всех!» – пронеслось в голове Игоря. Тищенко хорошо помнил, что в прошлый раз Улан выдал восемьсот двадцать групп, а Федоренко – семьсот девяносто. А сам Игорь – только четыреста тридцать. Меньше дали только Фуганов, Стопов и Кохановский. Но разрыв был не слишком велик, и для Тищенко вполне вероятным было предположить, что на этот раз он может оказаться последним. «Вроде бы я и не такой тормоз, как Кохановский или Стопов – все делаю гораздо быстрее, а вот печатаю почти одинаково с ними. Может у меня руки какие-то не такие – не музыкальные, что ли? Хотя и руки вроде бы ни при чем – Бытько двигается, как парализованный Буратино, а ухитряется на двести групп больше меня давать. Что же делать, ведь пальцы работают на пределе?» – мучительно думал Тищенко и от волнения допустил несколько ошибок подряд. Пришлось опять снизить скорость. Все же на чем-то надо было выиграть время, и Игорь решил не печатать заглавие каждой карточки. Но все равно твердой уверенности в том, что он не последний, у Тищенко не было, и курсант решил рискнуть. В каждой карточке из тридцати групп он стал печатать на три-четыре меньше, чем положено: «Сделаю запас, а потом буду нормально печатать. Скорее всего, Гришневич, как обычно, проверит лишь конец, а начало даже смотреть не будет. А может и вообще проверять не станет. А если проверит? А если проверит, то скажу, что случайно пропустил, потому, что спешил».
– Товарищ младший сержант, у меня аппарат сломался, – неожиданно пожаловался Шороху Фуганов.
– Нада было не ламать. Стучыш па клавишам, как слон! А нада их нежна трогать, как бабу, – недовольно ответил Шорох, но все же подошел, сел на табуретку Фуганова и принялся копаться в его аппарате.
Фуганов, изобразил на своем лице некое подобие сожаления, стал рядом и наблюдал за работой младшего сержанта. «Вот Фуганов – жирная скотина, специально ведь аппарат поломал, чтобы последним не оказаться, а теперь глаза к небу закатывает и прикидывается, что жалеет об этом», – со злостью подумал Игорь. Но подумал Тищенко совершенно зря, потому что Фуганов на самом деле ничего не ломал и теперь боялся, что Гришневич может его в этом заподозрить.
Прошло сорок пять минут. Гришневич потребовал сообщить результаты и сдать ленты для проверки. Фуганову он не сказал ни слова, и последний был чрезвычайно рад такому исходу. Больше всех вновь было у Улана – девятьсот сорок групп. Это было рекордом не только взвода, но и всей роты.
– Молодец, Улан, хорошо сработал. Опять в увольнение? – спросил сержант.
– Если получится.
– На это раз получится. Ты у нас и стреляешь лучше всех, и печатаешь. Вот еще ходить бы хорошо научился – цены бы тебе не было!
Улан поморщился и все засмеялись. Во взводе было хорошо известно, что у Улана из рук вон плохо получалось со строевой, и это постоянно отравляло ему жизнь. Игорь вначале тоже засмеялся вместе со всеми, но когда Гришневич потребовал сообщить результаты дальше, Тищенко было уже не до смеха.
– Тищенко.
– Я. Пятьсот девяносто групп.
– Видишь – уже значительно лучше, чем раньше. Стоит только немного попотеть и все войдет в норму. Через месяц будешь у меня все семьсот давать, – похвалил Гришневич.
Но Игорь пока сдерживал свои чувства – еще неизвестно, как отработали его конкуренты.
– Стопов.
– Пятьсот групп.
– Мало, Стопов, мало. Надо лучше работать.
Стопов тяжело вздохнул и пожал плечами:
– Я стараюсь, товарищ сержант!
– Лучше надо стараться. Стопов, лучше! Кохановский!
– Я. Триста тридцать.
– Я не понял – сколько?! – удивленно переспросил сержант.
– Ты что, Кохановский, долбанулся? Солдат, ты охренел! Ты уже два месяца дрочишься, а еще только триста групп даешь?! Что мне Мищенко про тебя скажет, а?!
– Виноват, товарищ сержант, – едва слышно бормотал Кохановский.
– Виноват? Да ты у меня, душара вшивая, из нарядов не вылезешь! Я ведь к тебе по-человечески, а ты?! Твои родители на присяге подошли ко мне, и я отпустил тебя в увольнение, как земляка, отпустил. Я ведь к землякам всегда хорошо относился. Вон Шорох сидит… Он тоже из Брестской области. Когда надо было его сержантом оставить, я оставил. Так, Шорох?
– Была дела, – коротко ответил Шорох.
– Видишь, Кохановский – Шорох не даст мне соврать! И когда он курсантом был, а я у него командиром отделения, у нас тоже никаких проблем не было. Но он хорошим курсантом был – не стыдно было и сержантом оставить. А ты, Кохановский – натуральная чама! К тебе по-человечески, а ты… Земляк, если он чама, уже не земляк… Ладно, Кохановский, я вижу, что ты хорошего отношения не понимаешь. Будем жить по другому. Первый наряд – твой.
– Есть первый наряд – мой, – подавленно ответил Кохановский.
– Закрой рот и сядь на место, дурак! – зло крикнул Гришневич.
Кохановский хотел что-то сказать и уже даже раскрыл рот, но, после окрика сержанта осекся и два раза нервно дернул губами, будто бы ловил ртом воздух. Угрюмо проводив взглядом севшего Кохановского, Гришневич принялся с раздражением опрашивать остальных. Ответы не вызвали на лице сержанта никаких эмоций, и он, не обращая внимания на цифры, машинально записывал их в свой журнал.
«Хорошо, что я кое-где схитрил. А то бы еще, чего доброго, попало, как только что Кохановскому. Но все-таки он слабо печатает. Если бы я даже все, что положено, печатал, то все равно не меньше пятисот групп дал бы, наверное. Может пальцы у него раскоординированы?» – подумал Тищенко. Игорю было жаль Кохановского – этого простого, деревенского парня. Теперь Кохановский вечно будет в немилости – в каждый наряд начнут посылать. А еще земляк Гришневичу… Теперь это землячество ему боком вылезет. Вот и имей таких земляков… Одно слово – Говнище!»
До обеда оставалось еще немного времени. Гришневич обычно разрешал писать письмо домой, но сейчас был не в духе и приказал всем учить уставы, отправив за ними Петренчика в ЗАС-класс. Петренчик вскоре вернулся с уставами, и курсанты с унылыми лицами принялись листать «солдатские библии».
После обеда вновь печатали, а затем перешли в ЗАС-класс, где должны были отрабатывать налаживание закрытой связи. В каждом взводе был свой «секретчик», который получал в секретной части шифр из пяти цифр. Этим шифром нужно было шифровать передаваемые сообщения. Конечно, пока подошел бы любой шифр – передачи все равно никто не принимал, но курсантов с первого дня службы пытались приучить к порядку и ответственности. Поэтому учебные шифры выдавались очень серьезно, словно бы они были настоящими. После долгих размышлений Гришневич назначил «секретчиком» Байракова, показавшегося сержанту наиболее для этого подходящим. Сейчас взвод ожидал, пока Байраков вернется из секретной части и принесет шифр. Гришневич взглянул на часы – было уже десять минут пятого. Байраков задерживался. «Байраков не тормоз – можно не волноваться. Наверное, капитана долго в секретке ждал. Хорошо, что я именно его «секретчиком» назначил. А послал бы какого-нибудь чаму, так он и шифр мог потерять», – подумал сержант. Раздался призывный звонок. «Вот и он», – решил Гришневич и открыл дверь. Перед ним и в самом деле стоял Байраков:
– Разрешите войти?
– Входи. Почему так долго?
– Капитана пришлось долго ждать и еще кое-какие мелочи, – с вальяжной улыбкой ответил Байраков.
В последнее время он стал чуть ли не любимцем Гришневича и довольно часто в своих докладах стал допускать некоторую фамильярность.
– Какие еще мелочи? – насторожился Гришневич.
– Капсула по дороге выпала и развалилась на две половины. Я даже не заметил, что винтов нет. И как они могли оба одновременно выкрутиться?
Капсула была похожа на самый обыкновенный портсигар. В ней и переносился лист с шифром, чтобы его не могли увидеть посторонние глаза.
– Мне плевать, как они там выкрутились! Что с шифром?
– Ничего. Вот он, – Байраков достал из кармана немного помятый, бумажный листок.
– Почему не в капсуле? – глухо спросил сержант.
– Развалилась ведь… Я даже не сразу нашел – шифр в траву упал…, – в этот момент Байраков взглянул на Гришневича и его пробрал холодный пот.
Курсанты вслед за Байраковым тоже перевели глаза на сержанта, и в классе воцарилась мертвая тишина. Еще никто никогда не видел у Гришневича такого выражения лица. Оно было поистине ужасающим. Лицо, перекошенное гримасой гнева, горящие непонятным блеском глаза и нервное подрагивание челюсти выдавали сильное волнение сержанта. Казалось, что он сейчас ударит Байракова. Байраков натянуто улыбнулся, но было хорошо видно, что он испытывает сильнейший страх. Увидев улыбку курсанта, Гришневич взорвался:
– Ты еще улыбаешься, душара?!
После этого минуты три из уст сержанта лился сплошной поток брани. Истратив свой нервный запал, Гришневич вернулся к более нормальному языку. Он уже не кричал, а перешел на свой обычный спокойно-угрожающий тон.