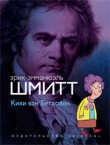Текст книги "Аппассионата. Бетховен"
Автор книги: Альфред Аменда
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц)

Часть 2
«ГЕРОИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ»

Он сидел в подчёркнуто небрежной позе, заложив ногу на ногу и покачивая носком. Время от времени он скучающе барабанил пальцами по украшавшей софу голове дельфина, переводил глаза с плафона на сидевшего у рояля пианиста и вновь пристально всматривался в зеркало.
Толстые губы и смуглое, с оспинами лицо. Взлохмаченные чёрные волосы и наморщенный лоб. Колючий взгляд маленьких серо-голубых глаз, фигура тоже не слишком импозантная, а чересчур выступающие вперёд зубы вполне подошли бы щелкунчику. В салонах считали, что он напоминает хищного зверя. В салонах.
Музыкальная Вечерняя академия, званые вечера у князя Лихновски. Дамы в роскошных платьях обмахивались веерами, так как в летний зной при горящих свечах в помещении было невыносимо жарко. Кавалеры в париках и фраках с накрахмаленными манишками обливались потом.
Он с удовольствием потянулся. В своей старой потрёпанной одежде он чувствовал себя очень хорошо. Естественно, в Бонне он запихнул в дорожную сумку парик, но никогда им не пользовался. Зачем, ведь у него есть свои волосы. Единственное, что он приобрёл в Вене для танцевальных курсов, – это шёлковые чулки до колен. Безумная затея – ведь ноги его совершенно не годились для танцев.
Господин аббат Гелинек продолжал играть свою сонату. Он считался одним из лучших пианистов. К тому же охотно пользовался славой друга Моцарта, притязая быть его духовным наследником в игре на рояле.
Чушь. Моцарт играл совсем по-другому: более изящно и отрывисто. И как ни пытался Гелинек ему подражать, у него ничего не получается.
Впрочем, там в кресле сидит ещё один человек – невысокого роста и тоже плохо сложенный. Обращали на себя внимание большой нос и смуглое, с оспинами лицо. Из-за них князь Эстергази[28]28
Эстергази (Эстерхази) – семья венгерских меценатов и музыкантов (XVII—XIX вв.). Пал — композитор; Пал Антал — скрипач, виолончелист. У его брата Миклоша в имении «Эстергаза» главным капельмейстером и придворным композитором с 1766 г. был Й. Гайдн. По заказу его внука Миклоша-младшего писали музыку Гайдн и Бетховен. Отец Ф. Листа служил у Эстергази в оркестре.
[Закрыть] при первой встрече принял его за Моцарта. Волосы под белым париком давно поседели, на смуглом, как у мавра, лице застыло добродушное выражение. Это – Йозеф Гайдн.
Рядом с ним сидел господин Альбрехтсбергер[29]29
Альбрехтсбергер Иоганн Георг (1736—1809) – австрийский композитор, теоретик, педагог. Преподавал композицию, игру на органе, фортепьяно, был учителем Бетховена.
[Закрыть]. Знаменитого теоретика и капельмейстера собора Святого Стефана в этой музыкальной пьесе интересовал исключительно контрапункт. А господин придворный капельмейстер Сальери[30]30
Сальери Антонио (1750—1825) – итальянский композитор, дирижёр, педагог; с 1766 г. жил в Вене, был придворным клавесинистом, композитором, дирижёром. С 1817 г, – директор консерватории в Вене.
[Закрыть]? Для него всё сводилось только к итальянскому бельканто. Но разве в музыке можно ограничиваться лишь этим? Месье Антон Эберт! Его музыка была такой же вялой, как и он сам, но зато в жизни он буквально летел от успеха к успеху.
Тут что-то заставило его повернуться. Молодая очаровательная княгиня Лихновски не сводила с него глаз. В её улыбке явственно проглядывал упрёк, и он его тут же понял: «Вы вновь предаётесь еретическим размышлениям».
Он изобразил на лице раскаяние, выпятив толстые губы.
Наконец-то! Буря оваций. Аббат встал и зацепился краем шёлковой сутаны за рояль.
– Кто последует? Господин Эберт?..
– После столь великого мастера?
– А вы, господин ван Бетховен?
– Благодарю, – небрежно бросил он.
– Вы ещё очень молоды, Бетховен, – аббат тщательно сложил носовой платок, – и потому я готов кое-что показать вам или объяснить.
– Благодарю. Однако...
Ситуация доставляла Гелинеку огромное наслаждение. Этот юноша, – а Лихновски, жившие с ним в предместье Альсвер в доме книгопечатника Штрауса, утверждали, что он тоже превосходный пианист, – так вот этот Бетховен вновь будет вынужден признать своё поражение, и столь полное, что никогда уже больше не будет допущен в круг столь высоких особ.
Кто-то прошептал рядом с ним:
– Людвиг...
Он увидел княгиню Марию Кристину, чуть помахивающую двумя веерами.
– Я была бы очень рада, если бы вы как мой рыцарь...
Людвиг мгновенно вскочил с места и с притворно скромным видом встал возле рояля.
– Не соблаговолит ли достопочтенный аббат подсказать мне тему для фантазии?
– Ну что ж, молодой человек, как говорится, хочешь научиться плавать, не бойся прыгать в холодную воду. Желаете лёгкую или сложную тему?
В маленьких колючих глазах Людвига сверкнули огоньки.
– Наверное... лучше лёгкую.
– Прекрасно, – с наигранно слащавой предупредительностью в голосе ответил аббат. – Тогда возьмём начало гаммы до мажор.
Он начал играть, но тут князь Лихновски своим знаменитым на всю Вену басом резко возразил:
– И это, Гелинек, вы называете лёгкой темой?
Людвиг сидел у рояля, его мощная грудь вздымалась от тяжёлых вздохов. Он коснулся клавиш пальцами правой руки, потом пальцами левой, и тут его охватил страшный гнев. До чего ж противен этот надменный аббат с его слащавой манерой. А как он похвалялся своей виртуозной техникой! Безусловно, без неё не обойдёшься, но разве всё сводится только к ней одной?
Но почему князь Лихновски, который, безусловно, желал ему победы в этом турнире, вдруг сдвинул брови? Смех, да и только, ему просто стало страшно за свой рояль из знаменитой мастерской Зильбермана. Разумеется, когда начинаешь играть, не слишком заботишься о сохранности инструмента. Но ничего, ничего, так, попробуем даже из столь жалкой темы сделать музыкальную пьесу наподобие только что сыгранной аббатом в шёлковой сутане его так называемой «Большой сонаты». Можно даже доставить себе удовольствие и продемонстрировать публике её полную никчёмность.
Тут он вспомнил ещё кое о чём. Гелинек играл отрывисто а-ля Моцарт, а поскольку Людвиг играл совсем по-иному, они вполне могут предположить, что лучше он просто не может. Эти глупцы всерьёз утверждают, что он испортил себе руки органом, не понимая, что на самом деле он хотел найти новую манеру игры на органе.
Нет, он будет играть именно как Людвиг ван Бетховен, как рыцарь своей дамы. Он стал поклонником княгини Марии Кристины с первого дня их знакомства и с тех пор хранил в сердце своём её красоту, очарование и печаль из-за того, что брак её оказался несчастливым.
Несчастливым из-за князя Карла, хотя он...
Вон он стоит с подчёркнуто безучастным видом, а ведь в душе, безусловно, желает победы именно ему, Людвигу.
Голова закружилась, глаза подёрнулись туманной пеленой, он заставил себя извлечь из рояля последние пьяняще-ревущие звуки и в диссонанс им закончил вариацию мелодической фигурой.
Она встала рядом и помахала над ним веером.
Аббат крадущейся походкой удалился, сказав на прощанье, что «с вами лучше не связываться. В вас словно вселился дьявол».
Через несколько минут господин Гайдн сказал:
– Людвиг, я хочу непременно ещё сегодня услышать вашу музыку.
В нём всё внушало уважение: и косичка на парике, всегда точно ложившаяся на середину воротника безупречно сидящего фрака, и всегда пахнущее свежестью жабо, и даже отвислая нижняя губа, ничуть не портившая его добродушное смуглое лицо.
– Ну так как, бахвал?
Для Гайдна подобное обращение символизировало доброе и дружеское отношение.
– Иначе я вообще бы сюда не пришёл, бахвал. В Лондоне от меня ждут шесть симфоний, а я ещё никак не закончу третью. Я бы мог взять вас с собой в Лондон. Как полагаете, ваш опус подходит для англичан? И вообще будьте любезны рассказать о нём подробнее.
– Он представляет собой три фортепьянных трио, маэстро.
– Вот как? Ну, а где же исполнители струнных инструментов?
– Они уже ждут, – улыбнулся Людвиг. – Заходите, Игнаций и Николас.
Первый из них был сыном преподавателя Венского реального училища Шуппангера, под началом которого Людвиг намеревался восполнить пробелы в своём школьном образовании. Высокий толстый мальчик оказался весьма одарённым скрипачом.
Маленькому и тощему как жердь Николасу Крафту исполнилось всего четырнадцать лет. Было смешно и трогательно смотреть, как он, пыхтя и надуваясь, тащит свою виолончель. Князь Карл лично подвинул пюпитры и своим набатным голосом заявил:
– Мадам и месье! Воистину мы, видимо, в преддверии исторического события. В городе, знавшем Моцарта и глубоко почитающем маэстро Гайдна, городе, над которым сияют звёзды других знаменитостей, перед нами предстал молодой композитор Людвиг ван Бетховен, только что показавший себя настоящим виртуозом игры на рояле. Сейчас вы прослушаете его сочинение.
Людвиг повернулся и увидел, что оба мальчика широко раскрытыми глазами смотрят в ноты. Он прекрасно понимал их состояние. Нельзя допустить ни одного фальшивого звука, чтобы не навредить Людвигу, которого они просто боготворили.
После первого трио, когда подстраивались струнные инструменты, Гайдн сдавленным от волнения голосом произнёс:
– Могу сказать только, что можно больше не скорбеть о безвременно ушедшем от нас гении Моцарта. Он воплотился в вас, бахвал.
Гайдн опустил голову и недоверчиво, даже с каким-то чувством стыда взглянул на свои руки с набрякшими старческими венами. Он вспомнил слова, которые граф Вальдштейн, прощаясь с Бетховеном в Вене, занёс в книгу памятных записей: «Усердие позволит вам принять гений Моцарта из рук Гайдна».
Первый же резкий аккорд вызвал бурю аплодисментов.
Внимание!
В глазах его сверкнула молния, в них читалась неприкрытая угроза: «Только попробуйте ещё раз так же вяло играть! Я с вами больше нянчиться не буду!»
Они прекрасно знали, что творится сейчас в его душе. Это трио отличается от двух предыдущих. Ещё на репетиции он сказал им: «Это, собственно говоря, моё первое произведение».
Начали!
И тут вдруг каким-то непостижимо-дьявольским образом холодные маленькие серо-голубые глаза Людвига сделались огромными и чёрными.
Игнаций с такой силой рвал смычком по струнам, что измученная скрипка порой стонала. Николас пыхтел, как котёл на огне, по его лицу мелькали огненные блики...
Людвиг чуть улыбнулся им: хорошо, мальчики, хорошо. А ну-ка попробуем заставить скрипку звучать ещё громче. Вот так...
Теперь он не мог своих музыкантов даже взглядом удостоить...
После окончания трио прошло уже несколько минут, но почему господин Гайдн молчит? Ведь все вокруг ждут его оценки.
Гайдн сидел, откинувшись на спинку кресла, и нервно потирал подлокотники. Наконец он выпрямился и тихо спросил:
– Последнее трио вы также хотите отдать в типографию?
Глаза Людвига опять стали маленькими, серо-голубыми и холодными.
– Разумеется.
– Я бы на вашем месте этого не делал.
– Но его уже печатают, господин Гайдн.
– Естественно, я не навязываю вам своего мнения, господин ван Бетховен.
– А это бесполезно.
Ох уж эти его внезапные приступы гнева! Все вдруг почувствовали: произошло нечто, развеявшее царившую здесь атмосферу тепла и уюта.
Антон Эберт резко шагнул вперёд. Он полагал, что теперь ему не придётся расплачиваться за чрезмерную самоуверенность.
– Вам удалось победить Гелинека, Бетховен. Но если последнее трио и есть ваш новый самобытный стиль, я бросаю вам вызов уже как композитору. Попробуйте написать симфонию. Полагаю, вы примете мой вызов только в том случае, если всерьёз намереваетесь покончить с собой.
Эберт широко улыбнулся и с видом победителя отошёл в сторону.
Душная жаркая ночь наконец разразилась дождём, и с ветвей платанов непрерывно капало.
Никогда ещё ничего подобного с ним не случалось. Даже пережитое в Амстердаме не шло с этим ни в какое сравнение. Ведь если там была просто выходка глупого мальчишки, то ныне его оскорбил мудрый, добрый, великодушный Йозеф Гайдн, которого он считал высшим авторитетом. А ведь своим последним произведением он доказал, что вышел за рамки ученичества.
Казалось, тайна взирала на него подобно этим надгробным камням, зыбко очерченным в ночной мгле.
Он думал так напряжённо, что даже затрещала голова. Зачем он забрёл на кладбище? Ни тайна, ни надгробные камни не давали ответа. Ну хорошо, ладно, вернёмся к недавнему эпизоду. Неужели господин Гайдн с его чуть покачивающейся, украшенной косицей парика головой не понял его композицию? Да, согласен, его язык необычен, но одновременно понятен, как букварь. А ведь Гайдн – нужно отдать ему должное, – пусть по-своему, понимал язык любой музыки. Неужели он просто разонравился ему?
Он прислушался, будто ожидая ответа, но услышал только учащённое биение своего сердца. А с ветвей платана, под которым он укрылся, всё капало и капало.
Так, вроде бы это кладбище Святого Марксера? Верно. Эдакая общая могила, куда без разбору бросали бедняков и тех, чьи имена так и не удалось установить. Может быть, его когда-нибудь тоже похоронят здесь.
А чья это тёмная спина вдруг показалась во мраке? Неужели это он? Прекрасно, сейчас я обращусь к нему с речью.
– Извините, пожалуйста. – Он вежливо поклонился. – Я ещё в Бонне твёрдо решил по прибытии в Вену первым делом нанести визит именно сюда, но, сами понимаете, постоянно что-то мешало. Правда, сейчас не слишком удобное время, но мы творцы... – Он смешался, понимая, что нужно сразу поправиться и не ставить себя с ним на одну доску. – Разумеется, мне далеко до вашего гения, вы написали «Волшебную флейту» и «Симфонию Юпитера», а я пока ещё не отважился даже приступить к созданию симфонии. А ещё вы написали концерт для скрипки ля мажор, мне его играл мой кузен и прекрасный скрипач Франц Ровантини. Неужели в Зальцбурге вы и впрямь ели за одним столом с прислугой? Извините, это действительно вы, а это действительно ваша могила? – Он снова поклонился. – Впрочем, меня зовут Людвиг ван Бетховен, и я имел счастье познакомиться с вами во время тогдашнего короткого визита в Вену, но вы, конечно, не запомнили моё имя. И конечно, вы знаете господина Йозефа Гайдна лучше и дольше, чем я. Не хотелось бы говорить о нём плохо, но скажите, как по-вашему, он способен на зависть? Прошу прощения, я, разумеется, не вправе задавать столь бестактные вопросы. И вообще не должен вас ни о чём спрашивать. Ибо вы – гений солнца, а кто я? И уж если быть до конца объективным по отношению к себе, то я назвал бы себя гением тьмы или печали. А всему виной тяжёлое детство, уродливая внешность и многое другое. Но я не хочу докучать вам перечислением моих бед. Естественно, я также стремлюсь к солнцу и прошу вас поверить мне. Я вообще немножко сумасшедший, иначе я не прибежал бы посреди ночи на вашу могилу за советом. Но может быть, это всё-таки не ваша могила? Увы, никто не знает, где покоится ваше тело. Ну всё, всё, не хочу вам больше надоедать. Нужно всё-таки хоть какую-то гордость иметь.
Он вслушался в темноту, и вдруг к мерному постукиванию капель о землю примешались ещё какие-то, похожие на голоса звуки. Тогда он стремительно бросился прочь мимо статуи ангела с влажно поблескивающими в темноте позолоченными крыльями.
В городе призраков спугнули тускло освещённые окна домов. Но благая весть, посылаемая этим светом из людских жилищ, не только не доходила до Людвига, но, напротив, превращала его в ещё большего изгоя.
Какими же неверными и ненадёжными оказались они все... Даже княгиня предала своего рыцаря.
Перед Дворцом правосудия горели факелы, бросая дымные отсветы на портупеи, треуголки и обнажённые шпаги полицейских, а также на бесформенные шляпы щёголей и чепчики их хихикающих подружек. Интересно, что побудило их в столь поздний час торчать у позорного столба?
На сколоченном из неотёсанных досок помосте стояли два якобинца с табличками на груди. Позади в нише возвышалась каменная статуя Фемиды с мечом в правой руке и повязкой на глазах. Тем не менее она была очень похожа на рыночную торговку.
Людвиг уже видел обоих мятежников днём, но сейчас, когда пламя факелов то ярко вспыхивало, то едва не угасало, это зрелище производило особенно жуткое впечатление.
Они оба промокли насквозь, волосы прилипли ко лбу. Порой их гигантские тени ложились на Дворец правосудия с его высокими узкими окнами. Затем всё обретало прежние очертания, и они вновь оказывались обычными людьми. Юношу уже шатало от усталости, старик же казался ещё более неподвижным, чем статуя за его спиной. Голова его была повёрнута так, словно он вслушивался в темноту переулка. Неужели он пытался уловить в ней чеканную поступь батальонов, марширующих под доносившиеся из-за реки звуки «Марсельезы»? Но ведь здесь не было ни широкой реки, ни отблеска бивачных костров в её бурных водах.
Грохот почтовой кареты заставил Людвига отвлечься от воспоминаний о Бонне с его церквами, где он играл на органе, и последнем пристанище отца и матери.
Их семья распалась самым отвратительным образом. Мать умерла от чахотки, но ещё раньше нечто похожее на медленно действующий яд полностью испортило их отношения. Почему? Он и сам толком не знал. Может быть, он сильно изменился, и мать перестала понимать его. Что же касается отца, то в Бонне его за беспробудное пьянство лишили родительских прав. После его смерти курфюрст, поглаживая свои отвислые, как у бульдога, щёки, меланхолично сказал: «Какая потеря для акцизов на водку».
Облегчённо вздохнуть и хоть немного забыться он мог тогда только в доме Бройнингов. Ибо там бывал также коаудитор курфюрста молодой граф Вальдштейн, слывший большим ценителем не только музыки, но и вообще изящных искусств. Такого рода увлечения побудили обывателей, боявшихся всего на свете, шёпотом обвинять его в легкомыслии, могущем повлечь за собой весьма серьёзные последствия.
Людвигу же неожиданный взлёт Вальдштейна принёс только благо. Он получил возможность впервые посетить Вену. Правда, тогда ему пришлось срочно вернуться назад – к смертному одру матери – и сразу же окунуться во всю эту домашнюю грязь.
Но разве так хорошо запомнившаяся вторая поездка в Вену не была чистейшей воды авантюрой? Получивший отпуск за свой счёт придворный музыкант отправился туда, оставив братьев на попечение господина Риза, у которого он взял ещё несколько уроков игры на скрипке. Без особой пользы, правда, но это уже выяснилось, когда он в восстановленном здании Национального театра какое-то время изрядно помучился с альтом.
В Национальном театре ставили оперы и драмы, но, как стало понятно чуть позже, самый грандиозный спектакль был устроен во Франции.
Ох уж этот Евлогий Шнайдер, которого курфюрст пригласил преподавать художественную литературу во вновь открывшийся Боннский университет, хотя этот бывший монах-францисканец из Вюрцбурга прямо-таки воплощал собой ненавистное вольнодумство! Но у монсеньора были свои основания для такого, на первый взгляд странного поступка. Подобно своему покойному брату императору Австрии Йозефу, он хотел с помощью кое-каких послаблений отвести от своих владений угрозу надвигавшегося на них французского исполина.
Людвиг, естественно, также записался на лекции Шнайдера и порой даже появлялся в аудитории в парадном придворном платье. И если у Христиана Готтлиба Нефе он учился музыке, то Евлогий Шнайдер воспитывал в нём бунтарство во имя прав человека.
Некто Руже де Лиль написал для отправленной на борьбу с войсками интервентов и отрядами княжеских наёмников Рейнской армии гимн[31]31
...Руже де Лиль написал... гимн... – Патриотическая песня, ставшая позже национальным гимном Франции, была сочинена в 1792 г. офицером Руже де Лилем для Рейнской армии. Она так и называлась Военной песней Рейнской армии. Первыми её узнали и исполнили марсельцы, отсюда её новое название «Марсельеза».
[Закрыть], под звуки которого добровольцы из Марселя вступили в Париж и были встречены ликующими криками толпы.
Профессор пропел ему тогда эту песню:
В каждой её строке звучал гнев, упорство и готовность умереть за свободу.
Уже позже он вновь услышал эту песню в ту памятную ночь, когда на другом берегу Рейна бивачные костры сверкали в ночи, словно звёзды...
Почтовой карете, в которой ехал Людвиг, пришлось сделать крюк, чтобы добраться до ближайшей переправы через Рейн. Кучер старался беречь лошадей, колёса жалобно поскрипывали, и лишь в Кобленце карета вдруг во весь опор понеслась по трапу речного судна.
Ожидания выставленного в Вене у позорного столба мятежника наверняка окажутся оправданными. Добровольцы из Марселя в один прекрасный день войдут в Вену. Уже пал Тулон – легендарная крепость, построенная не менее легендарным Вобаном и считавшаяся неприступной. Однако её ухитрился взять штурмом некий французский офицер. Из газетных сообщений следовало, что имя его – Наполеон Бонапарт, что он невысокого роста и что ему только двадцать четыре года. Всего на год старше Людвига. Далее газеты писали, что Конвент вот-вот присвоит ему звание генерала.
Ну почему его, Людвига, в такое время угораздило стать всего лишь музыкантом, а не, скажем, солдатом?
Всего лишь музыкантом? Так, может быть, стоит произвести революцию в области музыки?..
Эта мысль вполне в духе бахвала. Так, наверное, сказал бы Вобан музыки – господин Гайдн, который, строя из своих симфоний, квартетов и трио самые настоящие фортификационные сооружения, тоже считает себя непобедимым. Но может быть... может быть, он также заблуждается?
Возможно, последнее трио до минор Людвига – это его Тулон, и он уже вывесил своё трёхцветное знамя над бастионами традиционной музыки?
Пока он не смог найти ответа на этот вопрос.
Время подобно полёту птицы – взмах крыла, стремительное скольжение по небу, и вот уже нет ничего.
Как же он истосковался по вестям из родного Бонна. Но нет, вместо того чтобы беседовать с друзьями, нужно идти на этот проклятый концерт.
Людвиг встал, подошёл к роялю, взял несколько аккордов, вернулся к письменному столу и окунул перо в чернильницу.
– Эй, Франц, ну-ка принеси мне ещё одну пилюлю!
Молодой врач, менее часа назад прибывший в Вену, скорчил недовольную гримасу:
– Ты их ешь как конфеты. По-прежнему ни в чём меры не знаешь. И всё равно я ужасно рад встрече с тобой, старина Шпаниоль.
– Неужели Элеонора действительно так радовалась моей дедикации?[33]33
Посвящение (лат.).
[Закрыть] – Людвиг широко улыбнулся и щёлкнул пальцами. – Впрочем, наверное, мне не следовало так неуважительно называть твою невесту фрейлейн фон Бройнинг. Извини меня.
– Мы готовы простить любые твои причуды. Кстати, Леноре интересуется, как продаются твои вариации?
– Кому нужны композиции некоего господина Людвига ван Бетховена? – Он пренебрежительно помахал пером. – И потому я хочу подвести под ними черту. Вот так, например!
Он вывел на нотной бумаге линию, и Вегелер удивлённо спросил:
– Ты серьёзно?
Он подошёл поближе и нервно забарабанил пальцами по столешнице:
– Какая досада, Людвиг, что приход французов лишил меня должности ректора Боннского университета. Иначе я бы явился сюда в мантии с золотой цепью на груди и вручил бы заверенную печатью грамоту о том, что такого идиота, как ты, я в жизни своей не встречал. Или, может, подождём, пока ты снова придёшь в нормальное состояние?
Молодой врач обнял друга и вопросительно посмотрел на него.
– Здесь внутри бушует пожар. – Людвиг прижал руки к вискам, – но он отнюдь не вдохновляет меня на сочинение музыки, а напротив... Ой как болит голова! Дай мне ещё таблетку.
– Возьми, но учти, это точно последняя. Ты и так ходишь, словно лунатик.
– С моей грудной клеткой я могу принять лекарства в количестве, способном убить лошадь. Ну почему, почему так болит голова?!
– Видимо, потому, что на дворе мерзкая весенняя погода.
– А может, из-за насморка, который я подхватил несколько недель тому назад. – Людвиг брезгливо поморщился. – До чего ж горькая дрянь!
В марте сумерки всё ещё сгущались рано, и потому в комнате вскоре стало темно.
– Зажечь свет, Людвиг?
– Нет!
Ответ прозвучал так грубо, что Вегелер не отважился даже подбросить в почти уже погасший камин новое полено. Людвиг встал, зажав перо зубами, подошёл к роялю и сыграл несколько пассажей. Затем приподнялся, швырнул перо на полированную крышку рояля и забормотал нечто невнятное – может, заклинание или какую-нибудь магическую формулу, – обращаясь к смутно белеющему в темноте рыхлому листу нотной бумаги.
– Ну наконец-то. – Он облегчённо вздохнул. – Fine[34]34
Кончено (лат.).
[Закрыть], но должен признаться, этот концерт си-бемоль мажор славы мне не прибавит.
– А теперь черёд рассыльного. – Вегелер мгновенно вскочил с места, отнёс ноты в соседнюю комнату и, вернувшись, удивлённо заметил: – Они строчат перьями так, что дым идёт. У тебя здесь настоящая мануфактура.
– Так будет и дальше. – Людвиг вновь сидел за роялем, стараясь, однако, к нему не притрагиваться. – Ты находишь моё состояние плачевным, правда, Франц? Но виной этому отнюдь не головная боль, а твой визит. Ты ведь приехал из моего родного города. Подумать только, в двадцать девять лет стать ректором Боннского университета. У меня поистине выдающиеся друзья.
– Были когда-то такими, – угрюмо буркнул Вегелер. – Однако всё наше величие поблекло под звуками «Са via» и «Marseillaise»[35]35
«Карманьола» и «Марсельеза».
[Закрыть]. Остаётся лишь радоваться тому обстоятельству, что революция, подобно Сатурну, пожирает собственных детей. Ты, вероятно, уже знаешь, что Евлогия Шнайдера отправили на гильотину.
– Разумеется, – саркастически улыбнулся Людвиг. – А здесь, в столице Священной Римской империи, продолжают вешать.
– Ты неисправим.
– Как поживает Зимрок? – Людвиг никак не отреагировал на его слова.
– Издаёт музыкальную литературу. В наши дни это требует огромных усилий. Как бы то ни было, он очень благодарен тебе за письмо.
– А Нефе? Хотя нет, подожди, не рассказывай мне сегодня ничего о Бонне. Ведь там для меня по-прежнему дом родной, а здесь – чужбина, но о Лихновски я ничего плохого не могу сказать.
– Как ты вообще оказался у них?
– Совершенно случайно, хотя граф Вальдштейн дал мне их адрес. Я снял мансарду в доме книгоиздателя Штрауса, и когда Лихновски услышали как-то мою игру на фортепьяно – должен сказать, что князь сам весьма недурно играет, – то взяли меня к себе жить. И с тех пор я блистаю, понимаешь, Франц, блистаю своим искусством в салонах и дворцах Кински, Фризов, Вальдхеймов, Свитенов и многих других.
Тут вдруг распахнулась дверь, и комнату заполнил громовой голос Лихновски:
– Подумать только, этот мужлан даже свет не удосужился зажечь! Надеюсь, господин доктор, вы не станете винить в этом несчастного Лихновски.
Он позвал лакея, который тут же принёс в комнату светильник.
– Завтра репетиция, Бетховен. Оркестр будет выступать здесь. К сожалению, мой настройщик заболел, никакого другого к столь дорогостоящему инструментуя просто не подпущу.
– Тогда я транспонирую концерт на полтона выше.
– Вы слышите, доктор? – Князь недоумённо покачал головой. – Он собрался транспонировать целый фортепьянный концерт, как будто это так просто. Впрочем, Бетховен, я уже настоятельно просил одного из критиков непременно упомянуть в рецензии вашу знаменитую фамилию. Ну пойду побеспокоюсь об афишах, а потом немедленно садимся за стол господин доктор.
С этими словами он снова покинул комнату.
Людвиг какое-то время стоял в раздумье, затем сел к секретеру и начал лихорадочно что-то черкать на листе нотной бумаги. Через несколько минут он как одержимый бросился к роялю.
– Сейчас я тебе спою, Франц. Мой ужасный голос тебе уже знаком. Посмотри, хватит ли огня в камине, чтобы потом, если потребуется, сжечь эту халтуру.
Он исполнил прелюдию, потом ещё раз окинул глазами комнату.
– Не огорчайся, Франц. Это всего лишь коротенькая песенка на слова Маттисона, называется «Аделаида».
Людвиг, как разъярённый зверь, бегал взад-вперёд за кулисами Императорско-королевского придворного театра. Он втянул голову в плечи, выпятил грудь и держал руки за спиной Он едва не сбил с ног импозантного мужчину, который тем не менее любезно улыбнулся ему и спросил:
– Сценическая лихорадка, господин ван Бетховен?
И лишь когда он ушёл, Людвиг вспомнил, что это был член правления Музыкального общества. Что он сказал? Сценическая лихорадка? Смешно!
Музыканты уже расселись на сцене, партер заполнился публикой, и даже в обычно занавешенных портьерами с золочёной бахромой ложах не было ни одного свободного места.
Зрители бурной овацией проводили господина Гартелльери, поблагодарившего их низким поклоном. Только что исполнили часть его симфонии, представлявшей, в сущности, лишь подражание Моцарту. Тем не менее аплодисменты долго не смолкали, и, значит, у него, Людвига, нет никаких шансов... Ведь афиши широко оповещали о симфонии господина капельмейстера Гартелльери и его грандиозной оратории «Царь Иудейский». Чуть ниже небрежный мазок кистью и неясные письмена, оповещающие почтеннейшую публику о фортепьянном концерте некоего Людвига ван Бетховена. Всё это устраивалось якобы в пользу вдов и сирот членов Музыкального общества, но на самом деле господин Сальери просто решил почтить своего любимого ученика, двадцатитрёхлетнего вундеркинда Гартелльери. Да какой он вундеркинд!
Жаль, очень жаль, что его фортепьянный концерт так далёк от совершенства. А ведь прошло уже почти двадцать лет со времени его первого публичного выступления тогда на Штерненгассе в Кельне. Вообще-то говоря, для пианиста-виртуоза довольно постыдный фактор.
Он вновь начал бегать за кулисами взад-вперёд и вспомнил, что никак не мог завязать галстук. Долго мучился с ним, пока Мария Кристина не подошла к нему и не сказала:
– Позвольте вам помочь, господин ван Бетховен.
Она умело повязала ему галстук, он поцеловал ей руку и уже хотел было коснуться губами её соблазнительно приоткрытого рта, как вдруг в комнату вошёл князь Лихновски.
– Сразу предупрежу вас, Бетховен, что при первом же вашем появлении на сцене грянет гром аплодисментов. Я желаю устроить эдакий триумф в вашу честь.
Он говорил, как всегда, невыносимо громко, страшно гордясь собой, и тем не менее был искренен в проявлении дружеских чувств. В этих условиях искать благорасположения Марии Кристины было бы, попросту говоря, бесчестно. Пусть даже их брак был чистейшей воды фикцией, пусть...
– Впрочем, Бетховен, в ложе рядом со мной будет сидеть Магдалена Вильман.
Ах, ну да, в Бонне он был какое-то время влюблён в эту певицу, но расстался с ней без сожаления, и потом новая встреча в Вене, где она уже была примадонной. Здесь он сделал ей предложение и получил решительный отказ. «Мой милый Людвиг, – сказала она тогда, – в Бонне я, не раздумывая, согласилась бы, но здесь я изменила мнение о тебе. Ты для меня слишком невзрачен и... слишком безумен».
Конечно, в какой-то степени Магдалена мстила ему, ибо в Бонне он изменил ей. А в остальном? Ведь он хотел не просто жениться на ней, нет, ему нужен был кто-то рядом, постоянно напоминающий о Бонне. Нет, очень хорошо, что она отказала ему.
На сцене кто-то громко объявил:
– Господин ван Бетховен!..
На всплеск оваций он ответил сдержанным полупоклоном, немедленно сел за рояль и, сыграв трезвучие, дал оркестру возможность ещё раз настроить и проверить инструменты. Капельмейстер Гартелльери кивком выразил готовность начать играть.
Нет! Вторые скрипки ещё не настроены, не говоря уже о виолончели!
– Гартелльери!..
Капельмейстер уже поднял дирижёрскую палочку.
– Запомните, Гартелльери: от вас требуется только вести голоса в соответствии с разложенными на пультах нотами. Всё остальное вас не касается. – Он говорил с капельмейстером нарочито пренебрежительным тоном. – Я же буду импровизировать.
Он вернулся к роялю, Гартелльери пожал плечами, пошептался с музыкантами и согласно кивнул. Они уже привыкли к выходкам этого шута горохового Людвига ван Бетховена.